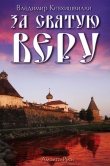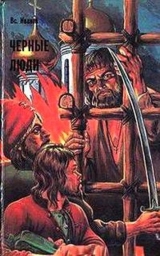
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 42 страниц)
Глава пятая. Селивёрст Пухов
Селивёрста Пухова Тихон привел в избу, за стол никого из своих не звал. Марья, сверкая зубами и глазами, сама собирала стол, как положено на такой праздник, уставила братинами с пивом, с медом, поставила вино, настойки. Девки понесли еству в глиняных, оловянных, деревянных блюдах – пряженое, пареное, жареное, пироги, баранину, оленину, убранные огурцами да капустой с подливками, с луком да чесноком, рыбу жареную, тельное, миски с похлебкой, ухой, со сладким взваром.
Больно был рад хозяин нежданному гостю, угощал, подкладывал, наливал, оживало ведь пережитое, вставала Двина в золотых песках, Сёмжа, изба Паньшиных.
Доброе пиво, поданное иноземной девкой, косоглазой чернавкой, развязывало путаные петли, в душах, таяло, грело в груди, и под праздничный топот пляски со двора, под песни да веселые голоса оба мужика помягчели, заговорили.
– Бежишь, стало быть? – спросил Тихон, заглядывая в пустую братину, а вошедшая на этом слове Марья, как конь, вздернула головой. – Марья, девке скажи, нацедила бы пива… – добавил он.
– Бежим! – отозвался Селивёрст и сверкнул исподлобья взглядом – Куда денешься!
– Для чо?
– А кому на рать идти охота? На войну! У Ревякина я в артели ходил, у Ивана Васильевича, лодьи в Вологду гонял, а он в датошные люди[84]84
На военную службу.
[Закрыть] меня определил. Мне подводу давал, с подводой посылал… «Ты, говорит, Селивёрст, иди воюй, господь с тобой… Ты-де у меня в кабале. Я, говорит, тебе полвтора рубля на одежу давывал… Верно?» – «Верно, говорю, брал я!» – «А ты не доправил?» – «Не!» – «Так что ж, говорит, я с тебя возьму? Ступай в ратные люди, с моей подводой…» Я и побежал, бросил все!
– Царь рать прибирает?
– Нет, не царь! Кабы царь!
– Кто же?
– Патриарх! – вздохнул Селивёрст.
– Патриарх?
– Ага! Новый! Никон-патриарх! И приказал он, Никон, сбирать в Устюге подводы да гнать их под Кромы… На рубеж. Война, чу, будет!
Тихон улыбнулся:
– Его ли это, патриаршье, дело?
– Е-го-о! Патриарх-то теперь, сказывают, все указывает царю. В царя он место…
Селивёрст опять обугрюмел, взгляд ушел глубоко, однако сутулость исчезла, выпрямился, тряхнул волосами, поднял брови: трудны слова черным людям!
– Бают, патриарх-то ноне царя поболе! – прогудел он. – Силен он, государь!
– Кто ж так лает неподобно? – пригнулся к скатерти Тихон.
– Монахи сказывали. Соловецкие. Я на Соловки подался, как убежал-то! Чо делать? Монахи, они все знают! Грамотные, – шептал Селивёрст. И тоже грудью налег на стол, раскинул по суровой скатерти черные руки-клешни. – Беда идет, бают! В деревнях курицы петухами поют. Патриарх ноне царем правит. Да-а!
Силен патриарх! Ой, беда, беда! Царь обещание дал из воли Никона не выходить. И, сказывают, весь народ видел – царь да бояре поклоны перед Никоном бьют, а покойник ручку эдак из гроба поднял, костяным пальчиком грозит. Страсть! Ну, потом опять лег в гроб.
Сквозь свисшие со лба прямые космы волос очи Селивёрста горели углем.
Окна горницы были настежь, широким кругозором глядела в них вековечно свободная, тихая земля Сибирская, в тайге кое-где полыхали алым огнем первые клепи.
Селивёрст рассказывал все это потрясенно, коряво, приукрашенно, да так, почитай, оно и было, как он говорил.
В жаркий июльский день переполнивший Успенский собор народ московский, чины, бояре, духовенство во главе с царем Алексеем у гроба Филиппа стояли на коленях перед Никоном, митрополитом Новгородским и Великолуцким, кланялись земно со слезами, потрясенно, умоляя жесткобородого, седеющего гордеца возложить на себя сан патриарха Московского и всея Русии, чтобы спасти земное могучее царство, насквозь просветив его вечным небесным светом. Вопящему, рыдающему народу в могучем монахе, в пудовых золотых ризах чудились великие силы и орлиная зоркость духа. Косматые, бородатые головы кружились от веры, курился синий ладан над высокими сводами меж четырех столпов Успенского собора, солнце сияло над Москвой, над блаженной толпой, стоявшей на коленях по всей Ивановской площади. Казалось, сам господь бог с сонмом небесных сил своих – вот-вот сойдет с небес, укрепит этих мятущихся, взволнованных людей Москвы. Твердо, хитро и расчетливо шел Никон по пути, который предсказал ему когда-то мордовский колдун.
Два раза отказывался Никон, три раза валились перед ним земно царь, бояре, народ.
– Будете ли вы почитать меня как отца верховнейшего? – выговорил наконец Никон. – Дадите ли вы мне власть строить церковь?
Великой клятвой клялись царь и бояре, что будут исполнять все, что укажет Никон.
Никон тогда согласился, и в церемонии настолования патриарха Корнилий, митрополит Казанский и Свияжский, возгласил:
– Божественная благодать, еже всегда немощная исцеляюща и недостаточная восполняюща, поставляет бывого митрополита Новгородского и Великолуцкого Никона, ныне же патриарха в богохранимом царственном граде Москве и всея Русии.
– Аксиос![85]85
Достоин! (греческ.).
[Закрыть] – трижды прогремел хор.
Новый патриарх обратился тогда к царю и к народу со словом. Он сказал так:
– Мы же должны молити всемогущего бога, яко да тобою, пресветлым государем, благочестивое ваше царство снова он воспрославит и распространит от моря до моря и от рек до конца вселенной, и все расточенное во благочестивое твое царство возвратит и соберет воедино, чтобы был ты вселенским царем и самодержцем христианским, сиял бы, как солнцу единому посреди звезд…
А после обедни Никон в шествии ехал сам, словно Христос на осляти, вокруг Кремля, а коня вел под уздцы покорно царь Алексей.
Твердо ступал Никон на ступеньки патриаршьего престола…
Селивёрст уже не ел, пил только, рассказывал вести о московских делах, и страшные вести эти, докатившись по всей земле до Сибири, несли с собой смятенное, горькое похмелье. Или колебалася земля, шло великое нестроение? Или опять воровали начальные сильные люди?
Никогда не забывал черный народ боярской шатости и лукавства в Смуту, никогда не верил боярской Москве. Старики-то еще помнили, как в Лихолетье вились «вящие» люди страны вокруг воров и самозванцев, ища прежде всего себе не правды, а наживы да самовольства. И народ громил их в своих восстаниях и бунтах, вспыхивающих то и дело по всей земле.
Но снова и снова покорно из-под меча замирялись черные люди, снова впрягались в свое тягло, принимались делать первое свое дело – обихаживать кормилицу землю, и всю жизнь свою работали немудряще, хоть и по-разному, и Тихон и Селивёрст, взыскуя только мира и труда. И в этой беседе сполошным черным дымом с далеких московских рубежей вставала смутная тревога:
«Народ дал живому царю власть, а царь отдавал ее угрюмому монаху, хитрому и неистовому».
Обилен, наряден стол в избе Тихона Босого, прочно все это довольство, а за окошками горницы горит рыжий осенний закат, высокие багряные облака, видны в них пылающие горы, темные провалы пещер. Вон одно облако – словно лев, поднялось медленно ввысь – обернулось верблюдом, встало великаном-богатырем, уплыло, сгинуло в бездонной пазухе. Все смешалось в зарном море алого, багряного, лилового света, из туч встали зубчатые, города, золотые башни их курились, из ворот мчались словно рыжие кони войны.
«И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтоб убивали люди друг друга!» – слышит Тихон ровно голос бабеньки Ульяны. Да еще стоит в ушах жалостный гнус с печи слепого старика тогда, зимой, на Заезжем дворе, как в Кремле в стрелецком карауле видел он скачущего на коне по небу ляха. Тихон инда тряхнул волосами. Наважденье! Или, значит, бросай работу, подымайся на великую борьбу за правду, за народ, за свободный труд?
А когда ж работать?
А с кем бороться? Как бороться? Сильны оба они, Тихон да Селивёрст, да простецы они! Ничего не знают! Кому их вести? Что делать, как делать?
Селивёрст понурился, волосы опять закрыли ему лицо, говорил быстро и тихо:
– Что же это будет? От воевод да от бояр и так спасенья народу нету, а теперь и попы все боярами того гляди станут? Править народ на правеже будут. Бе-да! Монахи в воеводы полезут.
– Да кто сказывал про то? Кто-о?
– Говорю – монахи! Я жил тамо… Народу так много, не сыщут. Рыбу монахам ловил… Хороши у них ловли-то, спаси бог! Ох, хороши…
Селивёрст, навалясь на стол, теперь гудел неудержимо:
– Монахам все ведомо! Книги святые патриарх указал нынче переписать, книги-и… По тем книгам отцы наши да святые люди… трудились, молились да землю спасали…
А ныне-те книги не в книги!.. Да патриарх, чу, иконы своей ручкой об чугунный пол бьет, жечь велит… Молвить страшно, что творит…
– Взбесился он, что ли? – запинаясь, выговорил Тихон.
– Греки, сказывает народ, патриарха учат! Чудне! Греков-то на Москву наехало видимо-невидимо, их, видишь, землю всю поганые турки забрали, греки сами себя потеряли, ну и пустились нас учить, как нам спасаться! Куда деваться?
Селивёрст огляделся вокруг.
– Сказывай, Пухов, сказывай! Чужих нет!
В московской избе дяди Кирилы Васильича как они вот эдак самотайно сидели да писали скопом челобитье. Али и здесь, в Сибири самой, приходилось таиться?
Селивёрст высоко поднял правую руку с пальцами, сложенными в два перста, потряс ею.
– Тем крестом все деды и прадеды наши крестились и молились, землю свою выстроили и оберегли. Спасались сами и спаслись от ворогов. Во – два перста вытянуты, трое пригнуты. А ныне Никон указывает – трое персты вытянуть да в щепоть сложить, а двое пригнуть. Эдак-де только спастися! Пошто ж это? И кто-де по-отцовски молится, тот проклят! Говорю, пошто, а? Да эдак весь народ наш за труды его вековечные, выходит, проклят? Так, что ли? – спрашивал Селивёрст. – А?
Тихон молчал. С Москвы были в Сибири вести о делах нового патриарха, да отец ему о том в отписках писал, и приказчики, что в Сибирь съезжали, сказывали дивные дела. Патриарх-де теперь Великий государь. Сам управу по Москве крепко творит, попов, монахов да и мирских на цепь сажает, батогами бить велит.
– Мятется земля! – шептал страстно Селивёрст. – Ей, мятется, а чего делать – не знаем! Сумуем! Плачем! Бежи-им!
И вдруг тут словно молния полыхнула, распахнулось небо, осветило душу Селивёрсту Пухову. Вспомнил он! Вспомнил… Женщина перед ним, – вот она, сарафан синий, рукава белые, слезы по лицу льются…
– Жена! Жена моя! Федосья! Плачет, руки ломает, скорбна, ровно божья мать. «Селя! Селя! Не бегай… Не бросай нас с Ванюшкой! Пойдем в обрат в Мурашкино! Робить будем! Терпе-еть… Пропадем ведь мы безо тебя!»
Все вспомнил он… Значит, и сын у него был! Ванюшка! Все отняла, все разрушила чужая ненасытная жадность, боярская гордыня, приказчичья жестокость! А во двор в ворота уж стучатся, собаки лают кругом, голоса: «Выдавай беглого мужика! Тута он! Мы его знаем!» Ломят…
И сорвал в те поры у себя с груди он, Селивёрст, и жену и сынка, бросился во двор, пролез собакой сквозь пролазу, припасенную в тыну. Задыхаясь, убежал тогда в осеннюю, темную ночь, в дождь, бос, в одной рубахе, с засапожником в руке…
Потом выследили его в бурлацкой вольной ватаге морозовские истцы, вызнали, прислали ярыжек с Мурашкина за ним, Селивёрстом, чтобы схватить, уволочь, бить да поставить вновь на боярскую работу, от которой сбег он вместе с женкой Федосьей…
А тут и женку пометал, и сына… Опять побежал…
А бежал он, Селивёрст, допрежь того за два года до бурлачества с будных станов, что день и ночь дымили в дубравах вокруг Мурашкина, бежал из своей выти, в которой на боярина работал. «Давай!» – только и слышали они от приказчика Богдана Оладьина: «Давай!» И платили они, мужики, ему, Богдану, для боярина Бориса Ивановича с каждой выти деньгами по пятнадцать рублей, да на стол давали по два пуда свиного мяса, по гусю да по поросенку, да по ведру малины, да по четверику ядер ореховых, да с дыма по гривенке[86]86
Фунт.
[Закрыть] масла коровьего, по курице сушеной, да выти по гривенке шерсти, да по хомуту, да по сту мотков льну, да на будное дело по коробу угольев, да по подводе с выти к Москве, да золы на будное дело по двадцать шесть четей, да дров с выти по четыре сажени, да давали они людей на все лето к будному делу возить из костров золу к горну да к Волге вывозить по пять бочек поташа на день на выть. «Давай!» – только и слышен был голос Богдана Оладьина. И работали они «без престанки» день и ночь.
Как вспомнил все это, так и задохнулся от гнева, от обиды!
Свободен он, мужик, свободным и помрет…
И сидят теперь они, оба могучих мужика, в необъятной своей стране, за богатым столом, и оба они изобижены, оба несчастны, оба молчат, каждый про свое думает и каждый друг об друга будто греется.
– Ну, так ты куда же теперь? – спросил Тихон.
– Хабарова искать, – бросил Селивёрст. – Он, вишь, охочих людей собирает уходить в дальнюю землю, на Амур-реку. Лучше, сказывают, Амур Волги-то. Ну а другие в Литву бегут. На Волгу бегут. На Дону тоже много народу собирается. У казаков.
Тихон водил пальцем по скатерти, сжав губы добела.
– Хабаров! – сказал он. – На Амуре Хабаров-то. Идут, идут туда к нему люди, а сказывают – его самого не увезли бы в Москву.
– В Москву-у? – поднял голову Селивёрст. – Хабарова?
– Ага! Туда! Больно, говорят, горяч! Острог себе построил на Амуре… Албазинский, людей к себе собирает. – И усмехнулся: – Не любит Москва, ежели кто сам людей собирает скопом!
Хабаров, верно, вышел неуемной, богатырской своей силой на Амур только уж после того, как отъехал восвояси, в Москву, ограбивший его якутский воевода Головин. Продержал его, Хабарова, Головин год в якутской тюрьме за строптивость, а сам воевода тем временем послал своего письменного голову Пояркова проведать об Амуре доподлинно, чтобы самому ему, Головину, подвести бы Даурию под царскую высокую руку. Три года плавал по рекам и морю Поярков, навылет прошел по Амуру до самого устья, вышел в Ламское море, по рекам Уде, да по Мае, да по Алдану вышел в Лену, вернулся в Якутск. Шел прорывом, без береженья, своих, а особливо местных людей он не щадил, драл с них ясак нещадно, а те вставали, не замирялись. Повел он с собой сто двадцать семь человек служилых людей, привел сорок, – погибали люди от голоду, от бою, цинжали, вопили от бед. Поярков только кусал бороду, маленький, бледный, а упорный да злой. «Не дороги-то у нас служивые люди! – буркнул он как-то на упреки в жестокости. – Десятник – пятак, служивый – два гроша! И все…» Жесткой нуждой люди Пояркова дошли до людоедства. Доносил же он сам, Поярков, в Якутск с реки Зеи, с устья Умлякома: «Люди копали мерзлую землю, жили травным кореньем. И, не хотя напрасной смертью помирать, съели много мертвых иноземцев и служилых людей, которые с голоду примерли, человек с пятьдесят».
Страшные об этом слухи по всей Даурии далеко пробежали вперед. А Поярков зато принес с собой в Якутск вести о серебряной горе: стоит-де та гора в Амурской земле, и все-де амурские люди носят серебро – кольца, серьги, обручи на шеях. И пошла гулять оттого жадная молва по сибирским острогам, заимкам, церквам, торгам, кабакам – за Урал перехлестнула – о молочных реках да кисельных берегах и о том еще – за теми-де землями недалеко Китайская земля, что торгует шелками да кумачами разными, а те товары возят на Москву кружным путем персидские да армянские люди, а русские ими не торгуют.
Головина отозвала Москва, съехал в Якутск другой воевода – Пушкин Василий Никитыч, враз опять посыловал людей на Амур, да те люди не сдюжили двухнедельного волока через Яблоновы горы, на Зею-реку не вышли, пришли в обрат.
Воевода Пушкин вскоре помер в Якутском остроге, и плыл ему на смену по Лене другой – Францбеков Дмитрий Андреич. Хабаров, сидевший уже в своей слободе на Киренге-реке, встретил его в дороге на Лене, перехватил и убедил, что Амурскую землю силой не заселишь, а нужно прибрать охочих да торговых людей, что-де всю Сибирь охватили и что-де дело то выгодное. Новый воевода был из крещеных немцев, ловкач, сам пройдисвет, и договорился с Ерофеем Павлычем.
И Хабаров стал людей прибирать, покрутов крутить.
Крутил он их, Ярофей, на три года идти на Шилку-реку в Даурию. Шли артельно из одной трети и из половины добычи. Обязывались они всякую работу работать без ослушанья – что он, хозяин, заставит или кому что прикажет, и того слушаться. И никаким воровством при этом не воровать, не пить, не бражничать, за бабами не бегать, а других, кого хозяин прикажет, от дурна унимать и смирять.
Такое предприятие требовало больших сумм на «завод» и на запас хлеба на каждого участника, так как Хабаров шел на это дело «своими животами, без государева жалованья».
Хабаров думал набрать с собой сто пятьдесят человек покрутов, а набрал их всего семьдесят, – возможно, из-за больших расходов.
Хабаров должен был обеспечить и транспорт – кочи, дощаники под людей и под запасы, под товары для обмена и торговли с местными людьми – медь, олово, бусы, топоры, кожи и т. д. По особенностям похода Хабарова – нужно еще было и оружье. Всем этим, деньгами и оружьем – пушками, куяками[87]87
Наборные из железных щитков доспехи по ткани, против стрел.
[Закрыть], порохом, свинцом, снабдил его воевода Францбеков за счет казны, взяв с Ерофея крупные «кабалы», то есть заемные письма в свою пользу.
Хабаров получил и наказ от воеводы о том, как он должен действовать. Наказ этот гласил: «Ему, Хабарову, а с ним охочим, промышленным и служилым людям ста пятидесяти человекам или сколько он приберет, идти по р. Олекме до р. Тугиру, потом волоком на Шилку для ясачного сбору и прииску новых земель. Дорогою идти бережно, осторожно, на станах ставить караулы. Дошедши по Олекме и Тугиру до волока, поставить, где пригоже, острожек и укрепить его всякою крепостью накрепко, чтобы, будучи в том острожке для ясачного сбору, от немирных людей было бы бесстрашно, и ходить им из того острожку на немирных и на неясашных людей князя Лавкая и других, чтобы они, князцы, с себя и с улусных людей своих давали ясак».
Наказ якутского воеводы был написан старым московским обычаем, шел же Хабаров со своими семью десятками «наемных казаков» обычаем вольным, поморским. Устюжский посадский, торговый, промышленный человек, Хабаров, стало быть, учинялся теперь наравне с другими «вольным казаком», значился уже «атаманом». Уже по пути на Амур хабаровская ватага пограбила своих же, русских промышленников, соляные варницы сольвычегодца Павла Бизимова, отобрала запасы на зимовье у Андрея Ворыпаева. Возможно и то, что и снабжена хабаровская ватага была за скудностью средств хуже, чем положено было, и, действуя именем воеводы, хотела пополнить запасы в целях успеха предприятия.
Весной 1650 года вышел Хабаров с Шилки-реки в Амур, в землю князца Лавкая, подошел к. его городку, а худая слава Пояркова сделала уже свое злое дело: городок был пуст – весь народ даурский убежал, увез свое все хозяйство, угнал скот. Словно вымерши, стоял большой городок, а городок-то крепкий.
Хабаров двинулся дальше вниз по Амуру, стал станом под третьим брошенным городком. Вскоре с караулу прибежал человек:
– Едут пятеро! Конные!
Всадники подъехали близко, хабаровский толмач их спросил:
– Что вы за люди?
Ответили. Перед Хабаровым был сам князь Лавкай – седой старик в собольей шапке, два его брата, зять да слуга.
– А вы что за люди? – спросил Лавкай.
– Мы люди промышленные, торговые, везем много товару и подарков! – было сказано в ответ.
– Обманываете! – крикнул Лавкай. – Мы вас, казаков, знаем! Сказывал уж один из наших – был у нас Иван Квашнин, идет-де вас к нам с полтысячи и еще будут. Хотите вы нас всех бить и грабить, ребят да баб в полон брать.
А ясак мы и так платим Богдойскому хану великому, и соболей у нас нету! И посмотрим мы, каковы люди!
И всадники ускакали.
Пять городов прошел Хабаров, и людей ни в одном не было – убежали люди за Амур, как велел им великий хан Шамшахан. Хабаров повернул обратно в первый городок, там разыскали его люди – в земле много зерна и припасов закопано, оставил там людей и поехал в Якутск. Нужно было посоветоваться, что делать, обстановка была очень серьезна.
С выходом на Амур перед упорными землепроходцами развертывалась во всей своей силе великолепная хлебородная, черноземная Амурская равнина. На Амур Хабаров выходил в самой северной и неприветной точке дуги Амурского верховья. И чем дальше на юг, все тучнее по берегам становился чернозем открытых, ровных степей, все богаче колыхались жатвы, чередуясь с необозримыми цветущими лугами, с шумными дубравами на холмах, где паслись тысячные табуны коней, многочисленный рогатый скот, а отары овец – словно белые облака на зеленом небе. Большие леса темнели поодаль. Полноводные реки были обильны рыбой, осенние и весенние путины давали невиданные уловы. Крепки, в глинобитных стенах, стояли городки с большими домами, в стенах были и деревни, окруженные огородами, бахчами, садами. Климат становился все мягче. Устья Зеи и Сунгари лежали на широтах черноморских степей, южнее Киева, – сущий рай для хлебороба, для черного человека! С Амура, отсюда, можно было кормить хлебом всю Сибирь!
После таких рассказов Хабарова в Якутском остроге воевода Францбеков донес об этом в Москву, что прежде всего в этом деле нужны ратные люди, тысяч с шесть.
«Отписки» Хабарова сибирскими реками поплыли в Москву, а Хабаров на следующую весну вернулся на Амур, ведя с собой подмогу – сто семнадцать «прибранных» охочих людей да двадцать один стрелец с тремя пушками от воеводы. Вместе с тем Хабаров увез с собой на Амур запас железных сельскохозяйственных орудий – сох, топоров, кос, серпов, взятых снова у воеводы в долг, в кабалу.
Усилившись, Хабаров со товарищами заняли городок князя Албазы – Албазин, в верхней точке луки Амура, который стал сердцем скопов вольных охочих людей со всей Сибири. Отсюда удалось объясачить первых амурских князцов.
Сам Хабаров в это время предпринял новые походы на кочах вниз и вверх по Амуру, с великими трудами, боями и, кроме того, с бунтами его охочих людей. В общем он оценивал свое положение на Амуре совершенно трезво:
«На Усть-Зее да на Усть-Сунгари сесть я не смел – Богдойский князь близко, и войско у него большое, с огненным боем».
Донеся в Москву о необходимости подкрепить Хабарова, Францбеков со своей стороны предпринял шаги в сторону самого великого хана Китая: воевода отлично понимал, что Хабаров вышел к самым не верстанным до того границам могучей древней страны.
Вскоре из Якутска в Албазинский острог прибыл Тренка Чичерин, привел еще более сотни охочих людей да двадцать пять казаков, привез с собой Хабарову по тридцать пудов пороху да свинца да стопу бумаги – для отписок воеводе. Сдав все, Чичерин двинулся дальше – он шел посольством к Шамшахану, вез с собой такую грамоту:
«Государь наш повелитель силен да страшен. Он велит тебе, Шамшахан, сказать милостивое жалованное слово, чтобы ты, Шамшахан, учинился под высокой его рукой со всем твоим родом и другими царями и князьями.
И ныне пишет тебе Великий государь московский милостивые слова, а не для боя. А не учинишься ты под его милостивой царской рукою, то велит тебя Великий государь смирить ратным боем и города твои взять. И, чтобы не прогневать Великого государя, вели дань давать соболями, самоцветами, узорочьем и мехами всякими, что в вашем царстве есть, тебе по силе. И тебе не устоять боем против людей Великого государя».
Однако дипломатическое посольство Чичерина не дошло до Пекина – оно было перебито в пути, погиб и сам посол. Москва же в это время дает приказ верхотурскому да тобольскому воеводам – Измайлову и князю Хилкову – прибирать у Архангельска плотников, сколь надобно, слать их в Сибирь и в течение двух лет строить сотни судов для сибирских рек.
На Амур должно было плыть московское войско под воеводой князем Лобановым-Ростовским Александром Ивановичем.
Тихон смотрел на Селивёрста.
– В Сибирь ты один, что ль, побежал, Селивёрст? – спросил Тихон.
– Не! Миром шли… Из твоей ватаги – помнишь, хозяин? – шел со мной Тихомир Березкин. И верно – Тихомир, уж больно тих. Да не дошел до Енисея-то. Медведь заломал.
– Медведь?
– Ага! Медведь. Брели мы втапоры под Сургутским острожком…
– Да как же так?
– Много там медведёв-то. Ну, насел. Убили мы медведя-то. Лесной боярин большо-ой. А Березкин, глядим, неживой. Хороший был мужик, дай ему, господи, царство небесное. И другие тоже не все дошли. Кто утоп, – реки глыбокие, коряжные! Кого лихие люди до смерти разбили.
– Иноземные люди?
– Заче-ем? Свои! Наши! Идут далеко, оголодают, – ну, разбивают. Есть-то надо! Воля божья! Да ништо, нас все прибывает. Си-ила!
Все тише говорит Селивёрст, смирялась неуемная Селивёрстова сила, но не лесные пустыни да труды здесь клонили к столу его буйную голову, а сладкие хмель да еда. У кого еды скудно да хмеля нет, кому жизнь не сладка, не утешна, те глаз не заведут, не прилягут, их словно вьюгой вьет, гонит все вперед. Оторвавшись от места, от роду, от племени, потерявши свои семьи да животишки, летят они, словно семена могучего дерева, чтоб лечь за тысячи верст от его корня плотным севом на добрую землю, взойти, подняться новой подоблачной рощей.
– Говоришь, к Хабарову? – повторил негромко, про себя, Тихон, а Селивёрст сразу, как чуткий зверь, открыл глаза, сна в них как не бывало.
– На Амур-реку! – отвечал он и улыбнулся. – На Амур-реке земли, сказывают, словно медовые. Цветки цветут утешные. Зерно родится – ну земчуг скатной. В лесах соболя видимо-невидимо, зверь непуганой. Рыба в реках как по веснам да осеням идет – весло торчмя стоит, не падает. Люди там живут вольно, слободами, своим обычаем, все друг другу в одну версту поверстаны, заровно. Амур – надежа наша!
Глаза Селивёрста загорелись: великая правда смерти не знает, медведь людей не заест.
– А може, ты к нам в артель пойдешь, Селивёрст? – говорил Тихон. – Поможем вам! Може, дале самого Хабарова дойдешь! Работайте кто как может, по силе. Наживайте достаток. Ну, утро вечера мудренее, завтра поговорим.
– Спаси Христос на добром слове, Тихон Васильевич, – говорит Селивёрст, вставая да кланяясь. – Мы тобой, люди твои, очень довольны. А народ у меня есть добрый да надежный, так тянет в пустыню их, как гусей…
– Не обессудь, друже, на угощении. Иди в пуньку, ложись, отдохни. Где твои пожитки-то?
– Да все на мне! – с неожиданно доброй улыбкой ответил Селивёрст, вставая и крестясь на иконы. – Спаси бог на угощении.
– Марья! – позвал Тихон.
Никто не отозвался. Тихон огляделся, толкнул дверь в сени. Марья стояла тут же, у притолоки, вытянувшись, сложив руки под грудь.
– Маша! – тихо окликнул Тихон.
Марья окаменела, смотрела гневно. Проворчала:
– Чево?
– Марьюшка! – говорит примирительно Тихон. – Ты, тово, дай-кось тулупчик поскладней, что ли. Пусть товарищ отдохнет. Завтра мы с ним сговоримся.
– Вота чево! – шепотом зачастила Марья. – Я, чать, княжья дочь! Всякому беглому постель готовь! Девку зови!
– Марья, эй! Не дури! – негромко прикрикнул Тихон. – Дура! Мы-то с ним сами ведь не князья. Делай, княжья ты дочь, что муж велит.
Лежа потом рядом со своей гневной Марьей, слыша ее сонное дыхание, долго не уснул Тихон. Тиха ночь, да в душе не тихо. Вставало, метилось, что было. Или что прошло, то быльем поросло? Нет! Вот они, реки – Двина да Сухона, батюшкина изба, его, Тихона, детство. Кружит, несет пестрая метель, и с чего вспомнилось, как на масленой катит он, Тиша, на салазках из-под стены Города, по Осыпи, вниз, на Сухону, а спереди и сзади другие мальцы в рыжих полушубочках… Или уж парнем он на кулачки бьется на первой неделе Великого поста. Кружат виденья каруселью, в середке все темно, страшно. Нет-нет сверкнут оттуда чьи-то скорбные очи.
Лампада светит, спит рядом красавица.
«Ей что! – думает Тихон. – Выросла, как соболишко, в камнях да в кедровом стланике. А кедровник с орешками рядом. Ей другого места не надо. Не видит ничего! Не думает! Живет боярыней, добреет. Оленьи губы ест, почитай, каждый день, да вот наш сбитень медовый полюбила. Красива, а не мила. Нет!»
Тянутся тучами бессонные думы.
«Что ж! Чужой народ! Наша душа ей – потемки. С кого и спрашивать? Веньгается на Селивёрста. Мужик-де!» Беглый, а вот дорог этот мужик ему, Тихону. Бедностью своей дорог. Чистое сердце гонит его, как стрелу из лука, ищет он правды, ищет рая, да не за гробом, а на земле. Здесь. Да и он, Тихон, или не такой же самый? Или душа Тихонова о дебел ел а? Или ему уж не уйти?
Что ж его держит, схватило сильно, словно змий? Богатство? Ей-ни! Наша земля так богата, что всяк, кто с головой да с руками, в достатке на ней живет. Или жена-красавица держит? «За мной-то она не пойдет». А тогда какая ж она жена, если за мужем не идет? Княжна она, не жена!
И тошно стало Тихону вдруг от сильного женского тела.
«А вот разве меня дело не пустит! Дело!» – вдруг понял Тихон.
За стеклом оконницы в мутном свете поздней луны стоят его, босовские, амбары, склады. Счетная изба, за ней людские избы. Не один он, Тихон. Вокруг него десятки, сотни людей ворошатся, как пчелы вокруг матки, тянут к нему сюда из-за Урала, с Байкала. Плывут сюда, везут хлеб, соль, железо. Помогают, чтобы народ сильнее жил. По бесчисленным рекам плывут босовские, ревякинские, артемьевские дощаники, кочи, насады, струги, лодьи, вяжут Белое море со Студеным, с Великим морем-окияном. От Москвы и до Хабарова, от Хабарова и до Москвы шьют они землю крепкой связью, – почитай, уж на полмира. Работают простые люди сами не покладая рук и учат другие народы работать сильно. У них, у тех людей, руки, головы да топор. Чего им надо? Только одного – свободной земли.
Куда Никон-патриарх народ воротит, а? Зачем царь Алексей войну собирает? Или земли у нас мало? Эва куда мы по земле ушли! Хватило бы своих рук, чтобы эту землю обладить да обиходить, и то слава те господи!
За правду народ встает всегда против неправды. Или он, Тихон, больше встать не может? Уйти бы и ему, Тихону, к Хабарову. Говорят, добился вот своего простой посадский человек Хабаров – живет мимо воевод. Сказку о нем по всей Московской земле люди несут.
И подошли, плывут на Тихона дремные виденья – жужжат, запевают калики в престольные праздники середь народа:
Гой еси, земля родная,
Земля матерая,
Матерь нас еси роди!
Вспоила, вскормила
И угодьями наделила!
Земля нас породила,
Злак на пользу возрастила,
Пользой бесов отгоняти
И в болезнях помогати.
На земле сидеть ему, Тихону, надо. При Марье. «Годы идут. Васенька, сынок, подрастет. А Селивёрст пусть идет к Хабарову, и не один как перст, а с людьми. Селивёрст будет помогать Хабарову, а я ему помогу, Селивёрсту. Пусть идет…»
Уже после вторых петухов уснул Тихон Босой рядом со своей красавицей. Спал тяжело, завалившись головой мимо подушки, большой, ладный, улыбался чему-то во сне.