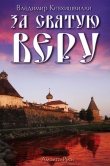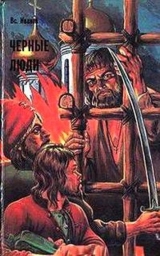
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 42 страниц)
Глава четырнадцатая. На Прокопьев день
Недолго Тихон оставался в Москве после того, как Ульяш отыскал его в кабаке у Никитских ворот. Горе помаленьку проходило, забывалось – время лечило лучше трав бабеньки Ульяны. Надо было ехать домой, в Великий Устюг, жизнь-то шла своим чередом, давно надо было работать. Да надо было еще попасть домой к годовому празднику на Прокопьев день.
Как у всякого русского города, был и у Устюга Великого свой небесный заступник и ходатай – Прокопий Праведный, во Христе юродивый, бессребреник. Родом варяг, пришел Прокопий некогда на Русь в Новгород Великий, возлюбил эту землю, двинулся за людом дальше на восток, в тихие леса, да и остался в Устюге навсегда. Ходил он нищ, грязен, наг зиму и лето по улицам по торгам, – сам над собой он ругался, сам собой пренебрегал, сам себя юродовал, себя сам ненавидел этот великий подвижник. «Не дай бог жить так!» – ужасался каждый при встрече с ним.
День памяти Прокопия Устюжского в Устюге ежегодно празднуется 8 июля. Весь окрестный народ собирается в этот день в гости к праведнику с уезда, с посада на соборную площадь, молятся, ставят шатры, лавки, ларьки, балаганы, скамьи, открывают великие торги, пируют, веселятся, хохочут пляскам и шуткам скоморохов, смотрят медвежьи представления, сами бьются на кулаках.
Тихон и поспешал к тому празднику, плывя по Сухоне. Лето к этому дню в полной силе, солнце мощно, живородящая утроба. земли беременна злаками и овощами, и веселый народ толпится на торгу, выказывает изобилие, что он может сделать своей силой рук и уменьем.
Съезжающиеся на этот праздник в город деловые люди – посадские, торговые, крестьянские – покупают, продают, договариваются о будущих сделках, бьют рукобитья, и все это под синим небом в мелькании ласточек, под золотым солнцем, осыпавшим стены, башни, крыши города и посада.
И вот еще почему торопился Тихон Босой домой: хотел первым рассказать отцу о том, что случилось в Москве, как там народ показал свою силу. Дело не шуточное – народ, вставший весь вместе, оказался посильнее Морозова! Однако, как ни торопился Тихон, всюду на попутных станках, в ямах знали уже о восстании. Все знали, все говорили– и о Плещееве, и о том, как царь на коленях молил народ простить Морозова. Эге! Оно и правильно. Народ царя поставил, и все понимали, что иначе оно и быть не может…
Мало того. Слухи шли, что и в других местах такие же замятии… В Соли Вычегодской замятия – в Строгановском владении, и в Сибири народ шевелится. И в новом городу, в Козлове, у самой засечной[68]68
Деревья, сплошь срубленные вдоль границы, сваленные вершинами в сторону степи, в сторону возможного конного набега. Тянулись на сотни верст, с сильными караулами у укрепленных проходов.
[Закрыть] – к Дикому полю – черты шатнулись стрельцы.
Когда лодка Тихона ткнулась легонько в берег, под стенами Устюга, Тихон, подхватив мешок с московскими гостинцами, скакнул на песок, помолился на собор и по косому въезду побежал в город. Был вечер, канун самого праздника, колокола звонили, розовый свет хлестал на избы, на бревенчатые тыны, косые тени от говорливых берез лежали поперек улиц. Бежит Тихон по родному городу, и сдается ему, будто Устюг-то стал ровно не тот, что раньше. Стены будто ниже – ну, куда же им против стен кремлевских! И стрельцы в латаных кафтанах, хилые какие-то– далеко им до московских. А избы? В глазах Тихона так и стоят пестрые, под фигурными крышами хоромы бояр. Улицы же Устюга тесны, пыльны, у ворот одни старухи в черных платах из-под руки глядят на стремительно шагающего молодца. Чей такой? Не узнать! Или Тихон? Или не он? Эх, Устюг – тихая глухомань!
А в ушах – набатный звон, народ на Красной площади гудит пчелиным роем, все головы в шапках, из-под шапок ярые глаза. Речи гремят с Лобного места, грозны крики: «Любо!», «Любо!»… Или теперь там, в Москве, стало все своим Тихону? Здесь все – как чужое.
Вот и двор Босых, вытоптан, зарос подорожником, дом невысок, люди, челядь, дворница Лукерья и приказчики – робкие какие-то, постарели, что ли? Кричат на разные голоса. Взбежал по лестнице на крыльцо, в сени Тихон, распахнул дверь в горницу.
Сидит отец его, Василий Васильевич, за счетным своим столиком, считает сквозь немецкие очки на косточках, поднял глаза на сына. Ну, отец – тот самый, хоть и постарел, а глаза-то еще вострей.
И понял враз Тихон, что не Устюг переменился, а это сам он вырос и отец тоже вырос, люди не стоят на месте, растут, жизнь прибывает в них, как вода в Сухоне по весне.
Марьяша опять бурей вынеслась из сеней, повисла у Тихона на шее, тоненько заголосила:
– Тишенька, братик!
И сестра выросла. Девка красная.
Да сразу она спохватилась:
– Ой, чтой-то я неурядная! Баню готовить! Мовня топлена сегодня.
И птицей улетела из горницы в слезах радости.
Отец поднялся со стула, повернулся молча к иконе, сын стал рядом, помолились, сын отцу поклонился в землю.
Обнялись.
– Поздорову ли, сынок? – спросил отец, посмотрел остро. – Чего на Москве-то?
– Народ встает, батюшка! Силу берет!
– Та-ак! Царя видел?
– А как же! Видел. Плакал царь. Милости просил у народа.
– Вона как! – поднял брови старший Босой. – Добро! Силу, значит, берет народ-от? Добро!
И глаза играли морозными сполохами.
– Братаны здесь?
– Павел один. Из Енисейска приехал. Тоже там воеводы чудят, не дают народу трудиться. Степан в море рыбу ловит, Кузьму послал к Байкал-морю. Сказывают – хороши там соболи ныне, прошлый год ореха было много. Велел к Ерофею Павлычу проехать на Лену, он, Хабаров-то, что-то замышляет. Куда-то опять, что ли, хочет иттить.
– Подале?
– Ага!
Марьяша ворвалась в дверь.
– Братик… – было начала она, да, видя беседу, запнулась, схватилась рукой за рот.
– Бабенька поздорову ли? – продолжал Тихон.
– Здесь она. На праздник приплелась, старина. Жива-а, спаси бог!
– Братик! – трепетнулась Марьяша. – Иди! Пар-от легкой!
– Иди! Мы сладко испарились! – сказал Василий Васильевич. – Возьми кого с собой веником похлестаться. Поужинаем опосля да и поговорим. Так-то, с маху, нельзя. Дума неправильная выйти может.
Мигали две сальные свечи. Лежал на жарком полке Тихон, розовый, большой, исходил сладко потом, забылся тихо, словно пришла к нему покойница мать, стала около. Пётра, молодой приказчик, что недавно вернулся из-за Камня, распаривал в шайке веник, говорил, сверкая глазами и зубами:
– Девки наши по тебе, Тихон Васильич, мрут. Ну, мухи! Жених, жених, а в Устюг и глаз не кажет. Ей-бо!
Тихон вздохнул.
– Ай чужа кака присушила? – подмигнул Пётра.
– Брось к ляду! – сверкнул глазами Тихон. – Не до того! Как тут народ-от?
– Чего и деется, и-и-и! – понизил голос Пётра. – Прознал народ-от, что на Москве государь бояр худых народу головой выдал. Так и наши тоже туда же!
Тихон приподнялся, сел было, но жаром ударило в голову. Лег.
– Ну и что же?
– Бушует! В Соли-то на Вычегде – замятня тоже была.
– Да что ты?
– Ага. Там воевода ихний доправлять деньги стал и с посада и с уезда. Москва-де требует. А народ ученый, пошел кругом с шапкой, собирать воеводе, – ну, в посул. Двадцать рублей собрали, шутка? Поднесли в почесть, честь честью, чтобы деньги править-то правил, да милосерднее. А тут приказчик строгановский с Москвы приплыл, рассказал, что там деется. И почище нашего-де бояре на Москве, а и то их народ под ноготь взял. Народ – к воеводе: «Время твое, боярин, прошло. Давай деньги в обрат… ха-ха-ха!»
– Ну и что?
– Воевода уехал к Строгановым, в церкву ихнюю спрятался. Шум, крик, народ дыбом… Старуха-то, сама Строганова, не велела воеводу трогать. А ночью… ха-ха-ха… утек воевода, как тать, на лодке по Вычегде. Только боярина и видели… ха-ха-ха! Двадцать рублев – деньга!
И пар не удержал, Тихон сел на полке, смотрел на Пётру. А тому хоть бы што: смешно ведь, как спесивый боярин от народа, подобрав полы, убегает… Знает кошка, чье мясо съела.
«Эге, да и тут как в Москве! – так и занялась радость в душе Тихона. – Тоже не глухомань. Не сюзёмок».
– Ну а у нас, в Устюге как?
Но Пётра уже поддавал квасом на каменку, выхватывал веник из кипятку.
– Ложись, хозяин, парить буду! – махнул он горячим веником на Тихона и закричал дурным голосом, занеся веник, ровно кнут: – Держись – ожгу!
И мыльня звенела от молодого хохота обоих.
– Ха-ха-ха! Ух-ух!
Свежий, легкий, бодрый шел Тихон из бани, тело радовалось под свежим бельем, звезды искрились сквозь берез, молодой месяц нагонял зарю, щелкнул звучно раз-два да замолк в последнюю соловей. Эх, земля родная! Сила взыграла в Тихоне, как рукой сняло все сомнения. Работать, трудиться – ехать в Сибирь! На Студеное море. Куда еще? Работать, как по всей земле трудится народ на полях, по городам, по избам, и работают днями, и отдыхают в такие вот вечера. «Эх, Анна, верна ты, а то ушли бы мы с тобой в Сибирь, где нет воевод, где лес, люди, свобода да дела…»
Радость Тихона чуть не задушила. Как свечка ясный стоял Тихон у стола, пока Василий Васильич читал молитву перед ужином, такой, что брат Павел, крестясь, поглядывал на него из-под руки.
Ужин отошел в молчании, бабы со стола убрали, отец выслал из горницы лишнюю челядь, за стол село трое мужиков – отец да два сына. Тихон было шагнул к дверям – задвинуть засов, да Василий Васильич его остановил:
– Погодь, сынок, я за старицей спосылал.
Старица Ульяна вошла, опираясь на костыль, с левой руки ее подхватила, вела баба Павла, смиренная могутная женщина в черном повойнике, в темном, в крапинку сарафане.
Старица стала, откинула наметку с воскового лица, помолилась на икону, поклонилась по чину, придерживая крест левой рукой.
– Здравствуйте, Босые! Поздорову ли, Тишенька, внучек? – говорила она звучно, покамест Тихон кланялся ей в ноги.
Ульяна села во главе стола и упорным взглядом смотрела на Тихона, покуда он вел свой рассказ о том, что в Москве, на Волге, как жил он у дяди Кирилы.
Чем дальше шел рассказ Тихона, тем глубже оба мужика запускали пальцы в свои бороды. Чудно! Выходило, ежели подумать, – три десятка бояр в Москве вертели всей землей как хотели, так и эдак. А вот в лесах на Севере да в Сибири работа спорилась без бояр – в лесах-то бояр не бывало. А как загудел по Москве народный завод – испугались, кинулись, сказывают, на иноземные дворы, к посланникам, прятали у них животы и пожитки, из Москвы побежали. Народ сбросил боярского хозяина Морозова, вырвался из-под бояр… Видно, надо думать, как дале жить…
В раскрытые окошки глядела душная летняя ночь, мелькали звезды. Рассказ Тихона развертывался обстоятельно– про бунт на Красной площади в Кремле, про то, как собирались у Кирилы Васильича, писали челобитную.
Когда Тихон замолчал, отец поднял голову.
– А чего брат Кирила сказывает? – спросил он.
– Как уж ехать мне, дядя сказывал: должно, созывать будут Земский собор из всех чинов людей, – ответил Тихон. – Государь, слышно, приказал все статьи собирать всюду – и в уставах у святых апостол и отец, и в законах греческих царей, все, что к нашей жизни сгодится, чтобы всем людям, и черным и всяким, они были известны. А то теперь каждый воевода правит, как ему господь на душу положит.
– Ишь черт! – чуть усмехнулся в бороду Василий Васильевич. – Та-ак! Тряханули, значит, москвичи большими боярами… Лады! Польза большая. По всей земле гул идет. И у нас. в Соли Вычегодской были тоже замятии. Побежал боярин-то. Хе-хе… ночью!
– Пётра мне обсказал! – отозвался Тихон. – Слыхал я – везде неспокойно. И в Сибири тоже… А ежели б он не убежал, убили бы вычегодцы боярина-то?
– Обязательно, до смерти! – сказал Павел. – Да так и надо. Трутни! Нетяги[69]69
Бездельники!
[Закрыть]! Как иначе?
– А по-божьему! – вдруг стукнула костылем об пол старица. – Как же это можно – людей бить до смерти?
– Народ все может, бабенька! – сверкнул глазами Тихон.
– Значит, внучек, ты – меня, я – тебя? – горячо говорила старица. – Обида за обиду? Зуб за зуб? А когда же конец гневу? Что святой Антиох говорит о гневе? – подняла старуха восковой пальчик. – «Добро есть человеку стараться удержать гневную страсть». Должен он терпением сокрушать ярость. Кротостью. Смиреньем. Бесы-то гневом отымают у человека плоды его трудов. Гнев – разорение души и тела. Мерзка богу всякая ярость! Тьфу!
– Бабенька! – метнулся к ней Тихон. – Да ежели терпеть невозможно?
– А не можешь в миру терпением жизнь строить, уходи из мира, вот что! – говорила старица, быстро перебирая зерна четок. – Не сможешь осилить мира разумом, кротостью, любовью, трудом – бросай мир, ежели ищешь правды! Топором да кулаком мира не взять! Христа-то как люди изобидели – на кресте распяли! Эва! А ведь он бог! Бога казнили – вот они, люди! Да ежели бог бы он гневом на то распалился, пожег бы весь мир громом! А как Иван Золотые Уста учит? Бог-то де не как люди! Люди творят долго, да разрушают скоро. Бог сотворил мир борзо, в шесть дён, а вот не рушит его сколько времени, терпит грехам нашим месяцы, и лета, и века… ждет!
– Так, значит, ежели воеводы на правеже людей бьют безвинно, ты терпи? – вскочил с лавки Павел.
– Уйди! Тебе говорю, уходи от греха! – застучала костылем бабка Ульяна. – Уйди от зла, сотвори благо. В лес иди! В тишину! В Сибирь! Обличай людей делом! Не словом! Не множь зла раздором!
– Жизнь, стало быть, свою так и бросить? – не подымая глаз, спросил Тихон.
– Правды ищи – все приложится, – исступленно дрожа, говорила старица Ульяна. – На лодке плывешь, небось камень увидишь – отвернешь? Лодкой-то камня сбивать дуром не будешь? А на людей бросаться будешь? Нет! То-то и есть. Правда-то останется во веки веков. Не сгинет! Слыхал, как с тропы Батыговой ушел от грехов в Святое озеро град Керженец? От греха ушел. И теперь на зорях слышит народ из озера того звон светлый, видит в воде храмы да дома. То-то и есть! Правда есть, правда и останется, не одолеют ее врата адовы.
– Народ-то, он и бежит за Камень, за Волгу, на Дон, в Литву от грехов, а бояре его ловят да назад волокут!
Работай-де, смерд, на меня, боярина! Казня-ат! – кричал уже Павел.
– Не бойсь казни! Кто смерти не боится, тот свободен! Всех не сказнишь! Обличай тех казнящих в лицо. А то обличающих смелых-то да добрых мало находится, только исподтишка злоба да ярость.
Старица замолчала, закрыла лицо рукой, шатнулась.
Тихон бросился к ней:
– Бабенька! Что, худо тебе?
– Плоха стала, Тишенька! Простите, детки! – вздыхала, кланяясь, старуха. – Павлу мне кликните. Видно, доходит мое время. Побреду восвояси.
В общем молчании старица Ульяна оставила горницу.
– Ей-то, нашей бабке, можно так говорить, – усмехаясь, растроганно заметил ей вслед Василий Васильич. – Ей-то смерть близка, ей уж ничего не нужно. А вот нам-то трудно это слушать! Старуха!
– А и молодые есть, которые так говорят! – раздумчиво заметил Тихон. – Видал я, батюшка, на Волге такого попа. Его боярин в Волгу сбросить велел, а поп смеется. «Дурачок, говорит, боярин-то! – Смеется! – Учить его надо, боярина-то, ничего больше!» Ей-богу!
– Трудно дело – правду говорить! Найти ее, правду, нужно! – раздумчиво говорил отец. – Драться-то легче, чем терпеть да молчать. А ежели у нас в Устюге тоже будет завод, чего будем делать, сыны?
– И в Устюге, батя?
– Ага! А что? Как везде. Наш-то воевода Милославский тоже на правеж весь город норовит поставить – Москва денег требует. И ему по сошному разрубу тоже деньжонок собрали с посаду да с уезду в почет. Двести шестьдесят рублей – бей-де, милостивец, да потише. А теперь услыхали устюжане, что в Москве деется, – чешут затылки: деньги надобно отобрать. А деньги, известно дело, с ершом – дать дашь, а назад не вытягнешь… хе-хе!
– Завтрева-то народу у праздника будет – и-и-и… Весь уезд! – сказал Павел. – Да и седни уж торг немал. Вокруг собору табором стоят! Медведей навели. Гудошники. Скоморохи, слышь, бояр ломают.
– Ну, Тихон, иди ты с дороги отдыхай! Утро вечера мудренее! – поднялся отец с лавки.
Утро над Устюгом встало в тонком мареве, туман вскоре свернулся – быть жаре! Зеленым малахитом стоят леса за рекой, в заречье зардел храм Умиленья, вдали, над Троицким монастырем, что на Гледени, искры. А по рекам, по Сухоне да по Югу, еще до света один за другим лодки, струги, насады с народом валили на праздник валом, весь берег заставлен суденышками. Да и по дорогам со всех сторон пеше подходят к городу богомольцы, шли лесом, через росистые луга, ехали на телегах. Бабы в сарафанах с пуговицами в один, в два ряда, в белых насборенных рукавах, в саянах, в повойниках да в киках, девушки в косах, бусах, лентах. Мужики в белых рубахах с красными клиньями, в новых шляпах с цветками за лентами, в новых лаптях, много в сапогах.
Посадские да торговые люди тоже щеголи не хуже – в цветных рубахах, в синих, коричневых, серых суконных кафтанах, в однорядках, а кто и в шелковом узком зипуне с позументами, бабы их в цветных летниках. Народ наполнил всю Соборную площадь, в улицах, в переулках, в тупиках впритык стоят телеги с задранными высоко оглоблями, лошади с торбами на мордах хрустят овсом.
Товаров понавезли, навалили горами, уже наставлены ларьки, прилавки, харчевни, сбитенщики снуют пчелами со сладким сбитнем, стоят бочки с пивом. Однако, пока не отойдет обедня, не торгуют – грех!
А по торгу, по народу, как муха, снует туда-сюда Устюжского уезду, села Пантусова черный человек, крестьянин Моисей Рожкин; мал ростом, сутуловат, бороденка веревкой, а глаза буравчиками – острые, беспокойные.
Умилен Рожкин подвигом Прокопия-чудотворца, бессребреника, потрясен любовью его к правде, и тем больше возмущен он, Рожкин, что творится кругом. Слышал Рожкин, что правда объявилась на Москве, что царь воровских бояр народу на казнь выдал, эта весть ужалила Рожкина в самое сердце.
– Значит, двести шестьдесят-то рублев посулов, что с миру, с уезду, были воеводе собраны, зазря платены? И платили их подьячим воеводы Милославского – Онисиму Михайлову да Григорию Похабову… Дело так оставить нельзя! Где ж деньги-то?
За Моисеем Рожкиным неотступно ходит большой, чернобородый, лысый Иван Чагин, кузнец. Кричал больше Рожкин, Чагин же до времени молчал или только глухо гудел.
– Православные! – надрывался Рожкин. – Деньги наши взяты неправдой! Воровски! Надо их в обрат доправить! Царь велел на кровопийц идти!
Народ на площади волновался. Деньги взяты неправо. Надо идти к земским судьям – пускай разберут! Праздник? Ничего-о! Народ требует!
Отошла обедня, отпели молебен преподобному Прокопью, под колокольный звон толпа от собору двинулась к Съезжей избе, шумя как море. Вытребованные судьи явились, вопрос им поставлен был ребром:
– Есть способ взять в обрат деньги с подьячих Михайлова да с Похабова али нет?
Земский судья Волков развел руками:
– Взыскать, конешно, надо! Да как взять? С кого? У них? Или у воеводы? Не отдадут они добром.
Из-за Рожкина выдвинулся кузнец Чагин:
– Не отдадут – убьем до смерти!
– Как же это можно – людей убивать? – крикнул судья Волков.
– А ино ты, вор, с имя заодно! – вдруг завопил Чагин и, ухватя Волкова за грудки, волок из Съезжей к народу.
А Васька Шамшурин, подоспевший Рожкин да Шурка Бабин колотили судью по шее, кричали:
– Вор! Вот он, вор!
Волкова выволокли к народу, водили по площади, как медведя, на веревке, а скоморохи плясали кругом, били Волкова по голове бычьими пузырями с горохом. Народ смеялся.
Тихон Босой вышел после обедни, стоял, глядел на шум.
Было похоже на Москву, однако ж по-иному. В Москве народ был тверже, сердитее, а тут люди пока что смеялись. Праздник! Началась торговля. Выпивали.
Тем временем из Съезжей избы выскочил незамеченным другой судья, Игнатьев, кинулся в избу к воеводе. Воевода от обедни был уже дома, сел пировать по праздничному делу с гостьми. Оба подьячих, Михайлов и Похабов, сидели тут же за столом.
Игнатьев уже со двора поднял крик, воевода выставил в окошко богатую бороду:
– Что за шум? Чево, судейка, деешь?
– Государь! – вопил судья. – Милостивец! Гиль идет! Гилёвщики деньги в обрат требуют!
– Что за деньги?
– Двести шестьдесят рублев, что тебе в почесть народ собрал!
– Да ты што? Мне? Так я их не бирывал!
– Как так не бирывал? Тебе в честь собирали!
– Воры! – крикнул сгоряча хмельной воевода. – Сам поеду разберу! Деньги мои пропали! Воровство! Где деньги? Ах ты господи!
Воевода с двумя стрельцами поскакал переулками к Съезжей избе, а народ бежал навстречу к воеводскому двору Христорождественской улицей, и воевода с ним разминулся. Народ подбежал к воротам – ворота у воеводы заперты. Ворота живо вышибли, осадили избу, из окошек которой выглядывали красные лица перепуганных застольщиков, – народ уже был вооружен кольями, поленьями, сверкали и топоры. Чагин размахивал выхваченным у Хилого стрельца бердышом, воеводские стрельцы спрятались на сеновале.
– Воевода, выходи! – кричал Чагин, к которому теперь перешло руководство. – Эй!
– Нету воеводы! Ускакал на площадь! – вывалился на крыльцо пьяный поп Терентий Зайка. Перегнулся через, перила, крест свесился на сторону. – Ускакал милостивец? Ха-ха! Ветер в поле!
– Чего гогочешь, жеребячья порода? – надсажался Чагин. – Давай подьячих! Михайлова давай, крапивное семя!
– Н-н-нету и его! – развел поп руками, смеясь во всю бороду, в острые обломки зубов. – Н-нету!
– Как это нету? – раздался женский визг, и в сбитом повойнике женщина прорвалась вперед. – Да вон он сейчас в окошко глянул!
– Народ, хватай вора! – ревел Чагин. – За мной!
Взбежал проворно мягкими своими лаптями на крыльцо, поднял бердыш, двери подались под могучими ударами, народ ворвался в горницу, опрокинул стол с яствами, перебил посуду, искал подьячих в избе, в надворных строениях, присенцах, чуланах.
Михайлова схватили в саду, в бане, на полке, выволокли с толчками, народ обступил его плотно:
– Давай деньги, что взял с нас облыжно!
– Народ, смилуйся! – визжал горбатый рыжий подьячий. – Нету у меня ваших денег!
– Где они?
– Да у воеводы! Воевода забрал! О-он! Крест целую! Сейчас помереть!
Чагин стоял перед подьячим вплотную, бердыш огнем сверкал в его руках. Чагина уже манили не деньги. В Чагине горела, бушевала сила, давно накопленная, обжитая ярость. Любо ему было видеть лисье лицо подьячего испуганным, слезы на всегда бесстыжих, зеленых, пьяных глазах, ужас пойманной злобной твари.
– И помрешь, гад! – громово крикнул Чагин.
Опустил бердыш подьячему на голову – тот змеей вильнул в сторону. Отскочило левое ухо, брызнула кровь. Михайлов упал.
– В Сухону его! Сажай в реку! – ревел народ. – Любо! Сажай в воду!
Толпа набросила веревочную петлю Михайлову на ноги, бегом вынеслась Кабацкими воротами из города, метнула подьячего в реку. Тот поплыл, захлебываясь, вопя дурным голосом.
– Собаке собачья смерть! – кричали исступленные люди.
– А Похабов-то где? – спохватился первым Рожкин. – Денег-то нету! Народ! Ищи Похабова!
– Да он там же! На воеводском дворе! – раздались опамятовавшиеся голоса. – Хватай его.
Толпа бежала с реки обратно, навстречу ей к своему двору скакал бледный воевода, за ним бежала толпа.
Рожкин и Чагин кинулись, ухватили за узду коня.
– Давай наши деньги, воевода! Царь приказал! – кричали они, а конь дрожал, прыгал на месте, мотал головой.
– Не брал я денег, православные!
– Михайлов сказывал – брал!
– Где Михайлов, бесстыжие его глаза? Давай его сюда! – вопил воевода. – Врет он! Врет! По злобе!
– Нету Михайлова! Утопили мы Михайлова! – кричали в ответ.
– Как утопили? Разбойники! Ответите! Ну, Похабова спросите, – надрывался воевода, – они заодно!
На соборе в это время били в набат. Дон-дон-дон! – захлебывался тревожный звон.
Воеводу спешили, повели миром на его двор, из дому выволокли насмерть испуганных, крестящихся, кланяющихся в землю жену и тещу воеводы, требовали денег.
– Михайло Васильич! – плакали обе его бабы. – Бога для, отдай ты им эти деньги! Свои, да отдай. Душу они вынут.
– Как это так «отдай»? – надсажался воевода. – Не бирывал я! Омманули, видно, меня, собаки! Не отдали мне. Легко дело – двести шестьдесят! Ах ты досада! Мне деньги-то собрали?
– Тебе, государь!
– Не получал! – сокрушался воевода, хлопая себя по полам коричневого кафтана. – Не получал! Утопили, говорите, Михайлова?
– Утопили, милостивец!
– Туда и дорога! Ах, пропали деньги! Беда, беда!
– Да Похабов-то где? Ты его спроси, государь! – уже сочувственно посоветовали из толпы огорченному воеводе.
– Марья! – крикнул воевода. – Похабов где?
– Нету, нету его, Михайло Васильич. Нету! – кричали воеводские бабы. – Ей-богу, нету! Святая икона!
– Целуйте, коли так, икону, что нет у вас Похабова! – крикнул Чагин. – Землю целуйте!
Из толпы выскочили двое посадских, бросились в горницу, с обнаженными головами вынесли икону, воевода с женой, с тещей стали на колени, целовали икону, ели землю, клялись, что не знают они, где Похабов.
Похабов-то был уже далеко: хитрец сразу понял, что дело плохо, выскочил, вывел через садовую калитку из воеводской конюшни коня, да и был таков. Он скакал уже лесом, по дороге на Тотьму. Скакал в Москву с доносом: в Устюге бунтуют-де черные люди, пусть шлют расправу!
Приутихший здесь было народ сошел с воеводского двора, воевода Милославский с семьей переоделись в посадское платье, сбежали в Стрелецкую слободу, от греха подальше. Волнение в Устюге бушевало теперь на соборной площади.
Велик был праздник, в солнечный этот день народ сколько навез сюда на торговую площадь на телегах, на лодках видимого богатого изобилия от своих трудов, что невозможно было спокойно смотреть на людей вящих, которые поджали хвосты, не смели сейчас швырять пасюками по торгу, как раньше, чтобы на чужих трудах этих наживаться еще больше. Возмущение в народе разгоралось. Михайлова убили, он смертью заплатил за обиды. Похабов убежал, но двор-то его, его животы-то остались! И на них бросился народ, уничтожая то, что неправедно нажито. Похабовские хоромы посекли в щепу, разнесли врозь, пожитки летели из окон, из дверей под топоры да крючья, растаскивались ограбленными и обиженными, а драное и ломаное бросалось.
В городе, взволнованном, грозном, шла словно каменная пурга, сыпала каменья на нечистивых, на сребролюбцев, на резоимцев, берущих резь.
– Мздоимец, резоимец, сребролюбец и грабитель – вот четыре колеса у телеги, на которой ездит сам сатана, отверженный богом! – выкрикивал на торгу церковный дьячок Фомка Яхлаков, потрясая в руке сложенной бумагой. – Есть у тебя еда да одежа – и будь доволен, а собирающего богатства проклянет господь и попирает его своими ногами. Лучше давать, чем брать! Вот она, пришла грамота от великого государя с Москвы – велено разбить у нас в Устюге семнадцать дворов! – и потрясал над головой неведомой длинной грамотой.
Толпа под вой набата уже неудержимо неслась по городу, разбивая один за другим богатые дворы, крича:
– Грабь, что те награбили!
Тихон прибежал домой и, едва переводя дух, гремел в ворота своего дома. Народ становился уже страшен и им, Босым.
Ворота сразу открылись, за ними оказался встревоженный Петр с топором за спиной, челядинцы – Васька, Федос и другие, кто с топором, с кистенем, кто с дубиной.
Тихон пробежал мимо них на крыльцо, вбежал в горницу. Василий Васильич, вернувшись от обедни, как обычно, сидел за столом, занимался.
– Батюшка, – говорил Тихон, волнуясь, – народ-то… дворы разбивает!
– У кого? – поднял глаза отец от книги.
– Похабовский двор кончили, побежали дальше… к Бубнову, Клименту Фотиевичу!
– Похабова давно надо было кончить, – выговорил старший Босой, сымая с носа очки, протирая глаза. – А у Бубновых как?
– Кричат – щупать, говорят, нужно лучших людей, кабальные книги пожечь. Чего творится – ужасти! У Свербеевых, однако, тоже. А набат? Выдь на двор, батюшка!
Под крыльцом толпились свои люди, взволнованные, один Петр улыбался.
– Ух, чево и делается! – сказал он. – Воевода сбежал из городу! Торговые гости бегут!
– Куда? – спрашивали с крыльца.
– В поле! Во ржи, куда! Да что гости! Протопоп от Ивана Богослова, отец Захарий с попадьей и те побежали… Узлов навязали – во!
– Куда?
– Да в рожь! Хорониться! Как перепелки. Ей-бо!
– Ты чего зубы скалишь? – прикрикнул на него Василий Васильич. – Горе это! Не знает, не видит народ, что делать надо, вот и мечет все врозь.
– А нам, хозяин, тоже бежать? – спросила могучим голосом своим Павла.
Василий Васильич повернулся к ней:
– Али мы свою совесть продавали? Или совесть у нас противу народа не чиста? Бежать нам некуда! Суд на нас бежит, идет!
Василий Васильевич говорил твердо, убежденно. Знал он – народ обид не забывает.
– Беда в чем, – говорил медленно Василий Васильевич. – Народ-то силен, а что делать – не знает. Бежать? А куда бежать? От свово народа не убежишь! Сговор должно с народом иметь…
Тихон стоял опустив голову.
– Ишь, в Москве у Ряполовского-князя небось ворота бревном вышибал, а теперь впору самому животишки спасать! Ты где ж, Тихон? С народом или нет?
На церкви Благовещения вдруг близко-близко забил набат, за березами босовского двора клубом всплывал черный дым. Марьяшка, притулившаяся было за отцовской спиной, всхлипнула жалостно.
– Зажгли! – горестно вскрикнул Василий Васильич. – Ахти, двор-то какой! Лукояновский! Красота! Свое, окаянные, жгут… Да, оборони бог, через березы метнет – и нас нету. Огонь не уговоришь. Люди, – крикнул он, – таскайте пока животы в погреба! Не ровен час займется…
– Старуха идет! – закричали внизу, под крыльцом. – Старица!
Василий Васильевич и Тихон обернулись. Сходила с крыльца шаткими шагами старица Ульяна. Вся в черном, подняла руку.
– Пожар! – звучно заговорила она. – Огонь! Гнездо горит наше. Город старый горит. Друг друга жжем! Камнями побиваем, как из тучи, своими же руками. Какой праведник вступится за нас? Кто тучу отворотит? Или нет у нас праведников?
Старица стояла на лестнице, воздев руки, как черное, смущающее видение.
– Мамынька, – с. сердцем выговорил Василий Васильевич, – ступай-ка ты с богом к себе! Уходи! Тут и так голова кругом идет! Тут дело простое. Народ воров своих жжет! Не мешайся ты, Христа ради! И без тебя тошно!
– Не умолкну, дондеже есмь! – вещала старица. – Обличу нечестивых. Иль, глаза отворотив в сторону, умолчу, что бога забыли?
– Пойдем, пойдем-ка, матушка! – говорила могучая Павла, волоча старуху вверх на крыльцо. – Неча тебе тут, старушке божьей, делать!
Челядь бегала муравьино, таскала пожитки на погребицы – укладки, сундуки, торговые книги, отворачивая взгляды от засуетившихся хозяев. И те тоже были хмуры– неловко было выворачивать у всех на глазах свое нутро. Бешено бил набат. Соседский пожар разгорался, пламя шибало кверху, летели искры, головни, с огнем поднялся ветер, деревья гнулись, шумели, шатались, голоса, крики неслись все громче. Василий Васильевич с сынами работали как бешеные. Марьяша кошкой залезла на крышу босовской избы и в высоко поднятых руках, словно щит, держала против огня икону божьей матери. Бабка Ульяна выглядывала из окна горницы на дым, шевеля беззвучно губами, перебирая лестовку. И слезы катились у нее по щекам. Впервой в ее жизни приходилось ей видеть – огнем выметывается страшная ярость живого обиженного народа, уничтожая неправо нажитое.