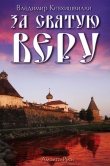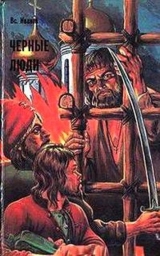
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 42 страниц)
– А птиц там бессчетно, – рассказывал протопоп, – гусей, лебедей по Байкал-морю ровно снегу сколько плавает… А рыбы в нем – и-и! И осетры, и таймени, и стерляди, и сиги, и омули, и всякой рыбы много, и нерпы. А таймени так жирны – ано на сковороде и жарить нельзя: один жир!
– А-ах! – вырвалось у какой-то хозяйки. – До чего хорошо!
Глаза у протопопа все больше сияли добротой.
– И все, все у него, бога-света, по всей земле учреждено добро про человека, – чтоб все они имели, всем пользовались, чтоб жили да богу хвалу воздавали. Все есть, всего у нас много, всем хватает, – живите, милые, как в раю на милой земле. А мы чего делаем? Из-за чего друг друга губим? Друг друга неволим? – задушевно громыхал протопоп.
Женщины жадно ловили каждое слово, каждое его движенье. Протопоп столько пережил, исходил все земли московские и сибирские, а не огрубел, еще нежнее стал от своих бедствий. Его глаза сияли по-детски, а у самого такие могучие плечи, такая крутая спина, прямая шея, такая красивая голова. Рассказывая о муках, что творили ему другие люди, он только смеялся: ну и дурачки! За эту доброту, за терпенье нечеловеческое, за подвиг добрый и отважный они, боярыни, готовы были любить протопопа. А он тянулся к ним за их состраданьем, за их добротой. Видно, и впрямь пробился протопоп сквозь бури жизни, видно, выгребал теперь к тихой пристани, к царицыну терему, где такая душистая, благолепная тишина. Рай, истинный рай перед ним! Какие красавицы улыбаются ему – в парчах, в шелку, в драгоценных мехах…
И сдается сейчас протопопу – его верная подружка Марковна простовата, неказиста. Здесь крепко пахнет аравийским ладаном, александрийскими куреньями, от них обносит голову… Из всех женских лиц теперь все ярче горели на него из-под черного плата, заколотого черной жемчужиной, серые глаза на бледном, с розовыми губами лице – глаза боярыни Морозовой.
Высоко вознесся протопоп Аввакум, узнал он наконец еще не изведанное блаженство славы, что давно маячило ему, блазнило, манило. Протопоп замолк – слов не хватало. Он был теперь солнцем, а царица, царевны, боярыни тянулись к нему, тянулись, как тянутся к солнцу цветки – согрей и приголубь! И он опускал глаза, боялся слишком близко увидеть те огненные взоры!..
Запищала тоненько царевна Федосья – царица сделала знак унести дитя. Не место детям здесь.
– Государь сказывал, – заговорила царица к протопопу, – велит он тебе служить в Новодевичьем монастыре… Отдыхай у нас! А как семейство твое?
– По милости божьей здоровы все – и женка, и ребятишки, – говорил протопоп. Говорить об семье было ему почему-то неловко: уж очень была бледна его жизнь и уж очень высоко парил сейчас его дух.
Ох, тонет он, протопоп, тонет в темно-серых страстных глазах под соболиными бровями, вдовья улыбка неслышно гремит славословием ангельским. Сама Москва идет на протопопа, охватывает его необоримыми своими руками, твердит: «Не уходи от меня, протопоп, засыплю тебя счастьем райским! Царскими милостями!»
И милости впрямь сыпались на протопопа, как белый пушистый снег, что кроет теплым покровом поле, где дремлют пока что силы вечной жизни, выжидая, чтобы восстать им весной в вечном воскресении.
– Федор Михайлыч! – говорила царица. – Прикажи выдать протопопу серебра…
– Сделаю, государыня, – кланялся Ртищев. – А как же!
– Выдай ему от меня десять рублев хоть… Да одежи собери ему на все семейство. Да мучки, и черной и белой, и овса, и круп, рыбки провесной красной… Икорки сошли… Заедок сладких ребятишкам тоже. Сукнеца дай, да холстов, да плат протопопице добрый, кашмирский…
Царица говорила, а протопоп только кланялся в пояс:
– Спасибо, царица-матушка, и так много доволен! Есть, есть добрые люди на нашей земле… Е-есть…
И вдруг разогнулся, охваченный теплым воспоминаньем.
– Волокся я эдак-то сюды из Даурии, так помог мне хорошо в Енисейском остроге один добрый человек… Тихон Васильич он… Босой…
Хотел простодушный протопоп наряду с царицей воздать хвалу и Тихону и не заметил, как дрогнуло под насунутым платом лицо княгини Ряполовской. Не заметил и того – что-то докладывала на царицыно ушко с алмазной каплей старая боярыня. Царица вставала, – значит, разговору конец. Ртищев уже мял свою шапку, закланялся. Только тут понял протопоп – пора уходить, встал, кланялся застенчиво.
Но в последнюю минутку боярыня Морозова Федосья Прокопьевна оторвала глаза от ковра, засияла ими на протопопа.
– Не обессудь, Аввакум Петрович, – вымолвила она, – бью челом – посети часом мою обитель!
И глаза обоих – протопоповы да боярыни – встретились и захлестнулись…
Глубокая ночь. На башнях Кремля перекликаются караулы. Бьют на колокольнях ночное время. Под деревянным полом кельи грызутся мыши. Натянув кафтанец на посконное полосатое исподнее, встал протопоп на молитву – сна ему никак нет.
Нет никак. Все слышится тихий голос, немногие слова, зовущие во вдовью обитель, и от слов тех словно медвяным туманом наполнена грудь протопопа… Прямо в душу ему вплыл образ молодой вдовы – сразу и до конца – и породил в душе не бушующую страсть, а блаженную тишину… Неужто можно кинуть опять Москву на издевки, мытарства? Ту Москву, что приняла протопопа словно ангела божия?
Опочивальня боярыни Федосьи Прокопьевны Морозовой в большой избе, при ней чулан, тоже с постелью. Ход в спальную из сеней больших, к сеням лестница снизу, у лестницы внизу крыльцо под шатровой крышей с флажком, на двух столбах узорных. Из сеней тех переходы сплошные в иные морозовские хоромы, все по-хозяйски, хорошо, хоть и темновато и тесновато, – ну, по-старинному, одно слово.
И распахнуть дверь из теплых сеней в опочивальню, в правом углу, в толстых, темных от времени бревнах заря незакатная – блеск от золотых, в каменьях икон, с лампадами, от куста горящих свечей в ставнике.
Воротясь от царицы, степенно поднялась боярыня по лестнице, сенных девок в избу с собой не пустила. Сказала:
– Подите прочь!
С ней вошла одна старая ее мамушка, сухонькая, горбатенькая, в морщинках, печеным яблоком все румяное личико. Стала боярыня посредине опочивальни-избы, губу закусила, руки крест-накрест на груди, ногой притопывает. Мамушка сняла с нее шубку, вышла, и боярыня рухнула как подкошенная в кресло перед богами, ломая руки.
– Господи, что я видела, что знала! – тихо плачет боярыня. – До семнадцати лет у батюшки в тереме – песни, молитвы да вышиванье. В семнадцать лет замуж, а мужу-то за пятьдесят!
Правда, ласков с ней, с Федосьюшкой своей, был Глеб Иваныч, родила она ему Ванюшку ясноглазого. Мамушки, да нянюшки, да дворня, да мужики кругом, да монахи, да странные люди. А пуще всего – дела.
Муж помер, она молодая вдова, сердце по ночам в ней мрет. Сны какие видит… Пока не родила, все детей видела, а родила да овдовела, стали чудные лики казаться. Ум да совесть бог дал боярыне Федосье, не смутили их ни богатство, ни почести в царевом Верху, не клала ни разу она старого мужа под лавку, не позорила его седой головы..
Одно любила она – разумные беседы. Другие боярыни и не слыхивали от мужьев своих больше того, что на царевой службе деется, а боярыня Морозова знала дела широко: деверь, большой боярин, первый воротила в государстве Борис Иваныч Морозов, любил с ней беседовать.
– Приезжай ко мне, сноха, во двор, – часто звал он Федосью Прокопьевну, – поговорим с тобой, радость моя духовная!
Федосья и говорила ему от писанья, от веры, от «Маргарита», укоряла, что собирает он сокровища, а сам уж стар, скоро помрет, и все его мечтанья будут погашены и увянут, да и всюду пепел, прах, и рыданье, и плачевье…
– Вот и вся-то твоя сила золота! Ну к чему, деверюшка, твое богатство?
Посмеивался, бывало, Борис Иваныч.
– Государство строим! – говорил он.
– И Диоклетиан-царь свое царство строил, да мучеников мучил. На дыбе царство не построишь!
– А как народ вразумить? Научи, невестушка, что ж… – говорит, посмеиваясь, Борис Иваныч, а Ртищева Анна Михайловна, Федорова сестра, что слушает эти речи, ахает тихонько:
– Сестрица, что говоришь! Не гневи боярина!
Всю свою неистраченную душу боярыня Морозова отдала простой вере: как поверила сызмальства, так и верила до сей поры, до первой сединки. Часами простаивала на молитве, плача, вздыхая, прося прощенья за те грешные помыслы, виденья, что томили, осаждали со всех сторон ее сильное тело… Чтобы ослабить тело, носила она на голом теле власяницу – жесткую рубашку из белого конского волоса, без рукавов. Как-то и увидала на ней власяницу эту невестка, царицына сестра Анна Ильинишна, и подняла же она ее на смех, срамила же ее! А жила боярыня Федосья так, как жил когда-то царь Феодосий: носил под пурпуром власяницу, и хоть скакал в ристалище на золотых колесницах, а сам варил себе еду, переписывал книги, раздаривал их, сам работал на нищих… А после кончины Глеба Ивановича морозовский двор стал и вовсе монастырем: и службы, и стояния, и рукоделье, пряденье и тканье боярыни да всей прислуги на нищих, а по вечерам выходы боярыни по бедным да тюрьмам с деньгами, с едой, с одежей– с роздачей.
Плачет Федосья Прокопьевна у себя в опочивальне, икон уж не видит, – горят пред ней добрые да смелые Протопоповы глаза, бабы да люди в людских шепчутся: что, какая это беда стряслась? Жалко им боярыню милостливую, а всего жальче самих себя: грянет несчастье с хозяйкой, куда еще попадешь после жизни сытой, хоть и богомольной? Сбившись в тревожную кучку, долго качали головами приказчик Андрей, вдова Анна Сидоровна Соболева, Анна Амосовна, первая наперсница, да другие.
Не сразу побывал протопоп у Федосьи Прокопьевны – дел много… Пролитая кровь заревом стояла над селом Коломенским, пламенела над всей землей, и не разобрать, кто был тут виноват – царь или патриарх? Ано оба немилостивы. Народ приходил в движенье – бежал подальше от Москвы, от городов, от воевод, от архиереев, от архимандритов, от стрельцов, от заплечных мастеров. В Заонежье, в Заволочье, в Заволжье прибегали люди, ставили избушки, копали землянки, жили свободно, кто как хотел. Одни держались еще церкви, имели своих попов, другие сами в церковь не шли и другим запрещали, говоря: «Пропала церковь! Не церковь это, а просто каменная изба». Не исповедовались они, не причащались, покойников закапывали прямо в яму, да дело с концом, и от попов с широкими рукавами ряс – по-гречески – прятались… Появились все отвергавшие капитоны, люди горячие, что шли за своим вождем Капитоном, родом из костромских лесов, ничего старого не признавали, заняли лесные дебри – земли костромскую, вязниковскую, муромскую, нижегородскую, суздальскую, вологодскую, собирали свои соборы, сами устанавливали по-своему богослужения, по-своему решали все великие вопросы – о боге, о дьяволе, о душе… Народ бросал своровавшую церковь с ее вором-патриархом, рвал с ней, шел за богом самостоятельно…
Уходил он и из государства. Бросая свои поля, свои ремесла, выпадая из государственного обихода, черный человек терялся для государства как добытчик, как плательщик.
Люди бежали не только в леса, особенно бежали и на Дон – с Тихого Дону выдачи беглых не было. И как тесто в деже всходит на теплой печи, в этой сбежавшейся на Тихий Дон голытьбе, среди новых становищ воровских казаков бродила, пузырилась, вздыхала душа восстания.
Москва давно хорошо понимала, что свободный вооруженный Дон всегда таил в себе для нее опасность, помнила, чем были казаки, во время Лихолетья. Прошло уж больше тридцати лет, как Москва взяла крестоцеловальную запись, то есть присягу, «от атаманов и всего войска Донского», в которой говорилось прямо:
«И нам, казакам, самовольством и без государева указу на море турского султана и в города не ходити, и кораблей и каторг не громити, и городов и сел турсковых не воевати и не имати. И на Крымские улусы не ходити, и на Волгу и под Астрахань не ходити, и городов и людей не грабити и не брати, и у Шаха Казилбашского[161]161
Персидского.
[Закрыть] караванов и бус не громити, у городов и сел не воевати, и государевых московских послов и посланников и воевод их и ратных людей не побивати, не грабити, и дурна никакого им не чинити.
И целуем животворящий крест господень на том всем, как в сей записи имянно, – государю служити и прямити и добра хотети во всем по правде безо всякой хитрости и живота своего не жалея…»
Никоново неудачное дело, голод, дороговизна да война ввергли народ в смуту, а в смуте той легко могли забыть донские казаки свои клятвы о прекращении «бывалых самовольств» и об том, чтоб «государства под ним, государем, не подыскивати». И это тоже знали и понимали на Москве.
Боярин Федор Михайлович Ртищев пожаловал в кельм протопопа. В мартовский день, серый, с крупным мокрым снегом. Боярин приехал, видно, после послеобеденного сна, хмурый, с отекшим лицом. Протопоп не спал после обеда – работал. На стук в дверь встал из-за стола, сунув лист рукописи в ящик. Благословил гостя. В келье было одно узкое окно, под сводами навис сумрак, горела свеча.
– Поздорову ли, боярин? – спросил протопоп.
Тот молчит. Подсел к столу, глянул через плечо на бумагу.
– Пишешь все, протопоп? – спросил боярин, подняв лик кверху.
– Бог велит писать.
– А что писать?
– А что бог велит!
– А что бог велит? Он вот что велит – царю помогать. А ты чего делаешь?
– Помогаю… Блудню обличаю!
– «Обличаю»! А как царство строить? Кому?
– Кесарево – кесарю, божье – богу!
Ртищев встал со стула:
– Слушай, отче Аввакуме! Помолчи! Не вороши старых обид. Ни своих, ни царских. Земля шатается…
– Народ мятется!
– Мятется! – повторил боярин. – А ты что делаешь? В Тайном приказе все время про тебя вести идут. «Ворчит протопоп, а его ворчанье – как гром». Царь тебя из Сибири позвал? Позвал! Пошто? Чтоб ты государству помогал!
– Помогал! А чего вы творите? Чем ты, боярин, никонианин, похвалишься? – так и вскинулся протопоп. – Или народ в государство что бревно в избу – тесать да класть безо всякого милосердия? Топором обтеши, огнем обожги да петлей подымай? Ты, боярин, когда такую церковь видел – с топором да с огнем по живым людям? А? Как, скажи, помогу царю, когда царь с Никоном такую церкву сотворил?
– А помогал игумен Сергий Дмитрию Иванычу на Дон идти?
– Да нешто Сергий топором махал? Благословлял, о, только и есть… Или ты Сергия-то с Никоном сравнил? Троицева-то Сергиева обитель и после Сергия Руси помогала в Лихолетье. Кто народ поднимал поляков выгонять, а?
– Монахи тоже сражались…
– Да не со своими же! А вы теперь – ни пути, ни дела: секи да пали, руби, жги да вешай! А неведомо за што! Сами же соблудили над церковью с Никоном, с носатым и с брюхатым с борзым кобелем, да бросаетесь на тех, кои правду говорят. Больно ох нам, правду вы нашу сграбили да хотите, чтоб мы ж бы и молчали! То ли малое дело? Праведность нашу разорили! Римлян везде развели! А кто страдает? Наро-од! Он трудиться хочет, честно, светло жить, работать свободно, а его толкают то войной, то чумой, то попами – беги-де куда глаза глядят… Церковь-то старая за народ стояла да о нем молилась, печаловалась, а Никон на народе в папы римские хочет, вон куда! Всем миром повелевать! А зачем Михайлычу нашему, скажи на милость, польским крулем быть, а? Мужик-то сер, а ум у него не черт съел. Он себя знает… Он… мужик…
– Что он? Что? На царя, что ли, пойдет? – оборотился оборотнем страшным боярин. – Ась?
– Нет! Не подымет мужик руки ни на царя, ни на брата своего. Сам сгорит, уж коль его на грех толкают, а не согрешит! Не убьет!
– Опомнись, протопоп! – избычась и вплотную подходя к нему, тихо сказал боярин. – Подумай, что говоришь. Или опять захотел в лес?
Протопоп опустил поднятую возбужденно руку, опустил было и голову.
И опять глянул твердо.
– Грозишь, боярин? В леса! Что говорить, красна Москва-то! Не Даурия! Вот што тебе скажу: хочу сам с царем говорить, сказать все хочу ему… Пусть он, миленький, душу нашу нам оставит, а народ помогать государству будет…
Уехал молча боярин, слышно было за окошком – орали «пади» вершные… Протопоп постоял у двери, смотря на порог.
«Что ж, – подумал он, – может, это мы только мним, будто то был боярин Ртищев. А это он и есть сам антихрист! Да не мысленный, а телесный, что по земле ходит… И Никон такой же… И много таких, и все это – он, антихрист… Ходят враги меж нами! Неправо творят. Или все здесь, на Москве, смущенье да обман? Все как есть?»
Словно теплым ветром в лицо дунуло. «Нет, не все! Боярыни Федосьи глаза не лгут! Святая душа! Чистая душа! Просить ее, чтобы она царице довела – царь бы со мной поговорил. Царица упросит миленького, скажет царь, чтоб пришел он, протопоп. Поговорят они, скажет царь, чтоб веру нашу не иначить, – так все и станет по-прежнему, несмятенно… Безмятежно. Морозова – она сделает. Сделает…»
А занят протопоп с каждым днем все больше. Великий пост, Пасха-то поздняя, служит по разным церквам, поучения сказывает протопоп, исповедует. В келью к нему народу отовсюду ходит все больше. Времени даже нет из кельи к семье выбраться. Как-то они живут? Да к Фе-досье-то нужно!
Как подумал протопоп про Морозову, словно что-то сладко оборвалось в груди да захолонуло…
Надвинулся апрельский вечер; днем все таяло, шумели снеговые воды по улицам, в бревнах мостовых, небо снизу алое, золотое, сверху бирюзовое, высоко горела большая звезда, повис серебряный серп. Светло небо, и темней казалась земля, черны узоры веток черных дерев против зари, черны высокие тыны да ворота, узорные коньки крыш, черны прохожие, хрустят черные, стынущие в ледок лужи, навоз и грязь. Борзо шагал протопоп к Тверским воротам, где Настасья Марковна сняла избу для семьи.
Протопоп шел, чтобы отдохнуть в семье от грызни против никониан, против самого Никона, – дьявол-то был силен, измучен был протопоп, не знал, что ему делать после разговора с Ртищевым.». «Хитер ты, Федор Михайлыч!» – думал он. Поговорить с женой, с Настасьей Марковной, рассказать ей свои сомнения, получить простой, добрый совет. Дня три он не видал ее…
Так уговаривал себя протопоп, шагая по Тверской вверх, подпираясь двурогим протопопским посохом. Поговорит он вот с Марковной – утихнет тот червь, что глухо грызет, шевелится в самой глуби души.
В толпе берез против зари чернеет церковь Дмитрия Солунского. Протопоп миновал ее, прошел мимо братниных ворот в соседние, вошел во двор, на крыльцо. Войдя в темные сени, слышит – кричат люди.
Нащупав скобу, распахнул дверь, и голоса оглушили его. Избу освещала сальная свечка да топившаяся русская печь, две горницы были набиты народом. Здесь жило человек двадцать Протопоповой семьи. Марковна, снова беременная, пятеро ребят, из которых старшим, Ивану да Аграфене, было уже под двадцать, потом Прокоп, да Акулина, да Ксюшка – полтора годочка, да жена Ивана Ненила, у них ребенок… Да жили здесь еще две матери-вдовы – Фетинья Ерофеевна с сыном, да Анна-кумычка, из которой протопоп изгнал бесов и с тех пор она привязалась к своему избавителю, да Федор-юродивый да еще Филипп-безумный на цепи у стены, и еще люди, что прижились у добрых Петровых…
Филипп гремел цепью, выкрикивал что-то божественное. Федор укрощал его, читая в голос над ним псалтырь, младшие ребята надсажались в плаче, а Марковна да Фетинья стоя, озаренные огнем из печи, уткнув руки в бока, кричали друг на друга, бранились в неистовой бабьей ссоре…
Ссорились бабы из-за расходов на торгу и, не помня себя, выкрикивали гнилые, обидные слова.
Протопопу ударило в голову: мира искал он в своей семье, а тут в ушах звенело от криков и брани.
– Бабы, уймитесь! – метнулся протопоп между женщинами, оттаскивать стал одну от другой, да обе вцепились ловко друг другу в волосья, сорвали друг с друга платки, повойники.
Без памяти от стыдного гнева, протопоп сорвал с себя кожаный пояс в три рубца, стал хлестать одну и другую. Одержимые женщины расскочились с плачем в разные стороны, безумный Филипп что было силы загремел цепью, завопил во весь голос. Вопила и металась вся семья, со всех сторон, ребята с визгом лезли под лавку.
Протопоп в отчаянье бросился на Филиппа и, не помня себя, хлестал его. И почудилось протопопу – в этих криках слышится негромкий чей-то смех:
– Хе-хе-хе…
Окаменел протопоп, стал глыбой, волосы подняты, борода сбилась. Понял он – смеется то злейший его враг. Бес. Ага! Попался-таки протопоп в его лапы! Хе-хе-хе!..
За волосы схватился протопоп, рухнул на лавку к столу.
– Боже мой! – стонал он. – Согрешил я, окаянный! Не удержал гнева! Дрался, поп, что земский ярыжка… Одолел меня бес, как Никона. Бабы! – вскричал протопоп. – Бабы! Настасья! Фетинья! Идите сюда! Спасайте меня…
Упал на колени, бился головой об лавку, волосы свисли на плачущие глаза…
– Простите меня, окаянного! Не совладал с собой… вас бил! Все, все, кто здесь, берите ремень. Вот он, вот… Каждый хлещи меня… По пять разов…
И, приподняв голову с полу, грозно оглядел всех:
– А не будете бичевать – прокляну в нынешнем веке и в будущем… Как отец! Как иерей!
И он стал сволакивать с себя шубу, однорядку.
– Бейте меня! Стегайте!
Тихо стало в избе, темные фигуры толкутся в алом свете из печки вокруг стоящего на коленях, согбенного протопопа, хлещет ремень, стонет протопоп.
Встал молча, морщась натянул рубаху. Оделся в шубу.
– Уходишь, Петрович? – подошла к нему тихая уже жена, лицом к лицу.
– Ухожу. Тишины ищу, а везде в мире свара…
– А где тишина, Петрович?
Вышел в сени, спустился на крыльцо, у ворот оглянулся.
В бледном свете месяца среди рассыпанных вешних звезд видать – маячит на лестнице скорбно протопопица Марковна, руки опустила.
– Уходишь, отец?
Брел, не отвечая. Из конуры тявкнул дворовый пес.
– К боярыне Морозовой? – спрашивала Марковна. – А?
Хлопнули ворота – ушел без ответа. Да как ответишь?
Баба-то все чует. К Морозовой! Ну да, к ней! Нахмурился протопоп, за воротами прибавил шагу. Тут недалеко! Тянет и тянет она его к себе, как камень-магнит железо…
Молодой месяц давно ушел из свинцовых узоров окна, унес светлый плат с брусничного ковра на лавке, небо стемнело, свечи стали ярче и в шандале на крытом синим сукном столе и в кованом железном паникадиле под дубовым потолком. Хозяйка, боярыня Морозова, в своем большом кресле сидела у торца стола, прямая, сложив руки ладонь в ладонь, вся в черном. На лавке под окном сидела покрытая узорным платом, румяная ее сестра княгиня Урусова Авдотья, слушала, охватив своих ребяток – Васеньку да двух дочек в сарафанчиках да в платочках, Настеньку да Дунюшку. За ней рядом княгиня Ряполовская. Подале сидела верный пес Федосьин – Анна Герасимовна. А у двери с кованым замком, в широком косяке, с высоким порогом прижались в углу двое странников – приплелись они к боярыне с Поморья. Трещал за печкой сверчок, и пахло смолкой, лампады перед богами сияли.
Протопоп сидел напротив боярыни на лавке с перекидной резной спинкой, темный, широкоплечий, ладный. Отблеск свечей ложился, блестел на высоком лбу, на прямом носу, зажигал золотые нити седины в волосах, в мягкой бороде. Сидел легко, сильные руки двигались красиво, плавно, в лад объясняя слова, глаза блестели. Видно было: говоря, напряженно думал протопоп, брови его сдвинулись, глаза прищурены, – далеко смотрит он из этой Москвы, из апрельской, сиреневой, закутанной в дымные сумерки, из этого сияющего свечами покоя. Смотрит прямо в век будущий.
Где-то далеко стала, глухо шевелилась, дышала обидами, палила бедами неурядная, вся в скитаньях жизнь, бездомные блуждания в лесах Сибири, твердые льды ветряных озер, шаманские бубны, зверовые тайги, или все то и впрямь было? А здесь, около светлой жены, сладкий рай, сияющий покой, который придет, должен же прийти на бедную, темную, искровавленную землю.
Протопоп говорил задушевно, страстно, словно не он, а кто-то иной выгребал из его души, как из закрома, золотое зерно накопленной годами думы:
– Придет время, все пустыни будут возделаны, зашумят хлебами. Нарциссом расцветет земля необитаемая. Крепкие руки нужны нам, чтобы трудиться. Пусть не дрожат колени наши… Кто робок из нас – стань твердым. Пусть хромой вскочит, как олень, пусть радостно поет язык немого… Утешьтесь: там, где сегодня только марево, завтра будет озеро свежих вод. Воды напоят жаркую землю, землю покроют деревья, и травы и цветы будут там, где ныне воют шакалы.
Верим – так и будет. Видим мы все это и утвердим, поставим на земле. Деятельный спасает мир. Горе опустошителю! Горе грабителю! Они будут сами опустошены и ограблены. А мы, как беременная женщина, мы вопим, стонем, мучаемся родами, рожая прекрасное дитя… Ах, много нам еще мук, много страданий… Виждь, слышателю, не обойти нам нашей беды, невозможно нам ее миновать. Идет на нас всех чаша сия… Мы-то все ровня меж собой, али ты нас тем лучше, что ты боярыня? – говорил Аввакум тихо и проникновенно. – Для всех едино небо над нами, равно сияют нам солнце и месяц, так же равно всем и земля и воды, так же всем равно растения всякая – не больше, не меньше. И от всех нас равно нужны подвиги. А в подвигах отыщутся искусные и мудрые, что избавят нас…
Видим ныне – выпросил у бога светлую Россию сатана, чтобы обагрить ее кровью мученической, а и то знаем, что из муки– наука. Учимся мы, страдая! Учимся! И до чего бес же хитер! Дьявол так и есть дьявол! От самоея церкви страдаем! Никон чего хотел – огнем, да кнутом, да виселицей веру утвердить! Которые апостолы сему учили – ей, не знаю! Мой-то Христос не велел кнутами учить. И апостолы учили, да не эдак. Если на злое мы младенцы, то по уму-то выросли и знаем: не то что человеческим языком добро заговорим, а если даже и ангельским языком, да любви иметь не будем – будем как бубен греметь, да и все тут! Нет! Братолюбивы будем друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждаем! В усердии не ослабеваем! Духом пламенеем. Любовью да милосердием пройдем вперед, мы не кони, кнутом нас не гнать. Свет миру – любовь да нежность… Мал и слаб ребенок и нежен– что в нем? А он будет жить! Мертвецы-то тверды, велики да страшны, – а в них нет жизни… Светите, люди, любовью людям, все увидят ваши добрые дела! Спаси бог, скажут!
Протопоп сверкнул глазами, опустил голову, кулаки сжал.
– Когда ж доброе-то придет? Когда? – спрашивала, вся подавшись вперед, боярыня.
Протопоп поднял голову, провел рукой по лицу.
– Слышь, кричат караулы над Москвой! Страж, сколько ночи? – говорил он. – Страж, сколько ночи? Утро близко, да еще ночь, боярыня. Что ж скажу? Слава богу за все, хоть пока и ночь.
Протопоп нахмурился, подымался, шарил по лавке не глядя шапку. Встал, поднял брови.
– Делать нам больше нечего, одно – терпеть! Не драться же! Больше драться – больше крови лить, – говорил он. – Почему люди людей кровавят? По бессилью своему, по слепоте. Пошто Никон-то греческий рогатый клобук на себя вздел? Слаб он, вот и думает, что всех клобуком сожжет… Кто с мужика тулуп снял? Не мороз, а солнце! Мороз ударил, а мужик только подпоясался потуже, а как солнце пригрело, он и шубу долой. Ха-ха! Мы – как солнышко, любовью теплой сильны. Сильные должны людей согревать, сносить все тяготы от бессильных да им помогать. Помоги и мне, боярыня! – поклонился Аввакум в пояс. – Хочу тебя попросить!
– Чего надобно, все тебе сделаю, отец!
Словно наедине остались в палате протопоп и Морозова. Глаза их глядели прямо в их души.
– Попроси царицу, Федосья Прокопьевна, довела бы она государю, позвал бы меня царь к себе, – тихо говорил протопоп. – Не знаю, что и делать. Все думаю: повернет государь, откажется он от Никоновых смущений… от мечтаний… И все замирится на земле, все будут мирно трудиться, а не бегать… Прости, боярыня…
Протопоп поклонился большим поклоном, ему ответили безмолвно его слушатели. Вышел из двери – в сенях с зажженным фонарем в руках стоял дворецкий Андрей Федотьич.
– Возьми, батюшка, с собой фонарь-от, а то решеточные сторожа не пустят. Запоздно уж…
– И то спаси бог! – улыбнулся протопоп. – Пойду, как философ еллинский Диогенес.
Желтый огонек, покачиваясь, двигался по хрустким от ледка улицам Москвы под весенними синими звездами. Протопоп шагал, думая:
«Говорят звездословы: знаем все, небесное и земное. Ну и знают они ученье небесное – звезд течение… А земное-то, наше простое, не знают! Нет! Не звезд теченьем совершаются наши дела. Ей-ни! Только любовью, одной любовью… Кто земной любви не знает, тот и неба не знает…»
Горными вершинами пронеслись по звездам орленые башни Кремля. У железных ворот монастырского подворья застучал протопоп:
– Отпирай, отпирай, Иона. Полунощник я, грешный протопоп.
Загремела створа, скрипнула, ухнула, и все стихло бесследно.
А Федосья Прокопьевна долго сидела одна у постели, сжав руки, горькая молодая вдова. Шей, вдова, широки рукава, было б прятать куда небывалые слова!