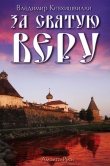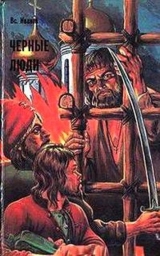
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 42 страниц)
Утро следующего дня встало в сером дожде из низких туч, вымытые деревья в босовском саду блестели, доносило из-за тына, с соседнего пожарища, гарью, и люди таскали в дом пожитки обратно. Все восстанавливалось. По улицам бегал народ, но как-то не глядя по сторонам – словно все были с похмелья.
Да так оно и было. Разбили всего пять домов, сожгли два, нашли два больших погреба – выкатили бочки хмельного, и всю ночь вокруг пожарищ гремели песни, крики, пока в полночь не зашумел над городом свежий дождь, залил угли на пожарищах, утишил души, навел сон.
И утро пришло, как всегда, с неотвратимым, утреннеясным сознанием, что жизнь не останавливается, что ее нужно продолжать. К тому же по торгам поползли слухи, что Похабова видели скакавшим на коне без шапки по Московской дороге и он работающим на полях крестьянам грозил кулаком и кричал что-то нехорошо.
Надувшись индейским кочетом, сел уже спозаранок в своей избе воевода Михайла Васильевич Милославский, и хотя суда и расправы еще не начинал, однако слушал, подавшись набок, волосатым своим ухом, что ему шептали верные люди. Было уже установлено, кто таков Моська Рожкин: он бобыль из деревни Пантусова и, главное, по бобыльному своему положению в разверстке на почестные воеводские деньги за бедностью не мог принять участья.
Деньги же были и впрямь собраны, двести шестьдесят рублев, но до розыскания подьячего Похабова установить, у кого, где они сгинули, было невозможно. Одно было несомненно – приказные хотели воеводу обмануть. Истцам строго было приказано – искать и схватить Чагина, узнать, кто он таков, откуда, а молодой подьячий Тиунов уже получил указанье: собирать сказки по этому воровскому заводу– по бунту, чтобы довести в Москву. Даром такое дело пройти не могло.
Серый дождь, неприятный, словно похмелье, словно сыск, сыпался и сыпался с низкого неба, хотел залить всю землю. Народ-то был всюду один и тот же, работал везде одинаково, сильные обижали его одинаково, почему и мятежи искрами пырскали по всей земле. И всюду было одно и то же: бояре и воеводы сперва поддавались, народ брал силу, а потом, должно, народ пугался того, что натворил, и тогда уж бояре и воеводы забирали свою силу назад и уже свыше всякой меры. Земский собор, правда, был царем обещан, но кто его знает, когда он будет, да что еще принесет он с собой? А дело-то делом – ждать оно не любит, дело все время растет, как дерево, дела не бросишь!
И Василий Васильевич в этот дождливый полдень сидел у стола в горнице, потукивал по столу пальцами, перед ним на лавке сидели оба сына – Павел и Тихон.
– Что ни говори, – вздохнул Василий Васильевич, – а видать, на Волге работать нам не рука. Там иная стать. Народ там другой. Необышный. Народ бойкий, крепко бьет. И малые народцы там – мордва да чуваши – тоже шумные. Мордва-то Нижний Новгород-то осаждала не раз. И с татарами они давно вместе живут – драться, воевать приучены. А. татаре, калмыки на свои орды смотрют, старым живут, земля там немирна. Казаки – народ вольный, воевать больше любят, чем хлеб пахать да ремесла вести. В саблю они верят, не в крест. Живут не трудом, а шарпаньем. Немирный еще край там. Не работать нам там. Верно, Тихон?
– Верно, батюшка! На Волге пока трудно.
– Вот я и говорю – будем работать здесь, на Белом море, по-старому, на Камне, за Камнем, в Сибири. Ты, Павел, поедешь ныне к Архангельску, на море. Там сейчас Серега Феоктистов в приказчиках наших, парень верный, заботливый, да свой глаз – алмаз. Поедешь – веди там все старым обычаем, а коли новое увидишь либо от людей услышишь, не отвергай, хорошее принимай, да старого держись. Старое-то все знают, а новое сперва – ты один. Пока других-то научишь, много воды утечет. Учить тебя нечего, – слава тебе господи, учен сам. Народа не обижай. Мы с народом живем, на народ работаем, от народа живем. Смотри, чтобы вся снасть и работа были в полном порядке, чтоб люди хребта зря, дуром не ломили. Заботлив будь во всем. Хороших, работящих людей подымай, чтобы они вокруг тебя стояли, тебе же подсобляли, на худых смотри по правде – дурная трава из поля вон. Паршивая овца все стадо портит. Да помни: артель – святое дело. Рядись – не торопись, сделав – не сердись. Полюбовного договора и патриарх не отымет! Людей береги, люди все достанут! Это – наперед.
Потом товару в Архангельском возьмем, сколько мочно, повезешь в Сибирь. Пётру с собой бери, его надо к делу приучать. И как у Сереги Феоктистова дело перенимать будешь, его не обижай, что он по-своему работал, – каждый молодец на свой образец. Ну да здесь все дело ясное. Вот Тихону – мудренее.
Василий Васильевич обернулся к Тихону.
– В Сибирь поедешь! – сказал он значительно.
Тихон встал, поклонился в пояс:
– Прошу милости, батюшка.
– Та-ак! – постучал Василий Васильевич пальцами по столу. – Подальше, значит, сам хочешь? Ин ладно, езжай, сынок! Ты теперь Москву красную видел, посмотри и на дремучие леса. Там вольнее. Ладно. Проедешь по нашим торговым дворам. В Мангазее-то теперь дела мало становится – соболя-то всего извели. За пушниной надо идти в поиск дальше. Сенька-то Свищов пишет в грамотке… погодь, погодь!
Василий Васильевич поднялся, достал укладку из-под лавки, вынул оттуда письмо и большой лист бумаги – чертеж Сибирской земли.
– Смотри сюда, – говорил он, вздевая на нос очки. – В Мангазее расспроси, как Хабаров Ерофейка, – куда, когда он ушел на всход. Знаю – поплыл он по Тунгуске по Нижней. Сидит будто теперь давно на Лене или на Киренге-реке, хозяйство будто хорошее. Пашня, мельница, соль варит. Дальше всех он вперед ушел. Подбирайся к Хабарову. Скажешь ему, мы его давно знаем, вместе будем робить, ежели он по-нашему, по чести, надо нам за соболями идти дальше, куда еще не хожено. На всход, к Великому морю, Ино туземцев не замай, не обижай, чтоб и они свою выгоду имели. Хорошо бы вам с Хабаровым вместе на Амур выйти. Там пашен добрых немало. Повезешь, знамо дело, с собой товар всякий и торгуй честно: в горшок муки под вершок – и твой горшок. Присматривай серебро, спрашивай о меди – нет ли где руд хороших.
– Старайся, Тихон, в те вольные сибирские места вперед воевод московских попасть: злы они, воеводы-то, что их так далеко от Москвы заслали, и потому сильно грабят. С воеводами ласковей, а больше держись тамошних князцов, – они в случае и помогут, и выручат, и поддержат… Рука руку моет. Товары придерживай, довези до конца, где их ране не бывало, – продашь с пользой.
Два сына и отец сидели за столом, смотрели на чертеж.
Сколько земли! Сколько лесу! Сколько рек! Сколько зверья! Взять все, увязать вместе, в одно великое общее дело, чтоб народ жил богаче, краше, в достатке.
Тихон вспомнил Волгу, крик боярина Шереметьева: «В воду попа! Мечи в воду!..» Сила, гнусная, грубая, жеребячья сила слышалась в этом истошном крике, жестокий захват. Кто против него, против боярина? Никого! А хорошо ему, дураку, кричать да указывать, коли народ православный весь работает, как муравьи, и сам до боярина, впереди– и в лесах, и на полях, и на реках, и на горах сибирских, – всюду кормя людей, обувая, одевая их, всюду давая им орудия – топоры, пилы, сохи, косы, серпы. Не боярами, жив народ, бояре на народе как гребень на петухе – для красы, а народ жив трудом. Трудом крепнет государство – и трудом праведным, безобидным. Дело народа – пахать да тесать, боярское дело – готовым владеть. Трудится народ вековечно и тихо, как земля хлеб неслышно растит. Не вырастит земля хлеба – и всем придет карачун. Не будет работать народ – не бывать и государству.
Сидят трое. Большое дело перед ними, трудное, но славное. Каково-то бог приведет все доспеть, все сделать, выехать на Белое море, в Сибирь – народ кормить, государство обогатить…
– Батюшка, – спросил Тихон, – а ты как о себе смотришь? Что робить будешь?
– В Москву, видать, поеду, – отвечал Василий Васильевич. – Должно, в Земский собор позовут, – може, там пособить в совете надо будет. Земля наша все одно как снег с горы катится, сперва тихонько, потом скорей да скорей. Приходится и всем нам, простым людям, великую думу думать.

Часть вторая. На западе и на востоке

Глава первая. В старых республиках – во Пскове да в Новгороде
Шел великий пост 1650 года, и царь Алексей каждый день в Крестовой своей выстаивал по пять часов служб, тысячами бил земные поклоны, ел сухо, без варева, без масла, по понедельникам, середам, пятницам ничего не ел, кроме ржаного хлеба. И царицы Марьи не видел целый пост, почивал полтора месяца один в своей постельной.
Март – месяц веселый, солнце светит, с царева Верха звенят капели, дороги почернели, воробьи в лужах купаются, а в Крестовой палате звенит высокий голос, попа:
– «Пост – от зол отчуждение, пост – языка воздержание, пост – пива отложение, пост – похоти отлучение, пост – лжи осуждение…» Постит царь, от голода ум легок, не окоснел, над его рабочим столом встают страшные виденья – вот те и отложения попечения…
Только что бурей прокатились мятежи по всей Московской земле, казнил народ верных царских слуг. Тревожен стал государь после Соляного бунта, чудятся все ему кругом бешеные глаза, крики: «Любо! Любо!» А за рубежом – еще хуже: в Лондоне аглицкие черные да торговые люди королю своему Карлусу голову срубили. А бояре все на Еуропу смотрят. Чего они там не видывали?
Царь вскочил, подошел к окошку, заглянул. Стрельцы стоят в кафтанах синих, – значит, в карауле приказ[70]70
Полк.
[Закрыть] стрелецкого головы Осипа Дурнова. Кругом Верха решетки поставлены, чтоб челобитчиков близко не допускать. Теперь царь, выезжая в город и запросто, меньше двух сотен стрельцов с собой не берет. А ехал он на масленой неделе, в самое Прощеное воскресенье – прощения просить ко гробам дедов своих Романовых в Новоспасский монастырь, – куницей проскочил сквозь строй смурый мужик.
– Господи, помилуй! – визжит в клетке попугай и вертится в медном кольце колесом.
– Тьфу! – плюнул царь, а в глазах все тот мужик без шапки, ровно белены объелся, зенки белые выкатил, орет дурным голосом, прет под царева коня, – тот храпит, прыгает, а мужик за голенище лезет. За ножом!
Застучало сердце у царя:
«Убьет, проклятый!»
И, замахнувшись высоко, ударил царь со всей силой того мужика по лохматой голове тяжелым золотым крестом, что держал в правой руке.
Мужик упал под коня, тот на дыбы. Потом из голенища у мертвого мужика того вынули челобитную. Ночи с тех пор не проходило, чтобы не метилось государю волосатое лицо с выкаченными глазами.
«Убил до смерти! И это в Прощеное-то воскресенье!» – грызет сам себя государь.
Но вдруг, сменяя раскаяние, в душе царя встает темный гнев.
Вор есть тот мужик. А бояре? Не лучше. Кому верить? Не единодушием служат ему бояре, а двоедушно – как есть облака. То прикроют солнце приятным покровом, то веют всяким зноем й яростью, мечут молнии злохитренным обычаем московским.
С кем посоветуешься? Не с Ильей же Данилычем, тестюшкой! Бородой тот трясет, чревом колыхает, ищет себе прибыли. А Морозова, благодетеля, засадили к Кириллу на Белоозере горлопаны.
Прошлой осенью, как на Сергиев день[71]71
25 сентября.
[Закрыть] ходил царь к Троице-Сергию, вызвал он туда боярина Бориса Иваныча для-ради мудрого совета. А тот уже из Кириллова монастыря выехал, жил в тверской своей вотчине, в Берестове-селе.
Из тверского поместья приехал тогда Морозов в Троицкую лавру. Скорбен ликом боярин, волосы, бороду не стрижет – в опале он царской. Пал царю в ноги, плачет, миленький, и царь с ним плачет, за решеткой монастырских покоев осень тоже плачет, дождик, тучи, лист желтый падает. А как поднял царь наставника, а тот глянул скрозь нависшие брови – взоры жгут, что каленый уголь.
Многое насоветовал тогда молодому царю старый боярин. Как съедутся в Москву на Земский собор выборные люди, писать бы им в Уложение прежде всего такие статьи, чтобы гилёвщикам бунтовать неповадно было. Гиль – поруха государевой чести, и потому всех чинов люди, коли прослышат чего-либо про злоумысел против царского величества либо про заговор да особливо про скоп, а не доведут этого до царя и потом-то сыщется допряма – того казнить смертью нещадно!
– Попы да монахи должны, черный народ особо крепко блюсти, от всякого дурна удерживать, – говорил Морозов. – А чтоб попы да монахи не боялись народу перечить – писать в Уложении статьи такие:
«Какой человек архиереев лайею неподобной обесчестит– либо попов – и тот вор платит бесчестье митрополиту 100, протопопу 50 рублев, а попам платит бесчестье против его поповского денежного оклада, а попам – безместным – по пяти рублев». Править велено то бесчестье с виновных нещадно. И духовные люди будут тогда смелее – ежели их и излают, да они про то деньги стяжают. Попы-то деньги любят! – улыбнулся Морозов. – В приказах кто сидит? Бояре! Да разве можно верить Трубецким, Стрешневым, Шуйским? Рюриковичи они! Выше Романовых глядят. Стало быть, и приказам веру давать опасно. Так, стало быть, надо, как прадед Иван делывал, – опричный приказ ты, царь, заведи, и тот приказ будет зваться Тайных дел. Ведать надлежит Тайным приказом самому тебе, царю, да думному дьяку наивернейшему. Следил бы Тайный приказ за боярами, воеводами, всех чинов людьми, чтобы те не воровали, не творили бы измены. Вот как советовал тогда Алеше-царю старый боярин.
Сидит царь Алексей в своей комнате один за красным столом, в животе от редьки да от кваса бурчит, спина от поклонов ломит, в глазах мужик дурной маячит.
Чего делать? И верно, хочет народ черный по своей – не по московской – вере жить. Опять во Пскове да Новгороде мятежи.
В дверь стукнули.
– Заходи!
Влетел статный жилец Прошка в голубом зипуне с позументом, рубаха красная с жемчужным козырем, согнулся, тронул пальцами ковер, кладет на царев стол столбцы за печатью.
– Из Великого Новгорода! От Никона-митрополита! – сказал и, опять согнувшись пружиной, сгинул, словно его и не было.
Радостно стало на душе, как начал читать Алексей Михайлыч: чудесного видения сподобился Никон-митрополит Новгородский.
«В марте восемнадцатый день, – писал Никон, – я в Соборной церкви был у заутрени, и на второй кафизме смотрю я на Спасов образ, что перед нашим митрополичьим местом и назван Золотая Риза, вижу царский венец золот на воздусе, как есть над Спасовой головою, и летит тот венец на меня. Я от великого страха обеспамятел, а все вижу – и свечу перед образом, и венец – венец-то пришел и стал над моей головою грешной, руками я его осязал…»
– Вот каков он, Никон-митрополит, адамант[72]72
Алмазной крепости.
[Закрыть], свет очей наших! – умилился царь. – Великий он святитель, равноапостольный богомолец царский. Он ли не спасет нас? Ей-спасет!
Но дальше в грамотке шло такое, что уже радовать государя не могло. Мятеж в Новгороде разгорался, да такой, что в дело встряли шведы.
В 1617 году по Столбовскому договору шведы ушли из Новгорода, вернули Москве Порхов, Ладогу, Старую Руссу, а себе придержали поморский край с Иван-городом, Ямом, Копорьем, Орешком, да еще выпросили двадцать тысяч рублев деньгами.
Русские черные люди бежали из захваченных шведами мест к своим, а шведы за убежавших тяглецов да плательщиков требовали выкуп, грозили иначе войной.
Москва затягивала, не платила больше тридцати лет – сумма таких убытков шведских по их счету выросла до четырехсот тысяч рублей. Морозов торговался долго, а когда его сшиб народ, шведы стали настойчивее. Ездил в Стекольну[73]73
Так в Москве в XVII веке называли Стокгольм.
[Закрыть] боярин Пушкин Борис Иваныч, взял обязательство заплатить сто девяносто тысяч рублей. Эти деньги и приходилось теперь собирать с земских людей и всяких без проволочек.
В Стекольне, при дворе королевы Христины, жил московский человек, вор Тимошка Анкудинов, и выдавал себя тот Тимошка за сына царя Василия Иваныча Шуйского и добивался у шведов помощи для возвращения на московский родительский престол. Тимошка прибыл к шведскому двору из Семиградья с рекомендациями князя Ракоци.
Дело было нешуточное – еще живы ведь были на Москве старики, видавшие и помнившие первого самозванца, и по Москве поползли темные слухи о «природном царе», о «рюриковиче», против которого куда Романовым-то! Кошкины они да Кобылины.
Илья Данилыч Милославский, что ворочал Посольским приказом, послал в Стекольну посланника, Козлова Ивана Прокопыча, договориться о выдаче Москве интригана. Шведы оказывались в особо выгодном положении и теперь настойчиво требовали оплаты старых долгов.
Московский народ платить не хотел, бояре грозили правежами. К тому же во Пскове заговорили открыто, что с Москвы-де едет швед Нумменс через Псков, увозит из царской казны двадцать тысяч рублей.
– Бояре снюхались с немцами! – пошел разговор.
В феврале подошла широкая масленица – «тридцати братьям сестра, сорока бабушкам внучка, трем матерям дочка», когда, провожая долгую зиму, шире, по-весеннему развертывалась душа, развязывался язык, быстрей шевелились руки. Блины да пиво, пиво да блины, да лошади с цветными лентами в гривах да в хвостах, да скоморошьи пляски под гудки да сопелки, да ученые медведи, да весь народ честной на улицах до Прощеного воскресенья, до первых великопостных унылых звонов.
И у псковского площадочного подьячего Василья Слепого тоже, не хуже людей, шло блинное пирование с товарищами да с нужными людьми, когда в избу вбежал, запыхавшись, стрелец Прохор Коза.
– Садись! – загремели веселые голоса. – Наливай, хозяин, ему чару немалу, что поздно пришел!
Коза пить не стал, тряс смятенно заснеженной шапкой.
– А слыхали ль вы, добры люди, – крикнул он, – получил наш воевода Собакин Никифор Сергеич указ с Москвы– выдать шведам с наших мирских житниц десять тысяч четвертей[74]74
Мера сыпучих тел. Торговая четверть – 24 пуда, казенная около 10 пудов.
[Закрыть]!
– Да что ж это деется? Сами, прости господи, без хлеба, почитай, сидим! – колокольным голосом сказал поп Афанасий Другак. – Бояре хлеб шведам везут! А у нас мужики по деревням сосну едят!
За столом тут же случился бывалый человек Хренников Иван. Только год минул, как прибежал Иван от шведов, из города Копорья, – яко благ, яко наг, яко нет ничего.
Взвыл Хренников, руки вперед тянет, голос хрипит:
– Да за что же это шведам платить, а? Православные! Я-то видел! Я-то знаю! Мы от шведов бежали, так все свои хозяйства пометали. Житья не было! Ду-ушу они нашу задавили. Церкви позакрывали, попов похватали, колокола с колоколен поснимали – все нас в Лютерову ересь гнули. А теперь им деньги плати! Да ей ни в жисть!
Хозяин встал, выкрикнул бесповоротно:
– Идем, братья-товарищи, к архиепископу нашему владыке Макарию! Пусть скажет воеводе – не давал бы хлеба!
По праздничной улице с песнями валил народ, пролетели тройки-сани в коврах, кони в лисьих, а то и собольих хвостах. Ну, масленая! Гости толпой вывалились со двора Слепого, пошли, размахивая руками, громко переговариваясь меж собой, к ним присоединялись другие псковичи.
Архиепископ Макарий, древний, согбенный, серебряный старец, вышел на белокаменное крыльцо своего дома, кутаясь в черную шубейку на лисьих пупках, прищурился, из-под руки смотрел на яркий снег, на цветные одежды пришельцев, пожевал белыми губами, спросил хоть тихо, а явственно:
– С чем пришли, детки?
Такой крик поднялся со всех сторон, и немало времени прошло, пока уразумели, что понять эдак ничего нельзя. Видно только было, что народ просить хочет о чем-то воеводу.
– Добро! – сказал архиепископ, подняв сухую ручку. Крик унялся. – Я спосылаю враз за воеводой, за Никифором Сергеичем. А я уж пойду. Недужен я!
На чалом иноходце, разбрасывая воду и мокрый снег, въехал вскоре во двор сам воевода Собакин, в кафтане сахарного цвета на белках, выпивши.
– Вы, кликуны! Горлопаны! – кричал он с пляшущего под ним коня. – Не в свое дело рыло суете! Хлеб я сдам, как указано.
– Ка-ак так не в свое! – кричал народ. – Никифор Сергеич, бога побойся, наш хлеб-от отдаешь! Народный! Видать, тебе-то немцы своих ближе!
Вскочил вперед стрелец Коза:
– Да ты, воевода, с немцами снюхался! В Псковский детинец чужих пущать не велено, а ты немцев водишь! Шведов в дом к Федьке Емельянову пускал. Измена! Я сам в тапоры на карауле воротном стоял, все виде-ел!
Собакин не смутился:
– А што? Емельянов-то болен был, лежал, а у него со шведами торговые дела про государя!
Крики росли, росла толпа, а тут во двор прибежал от Петровских ворот стрелец Сорокоум Копыто, крича:
– И впрямь едет немец! Увозит с собой государеву казну! Народ! Не дадим нашей казны! То измена!
Ударили в сполошный колокол, народ побежал, у Власьевских ворот окружили шведа Нумменса, что ехал в сопровождении пристава Тимошина к Немецкому двору.
– В прорубь немца[75]75
Немец– от «немой», не говорящий по-русски, иностранец, но только с Запада.
[Закрыть]! – кричал народ. – Бей его!
Немца обступили вплотную.
– Что у тебя за казна? Сказывай, такой-сякой!
Нумменс задрожал, стал кричать, что его знает Емельянов, у него с ним дела…
– Федьку! – кричал народ. – Изменник он! Пытать Федора! Пытать немца!
Немца повели к Всегородной избе, отобрали бумаги, казну опечатали, посадили в келью монастыря, в сторожу к нему стали пятеро посадских да два десятка стрельцов. Народ бросился ко двору Емельянова:
– Где Федор?
Емельянов от народа скрылся, схватили жену. Та клялась, плакала и наконец выдала людям грамоту, что получена была с Москвы. Грамоту прочли вслух, всенародно.
Последние слова грамоты, как на грех были: «А сего бы нашего указу никто бы у вас не узнал».
– А-а! – завопил народ. – Тайная она, грамота-то! От народа прятать велят! Воровство!
Народ уже заливал всю площадь перед собором, все твердили в одно:
– Не давать немцу хлеба из кремля до царского указу! Воруют бояре!
Василий Слепой стал уже во главе собравшегося народа вместе со стрельцами – с Прохором Козой да с Сорокоумом Копыто.
Эта тройка велела ударить в колокол, выкатить на Соборную площадь два больших пивных чана, поставили на них немца Нумменса, обаполы с ним стали два палача с кнутьями. Нумменса допросили всем народом, в голос прочли все его бумаги.
Постановили псковичи так: немца – в тюрьму, а в Москву царю послать челобитье о боярском воровстве.
А в марте и в Новгороде бирючи на торгах стали кликать, чтобы люди не закупали бы себе хлеба помногу: будет-де закупать хлеб шведам царская казна.
К этому времени приехал в Новгород из-за рубежа торговый человек Никита Тетерин, сказывал, что-де шведы вот-вот снова на Новгород пойдут, только-де хлеб получат, в хлебе у них вся нехватка. И все-де это бояре творят от царя безвестно.
В это время через Новгород ехал с Москвы восвояси датский посланник Граббе. Посадский человек Трофим Волк ловко подкатился к его толмачу, к Нечаю Дрябину, посидел с ним в кабаке и дознался, что Граббе везет казну. Волк рассказал об этом другому посадскому, Елисею Лисице, а тот поведал уже открыто на торгу, всему народу.
Ударили и тут сполох в колокол. На звон с другими прибежал земский староста Андрей Гаврилов, чтобы унимать мятеж, да, услыхав такие вести, сам повел народ. Народ кинулся к Граббе – тот уже выехал из города. Поскакали посадские да стрельцы конно, воротили немца в город. Волк нахлестал посланника по щекам, переломил ему нос, пожитки у него отняли, отдали в сбереженье на Пушечный двор, немца самого посадили за решетку. А народ кинулся ко дворам богатых новгородцев, что вели дела с немцами, стал громить их хоромы и разорил шесть дворов. На Любекском дворе схватили приезжих немцев, тоже заперли под стражу.
Митрополит Новгородский Никон, услыхав о бунте, побледнел, сжал губы, с пламенным взором стал перед образом Христа-царя. Вот когда он должен действовать как духовный вождь.
– Господи, помоги! Господи, укрепи! – молился он.
Помолиться, однако, Никону не дали – прискакал спешно новгородский воевода – окольничий князь Хилков Федор Андреич – за советом: чего делать? Послали митрополит да воевода к народу стрелецких голов уговаривать – разойтись, кончить мятеж. Голов наколотили, одного сбросили с кремлевской башни, когда наступившая темнота придержала мятеж.
Но на следующее утро, 16 марта, колокол опять ударил на Торговой стороне сполох, народ бежал по улицам, крича:
– На вече!
Собралось вече.
– Государь об нас не радеет! – кричали новгородцы. – Бояре шведов нашим хлебом кормят! Деньгами им помогают!
Однако тут оказалось, что земский староста Андрей Гаврилов испугался, чего натворил, и сбежал. Народ остался без вожа. Вспомнили, что по приказу митрополита Никона схвачены и посажены под стражу митрополитный приказный Иван Жёглов да двое детей боярских – Макар да Федор Негодяевы: эти люди вчерашний день хвалились всенародно, что они-де все знают, что у царя на Верху деется, о чем говорят бояре.
Народ стал кричать невежливо про митрополита и про воеводу, побежал к Земской избе, освободил заключенных Жёглова и Негодяевых. К трем этим присоединились другие, кто посмелее: посадские люди Елисей Лисица, Игнат Молодежник, Никифор Хамов, Степан Трегуб, Панкрат Шмара, Иван Оловянишник, стрелецкий пятидесятник Кирша Дьяволов да подьячий Григорий Ахнатюков. Вся власть в Новгороде оказалась в руках этих неведомых до того людей.
На другой день, 17 марта, на память Алексея божьего человека, приходились именины самого царя Алексея. Народ и начальные люди, старые и новые, заполнили Софийский собор. Служил митрополит Никон, перед митрополитом стали вновь со сдвинутыми грозно бровями вольные новгородские люди – мужики-вечники. А Никона жгла память. Заставил же римский архиерей-папа немецкого короля стоять перед воротами замка босым на снегу, в рубище, с веревкой на шее? Да он, Никон-то, хуже, что ли?
И владыка Никон произнес гневное, грозное слово против мятежников и проклял поименно всех народных новых начальных людей, выгнал их со стыдом из храма.
– Анафема! – возглашал за басами дьяконов митрополичий хор. – Анафема, анафема!
Голоса хора отдавались вверху, в куполе, будто с неба, а народ пугался и дивился и, расходясь после обедни, шептался:
– Что ж это такое! Государь на своих именинах своих людей жалует, милость тюремным сидельцам объявляет, от оков освобождает, из тюрем выпускает, долги прощает, а наш Никон вон чего – проклинает! Да кого проклинает-то? Не одних Лисицу да Дьяволова, а всех нас, новгородцев, проклинает – мы-то все с ним. И в одной думе! На государевы-то именины да народ проклинать, а?
Мятеж разгорался, и на площади, на торгу, пристав Съезжей избы Гаврила Нестеров выкрикнул все впрямь и явно:
– Никон-митрополит да Хилков-воевода – прямые изменники! За бояр стоят! За шведов!
Митрополичьи да воеводские люди схватили Нестерова, сволокли к митрополиту на Софийский двор, били, бросили в тюрьму. А немного погодя прибежал в Земскую избу отец Нестерова, площадной подьячий, да женка его Алена, вопили:
– Мир, вступись! Митрополит да воевода нашего Гаврилу пытают, огнем жгут, злодеи!
Начальные народные люди опять ударили, сполох на Торговой стороне, собрали народ, кинулись к Софийскому двору. Никон и Хилков заперлись в митрополичьих покоях, но приказали Нестерова освободить. Народ криками встретил свою победу, а Нестеров тут же, на митрополичьем крыльце, сорвал с себя рубаху и казал народу исполосованную спину:
– Смотри, народ, что со мной митрополит сделал! А!
Народ ахнул, бросился вперед, выломал двери и ворвался в покои, лицом к лицу с Никоном и с князем.
И царь читал опять письмо Никона-митрополита:
«Я вышел к народу, а они меня ухватили со великим бесчинием, ослопом в грудь били, грудь расшибли, кулаками били и камнями, и схватили меня, и повели в Земскую свою избу. Проводили как мимо церкви, хотел я было в церковь войти, не пустили, все дальше вели, к себе. А довели до Золотых ворот, я тут отпросился у церкви на лавке посидеть, отдохнуть. Просил я народ – отпустил бы он меня в церковь Знаменья, литургию служить. Они на то преклонились. Я велел звонить, до Знаменья дошел с великою нуждою, и стоя, и сидя, служил, и назад больной, в сани ввалясь, домой приволокся. И ныне, великий государь, лежу при смерти, кровью харкаю, живот весь запух. Соборовался уже маслом, а не будет мне легче, пожалуй меня, богомольца твоего, прости, разреши принять смертную схиму».
Слезы катились из глаз царя. «Чего, собаки подлые, со святителем творят!»
Горло сжало, кулаки сами скатались, насупились царские брови, блеснули глаза.
«Нет, худые мужичонки-вечники, не даст в обиду царь своего молитвенника! Мятежники!»
Рассвет чуть занялся на другой день, а царь Алексей сидел уже с боярами в Передней избе. По постному времени были все в смирных шубах. Докладывал дела Милославский, осторожно поглядывая на зятька: вчера еще царь, вспылив, драл ему бороду.
– Бояре, – говорил Илья Данилыч, умильно поглядывая на царя, – гиль новгородский нужно унять. Гилёвщики митрополита Никона избили, князя Хилкова, воеводу, как кота, гоняют!
У князя Трубецкого, что сидел на лавке рядом с докладчиком, чуть дрогнула левая бровь, другие бояре шевельнулись; тучный князь Голицын положил руки на круглый живот, стал вертеть большими пальцами то в одну, то в обратную сторону.
«Больно резов святитель-то, – думал он, – ано вот и напоролся. Уняли его новгородцы, хе-хе…»
– Потому, как и блаженныя памяти прадед Иван делывал, и ты, великий государь, посылай войско новгородцев унять, – говорил Милославский. – А то вече собирают, в колокол бьют – вольным обычаем опять жить хотят. Вели, государь, идти на вотчины твои, на Новгород да на Псков, боярину князю Хованскому Ивану Никитычу. Что укажешь, государь?
Бояре загудели, затрясли головами, закивали одобрительно: «Дело, дело, дело!»
– Так тому и быть! – сказал Алексей. – Боярин князь Иван Никитыч! – позвал он.
С лавки поднялся невысокий, широкоплечий, белый лицом богатырь с окладистой русой бородой, с выпуклыми детскими глазами, сбросил с плеч черную шубу, подошел, кряхтя, опустился перед царем на колени, выгнул крутую голую шею со стриженным в скобку затылком.
Царь Алексей вытянул правую руку назад, жилец Прошка проворно вложил в руки малую икону Владимирской божьей матери, царь поднял икону над головой князя.
– Иди, князь, – говорил царь важным голосом, как учил его еще Борис Иваныч. – Иди, покарай мятежников за Москву, за дом пресвятыя богородицы. Иди не мешкая! Илья Данилыч все тебе обскажет!
Хованский поклонился девять раз земно, принял икону, поцеловал, встал, стоял ровно столбом, в круглых глазах преданность да прямота с хитрецой.
– Князь Иван Никитыч, – говорил Милославский, – государь указал, бояре приговорили идти тебе в Новгород – царскую вотчину, промышлять там, как указано!
Воевода снова поклонился большим обычаем, вышел, отступая, пятясь. Бояре сидели недвижно, не моргая, уставясь перед собой.
«Ишь сидят, ровно идолы деревянные, – думал, уходя, князь Хованский, – аж не моргнут. А мне идти! А где я еще подвод-то доберу, да как в распутицу потянешься, да через реки? Того гляди ледоход!»