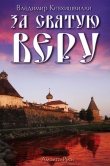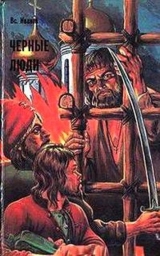
Текст книги "Черные люди"
Автор книги: Всеволод Иванов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 42 страниц)
– Сказывал, стало быть, верно дьяк-то Богдан Федотыч – шлет Пашков сюда, в Сибирский приказ, отписки, сменили бы его! – отозвался Босой.
– Шилом моря не нагреешь, Павел Васильич. Делалось все дело в Сибири черными пашенными людьми, вольными казаками да государевым счастьем. А ныне-то дело кончилось…
– Так на Амуре-то кто?
– Хабаров туда Степанова послал, да, слышно, пропал тот Степанов безвестно на Сунгари-реке. Убили, сказывают, его там богдойские люди до смерти…
– А теперь на Амуре что?
Громко взлаял дворовый пес Балуй, загремел на железной цепи. Павел Васильич вскочил с лавки.
– Должно, кто чужой! – сказал он, высунувшись в окошко. – Так и есть!
Калитка приоткрылась наполовину, оттуда, из-под самой притолоки, глядела узкая голова в новгородской шапке.
– Эй, – закричала голова, – прибери кто окаянного пса!
– Заходь, заходь, Феофан Игнатьич, не бойсь, – говорил, перегнувшись боком из окна, Босой. – Да к тыну жми, к тыну поближе, от пса подале… Во-от так, так… Пройде-ешь! – И, уже милуясь на пороге горницы со своим дружком в коломенскую версту, Босой оправдывался: – Как нынче безо пса жить, без опасу? Нельзя! Сам знаешь, каждый день ныне в Земский приказ покойников волокут – лихие люди грабят да до смерти бьют…
– Все серебра ищут! Как приказ, так и у нас! – прищурился Феофан Игнатьич. – И я к тебе за тем же… Ссуди, Христа ради, надобно товар, что в Новгороде лежит, ослобонить, а денег свободных нету…
– Что делать будем, Феофан Игнатьич! – отозвался Босой, протирая очки. – Вот последние времена! И товар есть, и люди есть, а денег нет– всё лежит в амбарах как мертвое… За титлу воюем государеву да за честь. Честь, когда неча есть!
Босой зажевал губами. Видно, так и хотелось ему поговорить. А как поговоришь? Тише кричи – бояре на печи, того гляди сволокут куда надо!
– Кому платить? – спросил он.
– Да в Новгороде Панфилову Сергею Проклычу… Полотен я у него набрал, посуды, гребней, то да се, тут, в Москве, хотел на городовой товар выменять, ан из Новгорода без серебра не спускает хозяин: плати! И скажи, пожалуйста, Павел Васильич, почему вот, когда с деньгами туго и товаров мало, тут-то и хозяин и нажимает?
– То-то и есть… Привык ты, Феофан Игнатьич, торговать, когда у всех руки товаром полны, знай только бирку на дверях зарубай, а расчет будет… Не знаю, что тебе и присоветовать…
– Думал я у Шорина что взять, у Василья…
– Во-во! – усмехнулся Павел Васильич. – У Шорина! Он денег накопил, теперь раздает да рези берет. Ни оборота у него, ни дела, только, как мизгирь, кровью наливается. Много теперь таких на Москве, что серебром пухнут… Сделаем по-другому. Тут в Суконной сотне платежи, слыхал я, есть в Новгород, они там за тебя заплатят, а ты здесь им товар сдашь против московского товару. А то как можно деньги на кабалу али на резь брать?.. Так только бояре делают, своим мужикам деньги дают да тем мужиков крепят к земле неизбывно. И немцы-купцы нынче на том стоят, у них серебро, они деньги дают нашим на лихву. Только позволь – сейчас же у нас свои банки откроют. Я у них бирывал – соболишек из Сибири было никак не выручить без расчету… Ну, я заплатил, слава богу, рыбу из Архангельска мне подвезли, расхватал народ. А не заплати сразу – будешь на немцев век за лихву, за резь работать. Ладно указал государь – с немцами дело вести только присяжным первым нашим гостям, а то мелких-то людей они давно бы всех под ноготь подобрали, заглонули, что щука карася.
– Спаси Христос, выручил ты меня, Павел Васильич, – кланялся Феофан Игнатьич. – И я тебе, коли што случится, подмогну. А в Сибири как у тебя?
– Да что! – говорил Босой, кивая на показавшегося на пороге Ульяша. – Послушай, что сказывает.
– Давно прибыл, Ульяш? – спросил Стерлядкин.
– Только што, – поклонился тот.
– Так вот, – продолжал Босой, глядя ласково на Ульяша, – сказывает он, что нам наши дела в чужое царство уперлись, ходу нам теперь там некуда. Богдойский царь вельми силен, Ульяш, а? Хабаров дальше неспроста не пошел!
– На заимку, слышно, что ли, в обрат сел Ерофей-то Павлыч? – обратился Стерлядкин к степенно молчавшему Ульяшу.
– Ага! – ответил тот с поклоном. – Точно так. Сын он боярский теперь, Ерофей-то Павлыч, приказчиком сидит в Илимском остроге… Все деревни теперь под ним, от Усть-Кута острогу до Якутска. Людей пашенных к себе многих назвал, и хлеб сеет, и рыбу ловит, и соль варит… Монастырь на помин души строит.
– Наш человек! Устюжский! Добрый человек! – потеребил себе бородку Босой. – Правильный человек! Что говорить, на богатой земле мы живем, всегда можно взять, что нужно, только голову да руки имей. А вот за чужим гонимся, воюем, – выходит, что свое теряем. И Пашкову больше вперед идти невмочь.
– А-а!
– Да и в Литве налетели мы с ковшом на брагу – дай бог только ноги унести… Шведы с Литвой мир заколачивают, а нашему-то Иван-то Андреичу бежать приходится.
– Кому?
– А Хованскому-князю. Московскому нашему тарарую. И Вильну, сказывают, наши уж бросили. А сколько люда нашего зря там положили!
– Ты кричи тише, Павел Васильич, – улыбнулся Стерлядкин. – Всем знатно, что шведы на Новгород да Псков из Лифляндской земли идут. Опять все зорят! И когда же конец будет, а?
– Не жди, Феофан Игнатьич, не увидим мы другого времени, – говорил, подняв брови, Босой. – Нет! – махнул он рукой. – Не видать нам той тишины, чтобы земле с собой силу несла. Спасибо, сказывают, теперь боярин Афанасий Лаврентьич со шведами хорош, мира у них просит…
– Какой это?
– Ну, Ордын-Нащокин! Ваш, пскович! Больно-де в иноземных обычаях искусен. Так и с ним беда! Слыхал ли?
– Нет. А чего еще? – поднял любопытно Стерлядкин узкое свое лицо с длинным носом.
– Сынок-то Афанасьев, младень Воин Афанасьевич, сбежал из нашей земли. Не люба ему Москва! Живет теперь в Гданске, у польского короля. И жалует ему тот круль жалованье по пятьсот ефимков на месяц. Ходит тот молодчик наш там в польском платье, хвалится – воевать-де готов, помогать польскому крулю и что-де он отца своего, Афанасья, не пожалеет, приведет за бороду пленным к польскому престолу. И другие поносные слова неподобно на землю свою плетет…
– Чего ж это бы так-то? – оторопев, не понимал длинный новгородец.
– А сказывают, сбежал он того ради, что били его и всего-то единый раз кнутом. Отец поучил. Он и поднял крик… Всех бьют, да помалкивают!
– Так и терпеть? – окрысился было Стерлядкин.
– Да, терпеть! Мало ли что бывает, так себя и не помнить в злобе по всякой малости? Тут ударили – побежал куда глаза глядят, там ударили – в другую сторону побежал. Все время и мотаться? Нет, понимать пора, что ежели кто тебя бьет, так, может, ты его, того, кто бьет-то, жалеть должен, потому что он по невежеству бьет, по глупости! Бьет потому, что другого ничего не знает. А ежели ты против него с топором бросишься, еще горше будет!
– Мы, Павел Васильич, в своей земле словно караси на сковороде, – сказал Стерлядкин. – Значит, скачи, да со сковороды не прыгай!
– Истинно! Едино спасенье! – засмеялся тот. – А спрыгнешь – вконец пропал!
И вдруг посуровел Босой, подался всем телом вперед, брови взлетели под лоб, глаза горели напряженно.
– Только всем миром, единомыслием исповемы, урядим мы наше великое испытанье. Каждый человек должен сам себя остановить, укротить, на ответ поставить… Ежели хоть сам себе покаешься – на путь правды станешь. Да нет, мало, ма-ало одного покаянья-то: в худом ты покаялся, а кто ж хорошее за тебя делать будет? Выстоять надо! Кто на пытке выстоит, тот и прав – слыхивал, чать? – выговорил Босой тихо. – Претерпевший до конца – спасется!
– А что делать-то нам, Павел Васильич?
– Что нам делать? – переспросил торжественно Босой. – А вот что сказывают, как добрые-то люди… Ульяш, подай-ка, браток, грамотку твою, что Тихон Васильич послал. Там, за образами.
Ульяш, застывший было в неподвижности у окна, вскочил пружиной, одернул рубашку, стал легко носком сапога под китайчатый полавошник на лавке, достал из-за Спаса бумажку, подал.
– Тихон прислал из Сибири! – говорил Васильич, надевая очки на лоб. – Писал-де ему один добрый протопоп из Нерчинского острогу, в безмерных тяготах пребывающий.
Из открытых окон лился в горницу легкий дух летнего вечера – тут и листва, и горьковатая растоптанная трава, и отцветшая синель[151]151
Сирень.
[Закрыть] из сада; мешаясь с тем сладким духом, ложились в душу страстные, огненные слова.
– «Не отлучай меня от любви, нет! – читал старик Босой. – Не боюся я легионов и бесов, ни злых людей, не боюсь их пустого злословья. Время такое – им лаять, а мне до смерти мучиться надо. И пусть мучат тело мое, пусть горю я в страданьях, что в огне. Все горькое низвергается на меня, как ливень. Вороны слетаются на уедие трупов, волки спешат на павший скот, псы бегут на стерву – так и на мою грешную душу отовсюду и бури, и гонения, и мятежи, и хитрости. Злая сила хочет живьем проглотить меня. Море кругом бушует, гибель грозит, но нет, не утону я: камень у меня под ногами!
Пусть грохочут волны, пусть бьют в камень, в пену разлетаются они, в брызги. А камень – вера моя – стоит.
За нее я держуся, и никого не боюсь – ни царя, ни князя, ни богатых, ни сильных, ни самого дьявола! Против того – ногой я давлю и змею, и скоропиона, и всю, всю вражью силу. Слушаю я веру мою».
Опустив глаза, заботливо Павел Васильевич свертывал грамотку.
– Горемыка миленький! – шептал он.
– Кто писал так? – спрашивал Стерлядкин. – Кто?
– Слыхал протопопа Аввакума? Того, что первее царя против Никона восстал за правду да милость. За народ! За то, что с народом добром поступать нужно, как Христос указал… А что начальные люди делают? Гнут медведями, куда ни помстится, дуром, не разобрав… И тот протопоп-горюн в концах земли с воеводой Пашковым по Даурской земле волочится, от своих подале, да разве случаем грамотки сюды шлет. Посланье то Тихон наш Васильич мне, переписав, переслал.
– Они там виделись?
– Отец Аввакум у него в Енисейском остроге гащивал! – вмешался Ульяш.
– И не первая та отписка! – понизив голос, говорил Босой. – И есть у нас тоже доброхоты, грамотки те переписывают да верным людям шлют в поученье. Никон-то на Печатном дворе свои книги печатает, а наши-то на коленках строчат не менее.
Хриплый лай Балуя потряс тишину. Павел Васильич, отодвинув Ульяша, высунулся в окошко.
– Ктой-то? – крикнул он.
Раздался тихий ответ.
– Ну, заходи. Эй, Аксютка, проводи мимо пса!
Босой повернулся с ожидающим лицом, все молча смотрели на дверь. Дверь распахнулась, отскочила любопытная Аксютка, и на пороге легко стал тощенький, щуплый человечек в бурой однорядке сверх белой рубашки, жгуче-черный, с острыми глазами, ступил на дерюжку, замолился на иконы.
Босой толкнул приятеля под бок.
– Портной мастер, – шепнул он с уважением, – Болотов Порфирий Саввич. Первый на Москве. У боярыни Морозовой, Федосьи Прокоповны, работает. Она и прислала… За грамоткой…
Глава третья. В селе Коломенском
Над селом Коломенским среди берез да лип целыми днями стучат взахлёб топоры.
И все по-разному.
Один бьет голосисто, словно кукушка кукует:
«Ку-ку! Ку-ку!»
Другой звенит тонко, комариком, каленой устюженной сталью:
«Цзинь! Цзинь!»
А третий совсем на собинный лад. Как клюет – ничего не слышно, а слышно, как плотник в синей распояске-рубахе с расстегнутым косым воротом его назад выдергивает, словно тебе конь задом бьет:
«И-ухх! И-ухх!»
Весело в Коломенском. Жил здесь еще великий князь Калита Иван Данилович, отсюда по делам в Орде три раза гащивал. Здесь возвращались в Москву с Куликова поля ликующие мужичьи рати князя Дмитрия Иваныча, после того как на Дону расколотили да разогнали полки хана Мамая. Идучи на Казань, шелестя лаптями, словно саранча крыльями, звеня мечами да топорами, перестукиваясь рогатинами, ослопами да копьями, силы молодого ярого Ивана Грозного тоже долго стояли тут: попы в Вознесенской церкви пели молебны об победе да одолении. И яростно дрались еще под Коломенским селом люди Болотникова Иван Иваныча против рати Василья Шуйского, боярского царя. Любит царь приезжать в Коломенское, хоть жить тут и тесно! Хоромы-то еще царь Михаил ставил, а царица Марья, почитай, ежегод ребят носит. Да царевы сестрицы тут же живут, а вокруг царевой семьи народу много за хребтом: за государем бояре, и окольничьи, и думные люди, и стольники, и стряпчие, и жильцы, и попы, и садовники, и сокольники, и медведники, и псари, и подьячие; за царицей боярыни, мамушки, нянюшки, девушки – полно баб. И указано было приписать к селу Коломенскому еще два села да девять деревень, мужиков сот восемь и все с семьями. И все копошатся, дело делают, – велик царев двор.
Приходится царю строиться, а когда царь строится, народу работы много. Шлет Приказ Большого дворца то и дело по городам да по уездам грамоты: слали бы те в Коломенское всякого звания работных людей – плотников, пильщиков, столяров, печников, каменщиков. Стучат топоры в Коломенском, пилы визжат, молотки по долотам тюкают, скобели свистят да шипят, – строится царь… На Москва-реке, под десятисаженным обрывом, плоты конной тягой подходят из Оки-реки, Волги-реки, Унжи-реки, бревна катали с криком да бранью выкатывают на желтый берег…
Народ в Коломенском все простой, черный, а вокруг старых хором сады разбиты – шесть их, садов. И смотрят лесные мужики да бабы, дивятся, как веснами одеваются те сады в белый, розовый, алый цвет, а к осени огружаются их дерева душистыми плодами; сажены там и вишни, и яблоки, и черешни, и груши, и дули с Украины, и абрикосы с Хвалынского моря, и виноград астраханский; пчелы жужжат, птицы щебечут, садовники хлопочут…
С холма, из рощ, из садов, идет дорога отсюда в Москву, народ на телегах туда-сюда снует, вершные из приказов, бояре скачут на легких аргамаках да рысят на тяжких бах-матах, стрельцы на караулы идут, боярыни в колымагах тарахтят по мосту через Москва-реку у Перервинского монастыря.
Светло сегодня июльское утро в березовых, дубовых рощах, по желтым дорожкам солнце сыплет золотые кружки-денежки, цветки сверкают.
В это лето царь выехал в свое село Коломенское 16 июля, живет, тешится садами да охотой, а Москву приказал князю Куракину Федору Федоровичу с князем Велико-Гагиным и с другими, писать с Москвы отписки всем сообща.
Назавтра, на 25 июля, – именины сестры царевой, царевны Анны Михайловны, на день Успения св. Анны. Солнце скатывалось уж низко, тени от дубов да берез длинно ложились по свежим муравам, когда царь, отстояв там всенощную, вышел из храма Вознесенья. На государе платье да ферезья холодная тафты красной с кружевом, зипун тафты белой, шапка – бархат-двоеморх рудо-желт, посох индейской…
Вышла и царица, за сукнами алыми, чтоб никто ее не видел, – от сглазу. За царицей царевич Алексей Алексеевич, увидал отца, бежит к нему: «Батя, батя…» Царевны старшие да молодшие, мамушки да нянюшки, да царевичева мама, княгиня Оболенская, за ним все: «Ах, ах!» А царь сына за ручку взял, идут мимо Сытного двора. Колокола отзвенели, не слышно уж и топоров, царь идет с царевичем, а у Сытного двора артели плотников стоят. Впереди плотничный староста Семен Петрович, стар, седат, шапку рвет с головы, поклон бьет большим обычаем, за ним все его люди…
Царь поклон тот отдал, посох в песок уткнул, царевич стоит строго.
– Семен Трифоныч, поздорову ль?
– Спаси бог! – ответил Семен Петров. – Здрав будь, государь!
У Семена Петрова лик постен, темен, нос длинный, глаза синие, как ледяные, буравят из-под кустистых бровей, а светят приветно.
– Еще денька три, государь;—поставим тебе амбар! А потом под тем дубом велел боярин Глеб Иваныч избу ставить пятистенную… Сыны-то спроворят.
Плотничный староста Петров пришел не сам-один, привел свою семью – пять сынов да трех племянников; его артель впереди других работает, дело все тянет.
Петровы родом с Онеги-реки, из северных приволий, где летними ночами из-за черно-синих зубчатых стен лесов стоят золотыми иконостасами нежные зори, в них сквозь кисею белых ночей просвечивают круглые бледные звезды. А днями, когда проходит солнце высоко в небе, в тех лесах-сюземах сумеречно, под лапчатыми, лохматыми елями, соснами, кедрами темнеют ровно пещеры, устланные зелеными пышными мхами, коврами алых брусничников, сизыми россыпями матовой черники да рубиновой костяники, полные душистой безветренной теплотой. И строил там Семен Петров со товарищи народу церкви бревенчатые, похожие на те лесные углы, полные смолистого духа, яркой игры солнца сквозь волоковые окна на красных полавошниках, на желтом полу да на темных иконах. И церкви его, Семенова, строенья похожи были на могучие, двадцатисаженные стройные ели, что возносятся из ровного моря лесов, торчат отдельно, словно орлица, неподвижно взлетевшая на десятках, сотнях бархатных зеленых крыл своих. Строя такие церкви, Семен Петров со товарищи смело громоздили клети-избы на клети-избы, в четыре, в шесть, в восемь углов, обсаживали их прирубами, украшали пристенками работы чудодейных топоров своих – крыли их высокими шатрами. И его строения единым махом взлетали к голубому небу, к золотому жизнеподателю – солнцу, близкие, родные земле, полные сладостной, неспознанной игры тихих светов в теплом, душистом дереве, сочащемся хрусталями смол, уставленные многими куполами с жестяными крестами, внутри изукрашенные резным золотым виноградом, басменным делом, да фольгою иконостасов, да светляками лампад, застывшими в ладанном дыму.
Века и века стоять тем церквам-елям, срубленным из обхватных кедровых бревен! А ежели и пожрут их ярые пожары от небесного грома ли, от людского ли небреженья, не смущались ничьи души: вскоре же воздвигались они снова, еще краше, еще выше, еще стройнее, деревянные храмы, рожденные из вечных лесов, дедовского искусства древнего топора, из бессмертной красоты лесной мужицкой души.
Протюкали топоры, вот и день доходит, и сыплется уж на храм, на рощи, на избы коломенские вечерний свет, меркнут луга да поля, стоят июльским тем вечером двое друг перед другом – царь и художник.
Смотрят каждый друг на друга: каждый друг другу надобен.
Известное дело – царю строить надо. Какой же он большой человек, ежели не строится? Вон каких каменных соборов в Кремле цари настроили – Успенский, Архангельский, Благовещенский… Годунов-царь колокольню Иванову надстроил, гордо золотом имя свое подписал, похвастался: я-де строил, царь Борис! И уж негде больше в Кремле строить – тесно! Да как же будешь храмы строить, ежели патриарх Никон, Москву бросив, у себя в Новом своем Иерусалиме собор невиданный себе строит, чтоб стал тот собор пупом православия, чтоб был в нем гроб господень точно как есть…
Ходил царь Алексей воевать чужие земли, нагляделся теперь на иноземные города – чего хорошего? Улочки узкие, двум вершным не разъехаться, дома каменны, высоки, темны, сыры, живут тесно, ребята на улицах орут – оглохнешь. Худо живут в Литве да в немцах! Или и нам эдак-то жить, в тесноте да в орове?..
А Алексею-царю хочется милой, ласковой жизни – вот как по-птичьему щебечут в царицыном саду ребятки… А то што это? Никон куда звал – к войне, крови, батогам, проклятьям, к железам, к цепям, пыткам. Не соборы нужны царю, а нужен ему дом утешный, свой.
И стоит перед царем, светится в закатном свете Семен Петров, седые волосы под горшок стрижены, нос длинный, глаза что лед, борода на сторону. И видит царь, знает он – этот мужик великую красоту жизни может дать, такую, которой сам царь не знает. Петров неграмотен, словами нищ, строить только может, и строеньем своим сказывает он свою душу.
И у великого художника, плотничного старосты Семена Петрова, растет в сердце точно взводень: хочется и ему царский дом построить, да такой, как еще никто на земле не строил. Сияла бы та царская изба чудесным светом мирным, как розово и величаво сияют острые, вырезные вершины зеленых елей, сосен и кедров, прикрытые ночным снежком, на восходе золотого, красного солнца. Как светлый град Китеж, что на Мамаевой тропе стоял и, говорят, ушел от безбожного того поношенья в чистейшее озеро Светлый Яр.
Говорит плотничный староста Семен Петров царю Алексею:
– Да дозволил бы ты, государь, построили бы мы тебе царскую избу, жил бы ты, государь, в избе сосновой, в легком духу, был бы здоров, не то что в камнях-то…
Царь смотрел в синие глазки художника:
«Как в воду смотрит мужик! Или у царя да у мужика одинакие мысли?»
Говорит царь:
– О том и думаю! Будем, будем строить.
И нахмурился:
– Как же мы с делами управимся? Сейчас недосуг.
– Место здесь богово, привольное, – говорил Петров. – Ровно у нас на Онеге-реке… Холм ладный, роща, река под горой. И надо вот эдак… Погодь, государь!
Увлеченный художник протянул руку, сломил ветку клена, обрывал торопливо остролапые листики.
– Погодь, – сказал и царь и подал Петрову свой посох индейский. – Эдак будет ловчей!
И плотничный староста, светлый, повеселевший, взяв царский посох, набрасывал на песке, как ставить царский дворец.
– Так вот, лицом на Москву, твоя, государева, изба… Эдак вот – царицына…
Художник чертил, царь, нагнувшись, смотрел безотрывно. Словно утренние туманы над лугом, проплывали перед ним образы будущих строений, давно зародышем в яйце жившие в душе плотника. Они давно рвались жить, искали выхода, да не было тепла, силы, чтобы набрать мощи, развиться, проклюнуть скорлупу, встать высоко под небом в проявленной красе – в дереве, в красках, в резьбе, в позолоте, в узорах чудных, явить все то же самое живое, что сияет в свете, звенит в ветре, пахнет в зелени, во влажной от дождя земле. Чуял, знал царь, что в плотнике-старике готовы явиться красоты народные. И кто бы мог помочь им кроме него, царя? Подвигом бы было это добрым, щедростью, богатством царским, вечной для него славой… Не то что война, раззор да мечтанья…
Царь смотрит, а ближние люди стоят за ним разноцветной стенкой, парчовой, шелковой, кичатся – они-де ближние, досадуют, что царь ихний с черным мужиком говорит да говорит.
Ворота Сытного двора скрипнули протяжно; по песку шаги быстры, бежит стольник Енгалычев, тряхнул волосами, согнулся в дугу, голову с волосами чуть не к желтым сафьяновым сапогам свесил.
– Государь, государыня царевна, сестрица Анна Михайловна спрашивать изволит: завтра государь-братец будет у нее именинный пирог кушать, так какую начинку изволит он приказать?
– Батя, да иде-ем! Батя! – теребит за рукав отца царевич. Соскучился он, устал. Ну, ребенок!
Отмахнулся Алексей Михайлыч: «Погодь…» Над ним в темнеющем зарном небе – чудо, и кажет царю то чудо плотничный староста Семен Петров. Град встает новый, тихий, полный райского света, птицы поют сладостно – Сирин да Гамаюн. Проста мужицкая красота в том граде – правая, сильная, вечная как земля, – народная… Не каменный тяжкий собор перед ним, а легкое, цветное рубленое строенье. Словно низкое солнце через густой лес светит, на ветвях у елей золотой жар-птицей сидит. Светлеет царь, а до того время места себе найти не мог, словно он в болоте погряз, словно на нем сапожки не легкие, брусничного сафьяна, а чугунные, двухпудовые… Нет, мир надобен, сидеть московским царем бесстрашно да избы красные строить… Куда там воевать!
– Ладно, Семен, как по отчеству величать?
– Макарычем! – проворно отбил поклон Семен – плотничный староста.
– Семен Макарыч, приходи-ка ты ко мне. Завтра, что ль. После обеден… Я прикажу, тебя пустят! Эй, жильцы!
Подбежало трое, уж не разобрать, в каких кафтанах, – темно.
– Завтра ко мне пропустить старосту…
Все трое согнулись мгновенно, волосы свисли к сапогам.
– Укажи, государь!
– Идем, Алеша! – сказал царь, и вся темная толпа свиты пошла за ним, посверкивая парчами, самоцветами на шапках.
Над безмерными синими лучами волоклись уж бледные туманы, дышали медвяным духом, то теплом, то холодом, багрово-черные стояли речки, догорала рыжая заря, теплом дышала теплая ночь, вдали выкатывался из ольшаников большой медный месяц, круглый как щит, скрипели в лугах коростели – дерг-дерг!
Ночь прошла. Березы, клены, тополя, липы роскошными зелеными купами поднялись над Новоспасским монастырем; солнце зашло сзади, с Москва-реки, тень пала вперед, на широкую улицу, – на улице, у белой ограды, солдат учат, лязг ружейный, топот, команды:
– Направо обворотись!
– Стать по-прежнему!
– Сено! Солома! Сено! Солома!
Солдаты те Крауфордова полка, и учат их иноземные офицеры, бьют то и дело по белым зубам. Сам полковник Крауфорд тут же, тоже кричит, ногами топочет. Ух, грозен.
Иноземные офицеры в русских кафтанах с ворворками, шапки заломили, а все они не такие, как наши, – кафтаны узкие, в охлест, зады толстые, лица бритые, носы высокие, глаза пучены.
Нанялись – продались, ну и стараются, хоть платит царь плохо.
В полку том Крауфордовом состоит двадцатишестилетний майор Патрик Гордон, шотландский граф, обучает он самых трудных солдат – широкоскулую мордву да черных черемисов. Рослые, сильные, те никак не привышны к тесным солдатским азямам с пуговицами в красных петлицах, к стежёным куякам со стальными пластинами, шапки с разрезом плохо держатся на их русых да черных кудрях. Зато в бою они свирепы, себя не жалеют.
– Шволошь! – кричит полковник, палкой в землю тычет. – Роствори налево шеренг!
Не о том мечтал майор Гордон, когда подписывал в Варшаве контракт на русскую службу. Майор бледен, худ, носат, хил до того, что случаем иная тугая баба московская, ядреная, обомрет: «Ах, болезный, кожа да кости! В чем у тебя душа держится?»
А душа этого шотландского графа, родича короля Англии Карла II, горда, надменна и жаждет одного – заработать побольше у московитов. А как, с чего скопить, ежели жалованья он на день получает по четыре копейки медными за-место четырех серебряных! В пятнадцать раз меньше. Уж год живет майор Гордон в Москве, в пыльной, грязной, огромной, а удачи нет. За шерстью ехал сюда молодой рыцарь, а не уехать бы отсюда остриженным. Не везет! У шведов служил, к полякам в плен попал, и встреть его в Варшаве посол московский Леонтьев, сманил, уговорил служить – ехать в Московию. Деньги, конечно, сулил, чины. А тут ни денег, ни чинов, живи в маленькой избушке в Немецкой слободе, у налитого жиром трактирщика Монса. Просился восвояси уехать – так в Иноземном приказе дьяки смеются: ты в Сибирь, мол, что ли, захотел? Заболел даже Гордон, лечит его немецкий доктор Бемс от меланхолии– сиречь разлития черной желчи. Жизнь пропадает, надо выбиваться, а как?
И, озлобившись такими нахлынувшими мыслями, майор, щуплый, худой, бьет по красивому черноусому лицу черемиса Басенка Шапу.
– Солома! Солома! – вне себя кричит он, хватает, теребит солдата за правый сапог. – Правой! Правой, сукин сын! Правой!
Народ, который не знает, где правая, где левая нога, которому нужно повязывать на левую ногу сено, на правую – солому, чтоб тот различал, как ходить, – дикий народ! Разве это его, графское, дело? Проклятый Кромвель!
Гордон плюет в ярости, отворачивается, и видит он, что московские люди кругом бегают во все стороны, руками машут, шапками, кричат, верховые скачут, тележки извозчиков тарахтят на скаку то и дело.
Крауфорд тоже замолчал, смотрит из-под руки.
– Што такой? – бурчит он. – Эй, слышь, малядец, што такой?
Мимо во весь мах бежит босой парень в белой рубахе, в синих портах, без шапки, пояса нет, ворот расстегнут.
Парню заступил дорогу капитан Арчибальд Юнгер:
– Ты куда? Стой!
Парень метнулся в сторону, проскочил, сверкнул, обернувшись, глазами, подхватил с земли валявшуюся палку и, потрясая ею, помчался дальше.
Майор Гордон почувствовал, как сердце его забилось медленными, глубокими ударами. А! А может быть, это что-нибудь необыкновенное?.. А что, если бунт? Только в восстании можно схватить удачу – в тихое время с московитами делать нечего.
Он подошел к Крауфорду.
– А может быть, это бунт? – спросил он по-немецки.
Тот засмеялся:
– Выдумал! Га-га-га! Тогда нам вовек не видать нашего жалованья! Глупости! Бараны не бунтуют! – скалил желтые зубы Крауфорд, снова следя за тысячей своих солдат. И вдруг закричал: – Куда пежал? Пошто? Стой!
Пожилой посадский, выскочив из ворот монастыря, подхватив обе полы однорядки, бежал меж рот. Посадский остановился, сорвал шапку: дьявол его знает, ин начальный человек, орет!
– В Таганскую слободу! Тамойко, чу, сказывают, у Пречистой листы на стенке народ чтет. Об медных деньгах воровских царевых. Люди бегут туда, ну и я… Черные слободы все собираются на Таганку – Котельники, Серебряники, Воронцовские. А в Кожевниках, под Симоновым монастырем, слыхать, барабаны бьют… Ух, слышь?
На Таганке ударил набат, посадские ударились бежать.
– О-о! – поднял брови Крауфорд. – То есть скоп! Майор Гордон, капитан Кит, капитан Юнгер! Господа официр, собирайте полк. Я веду полк в Таганска слобода.
Майор Гордон подбежал к полковнику, говорил прямо в ухо.
– А царь где? Царь? – шептал он. – Главное, царь? В Коломенском?
– Я-воль![152]152
Именно! (нем.).
[Закрыть]
– Так надо идти в Коломенское!
– Там все тихо. Бунт на Таганка! Мы здесь поддерживаем порядок. Коломенское далеко!
– Холопы всегда лезут к своему царю жаловаться на обиды. Надо охранять царя… О, я хорошо знаю этот народ! Знаю! – шептал Гордон.
В свинцовых от пива глазках командира блеснула мысль.
– Гут! Резон, майор! Но я должен идти на Таганка.
– А я – в Коломенское… В вашем полку московиты ненадежны. Вы идете с ними на Таганку, а я с немецкими офицерами и молодыми солдатами-черемисами – к царю… Только дайте пороху и свинцу…
– О, ты далеко пойдешь, мой мальчик! Шотландский голова! Что ж, шагай. Это далеко! – закивал головой Крауфорд. – Отлично! Полк будет и там и там… Во всех опасных местах – мы… Га-га-га!
Через полчаса майор Гордон вел через наплавный мост на Москва-реке солдат беглым шагом к Серпуховским воротам– пищали на плече, бердыши наперевес.
В Кремле все как обычно. Как всегда в именинные царские дни, в Благовещенском соборе шла торжественная служба, из узких окон под куполом синие столбы солнца, синий ладанный дым, бояре, дворяне, дьяки, начальные люди стояли обедню, чтобы после ехать в Коломенское – к царскому пирогу, бить челом царевне Анне Михайловне, подносить ей пирога. Но тишина скоро нарушилась, пошел по собору разговор, шепот, прибежали дьяки из Земского приказу:
– В Москве гиль!
Сразу выскочил из храма царев наместник князь Куракин, побежал к Золотой середней палате, туда сразу набилось много тревожного народу. Говорили – ночью на Лубянской площади на столбе прибито письмо воровское, а с рассветом письмо то чёл народ, толковал его вслух. А взошло солнце – Сретенской сотни гость Павел Фомич Григорьев шел мимо, к себе в Китай-город, открывать лавку, увидел народ, прочел письмо – ахнул, побежал в Земский приказ.