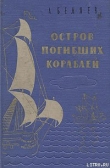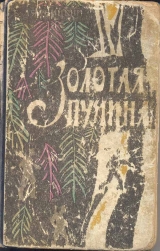
Текст книги "Золотая пучина"
Автор книги: Владислав Ляхницкий
Жанр:
Прочая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)
Последний день масленицы! Встреча весны!
Арина медленно поднималась в гору по узкой, крутой тропинке. С обеих сторон тропы торчали из сугробов только маковки высоких огородных заборов. За спиною – визг девок.
«Когда-то и я так. На санях да с горы. Не успела повеселиться – и замужем. Не успела косу по-бабьи заплести – и солдатка!»
В первые дни войны вместе с Михеем забрали Никифора. Вместе они воевали. В одно время ранило. В одно время получили Георгия. Беспалый Михей вернулся в село, а Никифор отвалялся в госпиталях и снова на фронт. Арина, как прежде, – ни вдова, ни мужняя баба. Солдатка!
В горле у Арины комок. Скользят бродни по обледенелой снежной тропе. На плечах – коромысло. Тихо, осторожно переступает она ногами. Плавно колышется в ведрах вода.
За чёрной банюшкой в сугробах мелькнула тень. Рослый, белокурый мужик, молодой, в расстёгнутом полушубке, ломая снег, выбрался на тропу. Загородил Арине дорогу. Дышит порывисто, тяжело.
Оглянулась Арина по сторонам. Никого. Опустила глаза и спросила вполголоса:
– Кого тебе, Симеон?
– Будто не знаешь?
– Не успел свою бабу отнести на погост, к чужим потянулся.
– Ты ещё девкой была… Неужто не помнишь?
Нет, не забыла Арина ни горящих Симеоновых глаз, ни того, как часами он поджидал её на этой самой тропе, между прорубью на реке и избой. Помнит, как горели её щёки при виде Симеона, как сладко ныло в груди. Но что было – быльем поросло.
– Пусти.
– Не пущу.
– Соседи увидят. Мужняя я. Стыд-то какой. Уйди, зашумлю.
– Всё одно не уйду. Я ж ни как… Я всего посмотреть на тебя.
Немногословен Симеон и угрюм. Свинцово смотрит на мир из-под нависших бровей. В доме Устина редко услышишь живое, ласковое слово, все больше с нахмурки, все больше руками. Но сейчас потеплели глаза Симеона. Робеет он. Не отрываясь смотрит на влажные, полуоткрытые губы и румяное, здоровьем налитое лицо, на серые испуганные глаза под русыми бровями. Смотрит и будто впервые видит, наглядеться не может. Так бы и стоял всю жизнь и смотрел на Арину.
– Поставлю на землю ведра да коромыслом тебя. Рожу твою бесстыжую исцарапаю, – сказала чуть слышно.
Сбросил Симеон шапку, распахнул полушубок.
– Бей. Может, полегчает мне… – и замолчал. Поднял шапку.
С горы, от изб его звала Ксюша.
– Сёмша-а, а Сёмша-а, дядя Устин тебя кличет.
Симеон ссутулился, отступил, пропуская Арину. Пропустил и долго смотрел вслед.
С улицы донеслись звуки гармошки. Была в них и хмельная удаль, и скорбь, и затаённая грусть. Звуки близились, крепли. Молодой, высокий голос вторил гармошке:
Когда б имел златые горы
И реки, полные вина,
Всё б отдал я за ласки, взоры,
И ты б владела мной одна.
Эта песня резанула по сердцу Симеона. Он почувствовал себя обиженным, одиноким. Доносившийся визг и смех девок, песни, звон бубенцов, далеких, чужих – обостряли томящее, чувство одиночества.
Выждав немного, он стороной, по сугробам выбрался на улицу. Видел, как Ксюша остановила Арину.
– Здравствуй, кресна. С праздником. Сёмшу не видала?
Симеону захотелось, чтоб Арина ответила «не видала». Это была бы первая тайна с Ариной. Она бы разрушила одиночество. Но Арина махнула рукой и ответила зло:
– Там стоит кобелина. В проулке. – А потом обняла свободной рукой Ксюшу за плечи. – Пойдем ко мне, Ксюшенька. Я пирог испекла твой любимый, с грибами, с груздочками. Всё тебя поджидала. Несколько раз к дому Устина ходила, думала, встречу тебя. Одна ведь ты у меня.
– Спасибо, кресна. Мне велено Сёмшу сыскать.
– Э-эй, берегись!..
В клубах снежной пыли пронеслись мимо Ксюши с Ариной гусевые тройки Кузьмы Ивановича. В первой все кони рыжие, как огонь. Сбруя чёрная, с серебряным набором, кошева расписная. Вторая тройка гнедая, сбруя такая же наборная и кошева такая же расписная, но не цветы на ней, а лебеди плыли по синему морю. На передней тройке только кучер с хозяйкой. Самому хозяину не пристали мирские забавы. На второй, «навалом», сколько вошло, батраки Кузьмы Ивановича. Им тоже праздник сегодня. Едва поравнялась с Ксюшей первая гусевая батрацкой упряжки, как раздался задорный голос:
– Ксюха, падай в кошеву…
Это Лушка. Царицей сидела она рядом с кучером. Платок – как июньский цветущий луг. Тяжёлая бахрома свисает на плечи. На ногах – валенки белые, на них в узорах переплелись рои красных «мушек». Таких валенок ещё не видели в Рогачёве. Знает Лушка цену им и нарочно свесила ногу, чтоб все видели, любовались расписным валенком.
– Ох, сломит голову девка, – сочувственно, качала головой Арина.
– Лушка душевная, ласковая, – возразила Ксюша. – А валенки-то на ней видела, кресна? Ой, што я замешкалась-то. Симео-он! – крикнула она.
Симеон вышел из проулка.
– Вот я. Чего доспелось?
– Иди скорей домой. Дядя шибко серчает, в тайгу собирается, а тебя нету.
– Это как же так, на ночь?
– Знаешь ведь дядю Устина, так и не спрашивай. Грит, заночуем в избушке, а завтра чуть свет и дрова пилять. Иди, Сёмша, а я чичас, мигом. Только кресну провожу.
Симеон не двигался с места. Он следил за Ариной, пока она не скрылась в своей покосившейся хатёнке.
Когда б имел златые горы… – пела гармошка Михея.
«Мне бы златые горы», – мечтал Симеон. – Всё б ей отдал!..»
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
В прихожей приисковой конторы чёрные небелёные стены. Сквозь запылённое окно с решёткой едва пробивается свет. У стен на корточках сидят несколько человек. Идёт неторопливый разговор.
– Усачу пофартило. Добил шурф, сатана, с лотка две доли…
– А у меня мякотина на шиханы села. Глухарь. Эх ты, жисть!
Непонятные слова, пропитанный махорочным запахом полумрак, решётка на окне… Устин оробел. Хотел сказать громко, бодро, но голос прозвучал нерешительно, глухо:
– Мир вам, добрые люди.
– Здорово, деревня, – насмешливо ответил бородач в углу. – Кого тебе надобно?
– Мне бы… – замялся. Хотел спросить, где здесь золото можно продать, да остерёгся. Подумал: «Хари арестантские. Ишь, как глазами зыркают. За копейку зарежут, – и, отвернувшись, перекрестился. – Господи, царица небесная, пронеси и помилуй».
– Может, тебе самого главного? – спросил тот же бородач, исподлобья, с ухмылкой разглядывая Устина. – Шагай вон в ту дверь.
А когда Устин протискался к обитой чёрной клеёнкой двери, бородач окликнул:
– Стой, деревня! Впрямь полез к самому управителю. Видать, не кормили ещё берёзовой кашей. Вон в окошечко сунься, к приказчику. Может, золото привёз? А?
– Чево-о? – есть у Устина привычка переспрашивать, если надо подумать.
– Гхе… Гхе… Золото, – хохотнули кругом.
Устин прижал руки к груди. Там, за пазухой, в чистом холщовом лоскутке завёрнуты три золотистых кусочка. Как вытащить у всех на виду? И не дай бог, не продешевить. Спросить бы у кого, почём нонче золото. Да у кого тут спросишь?
– Смотри, деревня, ежели золото твоё самоварное, пропишут пониже спины.
Устин опять заробел.
«А ежели и впрямь не золото? Скажут – фальшивщик». Вспомнил, как в селе объявился цыган с фальшивыми рублёвками. Вспомнил, как били его всем миром. Цыган орал, пока мог орать, что нашёл эти деньги. Бога в свидетели призывал.
«Эх, земляка бы найти, совета спросить. Половину бы отдал…»
И так захотелось найти земляка, что Устин сказал:
– Откуда у хрестьянина золото, добрые люди. Земляка здесь ищу.
– А кто он, земляк-то? Имя-то как?
Из-за обитой клеёнкой двери раздался густой, рокочущий бас:
– Ты детей народил – ты и думай.
И другой голос, высокий, с надрывом:
– День думаю, ночь думаю. Кабы каждая моя думка копейку несла – нужды бы не знал. Вашскородь, определите на хозяйские работы. Век буду бога молить.
Этот хриповатый, просящий голос показался Устину знакомым.
– Вашскородь, не смотрите што я чичас вроде бы хилый. От бесхлебья это. Малость в тело войду, я шибко двужильный. Сарынь, вашскородь… Пожалейте…
Примолкли приискатели. Тот самый, что затеял потеху над Устином, вздохнул:
– Доходит Егорша. Пособить бы ему надо, робята. Человек он шибко душевный.
– Чем пособить-то? Сами без соли гужи доедаем. Э-эх…
Из-за двери спиной вышел Егор. Из-под холщовой рубахи крыльями выпирали лопатки. Он медленно отступал от двери и всё кланялся в пояс. К груди прижата скомканная меховая шапчонка. Жидкая, рыжеватая бородёнка клинышком сбита набок. Прикрыв дверь, он развёл руками, вздохнул.
– Вот она жизнь-то какая, – и, не поднимая опущенной головы, поплёлся к выходу.
Устин вышел за ним на крыльцо. Окликнул:
– Сва-ат!
Егор обернулся.
– Батюшки мои! Уська! Сваток! Да какими судьбами?
Егор искренне рад встрече с родней.
– Давно здесь?
– Утресь привёз пассажира. Эвон у коновязи-то две мои.
– Хороши у тебя коньки.
– Ничего коняки. Не жалуюсь.
– Долго ли здесь погостишь?
– Утресь домой собираюсь. Пары поднимать надобно.
– А я и забыл, как земля-то пахнет. Отвернешь бывало пласт, а она чёрная, землица-то, блестит и таким духом бьёт, аж голова кружится. Попахал бы чичас. Да что мы стоим. Идём, сват, идём. Аграфена-то как рада будет. Она нынче у господина управителя постирушку делает. Да мы сами пока до неё… Сами…
– Сами мы, сами… – повторял Егор, приведя Устина в землянку на самом краю прииска. В длину четыре шага, три в ширину. Земляной пол. Стол у небольшого оконца. В углу прогоревшая железная печка.
Егор растерянно теребил бороденку, твердил:
– Радость-то какая. Чем же тебя угощать-то, сват? Ума не приложу, чем тебя угощать.
– Давай простокиши, хлеба – вот тебе и угощение.
– Простокиши? Да где уж там простокиша. А хлеб… – он развёл руками.
– Ну, хлеб у меня есть. Погрей кипяточку.
– Это можно. Кипяточку я мигом, – обрадованно засуетился Егор у печки, но разжечь её не успел. Возле избушки раздалось лошадиное ржание, и кто-то крикнул:
– Егор! Дома ты, што ли?
– Дома, дома. Кто меня кличет?
На сером, в яблоках, жеребце сидит подбоченясь приказчик в голубой шёлковой рубахе, Конь под ним приседает, пляшет.
– Собирайся, Егор. Сам кличет.
– Хозяин? Чичас, чичас. Ментом. Ты уж, Устинушка, как-нибудь без меня обойдись. Тут дело особое. Хозяин-то наш живёт в городе, а по весне приезжает на прииск. Мы с ним вроде… приятели малость. Я к нему три дня просился и вот… вспомнил… позвал…
Плечи Егора выпрямились. Он вроде бы выше стал. Стерлась с лица растерянная улыбка.
– Он меня непременно определит на хозяйские работы, а то на старанье – сам видишь, – показал Егор на голые стены землянки, на рваную одежонку, валявшуюся на нарах.
Дорога к дому хозяина идёт по пригорку. Отсюда весь прииск как на ладони. Длинные, приземистые бараки, землянки, магазин под железной крышей. Большие двухэтажные склады из потемневших пихтовых брёвен. Под крышу взбегают крутые лестницы без перил.
Ниже, к реке – церквушка с облезлым золочёным крестом и вокруг неё, над бугорками земли покосившиеся кресты: большие и маленькие, крашеные и полуоструганные из берёзовых жердей. Много крестов.
За кладбищем глубокая жёлтая яма вспорола зелёную пойму и кажется огромной свежевырытой могилой. Это главный разрез.
В разрезе народу – что муравьёв. По дну снуют взад-вперёд катали с тачками. Везут заготовленные пески на борт разреза. Там, у самой реки, стоит золотомойная машина. Чуть поднимется солнце, машина начинает греметь. Медленно кружит наклонная железная бочка. Тысячи пудов породы высыпают катали в её ненасытную глотку.
Блестящую, отмытую гальку машина выбрасывает, а где-то в ловушке осаждаются крупинки золота. Какие они и сколько – об этом знают только в конторе.
«Попрошусь у хозяина на машину. Там всё же малость полегше», – думал Егор и уже видел себя работающим возле этой гремящей железной бочки. Видел лучистые глаза Аграфены, когда он, придя домой, скажет – Иди в магазин, баба. Приказано отпустить в кредит…
Идёт Егор и мысленно гладит льняные головёнки ребят – конопатого Петьки, Капки, Оленьки. Раздаёт им леденцы.
– Будет так. Будет.
…В просторной, чисто белёной комнате пол застлан домоткаными полосатыми половиками. В красном углу золочёные ризы расейских икон. Перед ними лампада. В настежь открытые окна врывается запах тайги. Яркие лучи солнца освещают длинный стол под белой накрахмаленной скатертью. А на столе – чего только нет.
Этот стол Егор увидел раньше, чем всё остальное. Раньше, чем людей, сидящих вокруг стола. Глотнул слюну. Шагнул вперёд и снова отступил к двери. Нерешительно затоптался на месте, оглушённый бестолковым шумом холостяцкой пирушки. Хозяин – высокий, статный, в расстёгнутом сюртуке – подошёл к Егору.
– Познакомьтесь, господа, это Егор, мой друг, мой… неизменный товарищ по таёжным скитаниям. – Голос у Ваницкого глубокий, бархатистый. Он говорит не спеша, с неожиданными паузами. Богатые интонации придают его словам особую весомость. Голос несильный, но рассёк шум как волноломом, разбил его на отдельные затихающие шумочки.
– Неизменный товарищ по таёжным скитаниям, – повторил ещё раз Ваницкий. – Прошу любить его так, как люблю его… я. Сысой Пантелеймонович, подай Егору стул.
Молодой купец в синей поддёвке, с бельмом на глазу, чуть пожав плечами, поставил стул у двери. Ваницкий резко переставил его к столу.
– В тайге я спал под Егоровым полушубком… Сысой Пантелеймонович.
«Ты-то сам кто?» – понял Сысой и, исправляя оплошность, пододвинул новому гостю тарелку, рюмку, салфетку.
– Мы с Аркадием Илларионычем запросто завсегда, – чванился Егор и робел. – Завсегда. По-мужицки. Вот и они подтвердят, Аркадий Илларионыч…
– Конечно, Егор. Давай закусывай, не стесняйся. Год мы с тобой не виделись. А ты постарел, старина. Живёшь-то как?
– Да как вам сказать, Аркадий Илларионыч, – оглядел гостей. Готовая вырваться жалоба в горле застряла. – Хорошо живу вроде, – и всхлипнул: – Лишь бы на хозяйские работы перевестись, а то…
– Водки хочешь? – перебил Ваницкий.
Благодарствую, Аркадий Илларионыч. Мы же чашны… Староверы, – кособокий клинышек бороды Егора вздрагивал на каждом слоге. «Не хочет о деле-то говорить. Подожду…»
– А медовухи?
– Это можно с устатку.
Хозяин налил в стакан медового пива. Протянул Егору.
– Благодарствую. Мне бы сюда, – вытащил из-за пазухи деревянную мисочку. Протянул. Выпил. – Эх, хороша.
– Ещё налить?
– Благодарствую, – а в голове одна мысль, как бы о деле заговорить.
– Закуси.
Егор снова глотнул слюну. Не пристало староверу скоромиться мирской пищей, да уж больно румяны лежат пироги. Попросил:
– Рази кусочек того, с краю… С рыбкой он?
– С рыбкой.
И только закусив пирогом, Егор увидел, что людей в комнате много. И всё господа.
– Ты, Аркадий Илларионович, шарики нам не крути, – говорил высокий, сухой, жилистый офицер, – Взялся доказывать, докажи. Двадцать шагов – это, брат, дудки.
– Дай прожевать Егору пирог.
– Пусть жует. А мы, г-господа, тем временем п-по маленькой, п-под икорочку. Эх, был бы коньяк да белый, хлеб, а икра, пусть будет чёрная. Нальём? Эй, эй! Аркадий Илларионович, отойди от мужика, не шепчи ему на ухо, а то всё равно не поверим. Ну-с, господа… залпом… пли…
Аркадий Илларионович отошёл к окну.
– Итак, господа, начнём. Егор! Поведай моим гостям, почему у тебя нет переднего зуба?
– Вы же сами знаете, батюшка Аркадий Илларионыч.
– Я-то знаю, а они вот не верят. Расскажи по порядку как было.
– Да што рассказывать. Повел я, значит, Аркадия Илларионыча на охоту. Ну, ходили мы, ходили, Я, значит, рябчиков маню, а они, значит, стреляют. Стали мы, конешным делом, ночёвку устраивать. Я эти самые постели гоношу, костёр разжигаю, а Аркадий-то Илларионыч так сбочку от меня на пеньке сидят, а во рту у меня… – Егор поёжился, – А во рту у меня, значит, трубка.
– Стоп, стоп! – перебил пристав. – Как же трубка? Ты же кержак?
– Грех, конешно. Но попривык на приисках. – Балуюсь порой крадучись. Особливо, ежели в тайге комары донимают.
– Ну продолжай.
– И тут бац. Не пойму я. Чубук вроде во рту, а трубки вроде бы нету. И на зубах хрустит. Плюнул – зуб. Это они, Аркадий Илларионыч, стрелять изволили и чубук у меня возле губ пулей перебили. Ну, значит, чубук-то заломило в зубах, и один не выдержал. Хрустнул. Вот он где был, – показывал Егор.
– Не врёшь?
– Как перед истинным богом. Мы же чашны, врать не умеем.
– Ну т-твоя взяла, Аркадий Илларионович. П-получай, – пристав достал из кармана бумажник. – Г-госпо-да, раскошеливайтесь. Умели спорить, умейте платить.
– Стойте! Дорогие мои! Тут ещё не всё ясно, – крикнул Сысой. – Тут ещё не всё ясно. Скажи-ка, Егор, а какое расстояние было от тебя до господина Ваницкого?
– Расстояние? – Да кто ж его мерил? Ну шагов, однако, пятнадцать.
– Прячьте бумажник, пристав. Господа, сколько говорил Аркадий Илларионыч было шагов?
– Двадцать. Двадцать, – зашумели вокруг.
– А тут выходит пятнадцать?
Егор не понял, о чем идёт спор. Он видел только, как покраснел хозяин, как неприязненно, зло он взглянул на Егора, и сердце ёкнуло: не потрафил, не угодил.
– Егор, да ты уснул, что ли? Егор, – кричал Ваницкий. – Я спрашиваю тебя, повторим?
– Што повторим, Аркадий Илларионыч?
– Ну это самое, с трубкой… Ты встанешь там, во дворе, а я выстрелю.
– Что вы, вашбродь, батюшка Аркадий Илларионыч. Такое один раз в жизни пережить и то хватит с лихвой.
– Трусишь?
– Да как вам сказать… Конешно, страшновато вроде бы малость.
И тут Егор заметил, что Ваницкий держит в руках зелёную хрустящую бумажку. Три рубля. Давно Егор не видел таких денег. Это, ежели по здешним ценам, целых шестьдесят фунтов хлеба. Пятерым, ежели с умом, целую неделю жить можно. А в землянке ждёт сват. И нечем его угостить. А угостить обязательно надо. Сват ведь. Родня. Вместе росли. Вместе бесштанной оравой по улице бегали.
Егор привстал со стула и потянулся за трешкой.
– Но-но, – остановил Аркадий Илларионович, – получишь, когда повторим.
– Так это я должен снова как тогда у костра?
– Конечно. Всего минута – и у тебя деньги. Может быть, тебе не надо денег?
– Што вы, ваше скородие, Аркадий Илларионыч, вот как бы надо… А ежели б ещё на хозяйские перевестись…
– О делах, Егор, к управляющему. Я дел не люблю. Ну, становись к забору – и трёшка твоя.
– Не замайте, Аркадий Илларионыч. Не могу.
Ваницкий достал бумажник. Егор весь подался вперёд. «Спрячет сейчас трёшку-то. Ить шестьдесят фунтов хлеба. Ежели мукой? А ежели муку намешать с колбой…» Но что это? Перед глазами снова пальцы хозяина. И в них две трехрублевые бумажки.
– Я понимаю, страшно стоять и глядеть на ствол, – говорил Ваницкий. – А ты зажмурься и всё. Налить тебе… медовухи?
– Сделайте милость.
На этот раз Егор не просил налить в деревянную мисочку, а пил прямо из стакана. В голове шумело. А перед самыми глазами мелькали зелёненькие бумажки. Две. Нет, не две, а вот уже три.
– Эх, – хлопнул Егор шапкой об пол. – Была не была.
– Господа, выходите во двор. Сейчас убедитесь. Пристав, отмеряй шаги, а я заряжу штуцер. Может, Егор, ещё опрокинешь стаканчик?
– Будя. Только вы, хозяин Аркадий Илларионыч, приложите ещё. Для ровного счету.
– Десятку, значит? Хо-хо, плут ты, Егор. Будь по твоему. Округлю.
…Очень трудно стоять спокойно, когда на тебя наводят ружье. Пришлось крепко прижаться спиной к столбу, и всё же ноги у Егора подкашивались. Надо стоять точно в профиль. Надо, чтоб трубка не дрожала в зубах. Надо не смотреть, как хозяин медленно поднимает штуцер. Зажмуриться. А глаза не слушаются, косят и видят чёрный зрачок. Он кажется непомерно большим и направлен прямо в висок.
На высоком резном крыльце мечется толстая кухарка. Она хватает за руку то одного из гостей, то другого.
– Господа хорошие, чего же такое делается на божьем-то свете? Среди бела дня в человека пуляют. Господи боже мой. Царица небесная…
– Пли!
Егор весь обмяк. Ноги подкосились. Столб закачался, вроде и земля оказалась где-то вверху. А голова? Егор не мог понять, где у него голова.
– Ура-а! Молодец, Аркадий Илларионович! Доказал.
– Молодец, – хлопает по плечу Егора хозяин. – Да ты отпусти из зубов чубук. Отпусти. Ну, господа! Двадцать шагов? Кто выиграл? Эй, принесите Егору ковш медовухи.
– И я так могу, – вмешался корнет – сын хозяина. Глаза голубые. Щёки, как яблоки. Из-под голубого расстегнутого мундира видно тонкое полотно рубашки. – И я так могу. О-очень могу. Немцев еду крушить. Встань, Егорушка, ещё на минутку. Встань у столба. Э! Принесите новую трубку.
И перед глазами Егора радужно завертелась красная десятирублевая бумажка.
– На, друг, я сразу тебе отдаю. На, на. Бери.
– Батюшки мои. Убивство! – мечется по крыльцу кухарка. – Барин Валерий. Да ты на ногах не стоишь!
– Врёшь! Не твоё дело, старая. Тут честь мундира. Честь мундира, говорю я вам. Еду с немцами воевать. Отойдите, господа. Чего это Егор дрыгаться начал?
Корнет медленно поднимает штуцер, но не может поймать мушку. Она дрожит, и Егор у столба то совсем ясно виден, то вроде в тумане, и трудно понять, где эта проклятая трубка.
– Спокойно, Валерий, спокойно, – твердит Ваницкий.
– Господи! Убивают! – кричит кухарка.
Словно во сне видел Егор, как широко распахнулась калитка, как во двор вбежал высокий сутулый человек во всём чёрном. Как встал он между ним и корнетом.
– Стойте, господин корнет!
– Уйди. Застрелю.
– Стойте, говорю, – и вырвал из рук Валерия штуцер. Потом подбежал к Егору, с силой толкнул его к калитке. – Идите сейчас же прочь.
А в калитке уже народ. И видит Егор, как рвётся сквозь толпу простоволосая Аграфена. Высокая, худая, в коричневом залатанном сарафане. Она расталкивает людей и кричит:
– Егорушка! Егорушка! Што они с тобой делают?
Нетвёрдыми шагами проходя сквозь калитку, Егор слышал, как за его спиной возмущался пристав, Валерий, шумели гости хозяина,
– Ч-чёрт знает что это такое. Какой-то мужик…
– Да как он посмел?
– В холодную наглеца, – не повышая голоса, проговорил Ваницкий.
Видел Егор, как схватили высокого мужика в чёрном, как скрутили ему руки, поволокли куда-то. Надо бы заступиться за хорошего человека, но в голове Егора очень шумело и болело во рту.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
К северу от села Рогачёво – широкая, привольная степь с редкими колками берёз, с неровными заплатами пашен. По колкам клубника красной росой покрывает землю. Между пашнями заросли мальвы – шток-розы и приторно сладкой солодки.
К югу стеной поднимаются горы. У подножья хребтов протекает порожистая речка Выдриха. За нею – тайга.
Давно-давно какой-то Рогач, не стерпев притеснений «истинной» веры, отправился в дальние страны искать благословенное «Беловодье». Там стоит чудо-город с сорока сороками златоверхих церквей. И живут в нем люди старинной, братишной веры. Не носят расейской сатанинской одежды, не курят табак и крестятся не щепотью, а двуперстьем. Рыбы там, зверя – видимо-невидимо. Земля такая, что кнутовище воткнешь – лес вырастает.
Далёко «Беловодье» от здешних мест. Ох, далёко. За горами, за степью, за пустыней песчаной, за самым Опоньским морем.
На переднем пути или возвратном (об этом по-разному говорят) притомился Рогач, занемог и поселился в одинокой избушке на берегу таёжной речушки Выдрихи. От него и зачался притаёжный – Сибирский край села Рогачёва.
Старухи – блюстительницы древлих обычаев – ещё помнят степень родства отдельных семей, а кто помоложе – знает только, что все Рогачёвы родня, а кто кому кем приходится – разобраться не могут, и зовут друг друга сватьями и кумовьями.
В новом, расейском – степском краю живут новосёлы. Народ пёстрый. Что ни дом, то своя фамилия, свои обычаи, а то и своё наречье. Пришлый народ. Неуёмный.
В рогачёвском краю всему голова Кузьма Иванович – невысокий, худощавый, благообразный старик с седой бородой, расчёсанной надвое. В рогачёвском краю избы из кондового леса, добротные, крепкие, но дом Кузьмы Ивановича среди них, как бугай посреди телят. Крестовый дом, с прирубом, под железной зелёной крышей. Семь окон на улицу. На ставнях, наличниках нарисованы невиданные цветы в красных и синих горшках и дивные птицы с медвежьими головами.
Кроме дома имеет Кузьма Иванович конька-бегунка. Нет коня в округе, который бы обскакал Орлика на бегах.
На смену Орлику подрастает в табунах новое поколение. А конские табуны в здешних местах – это сила.
Кроме дома и лошадей имеет Кузьма Иванович мельницу. Неказиста на вид мельничонка, на один постав, но она дает хозяину небольшую толику зерна. Им и сыта семья Кузьмы Ивановича, а избыток засыпан в закрома и сусеки шести амбарушек.
Есть ещё у Кузьмы Ивановича небольшая торговлишка. Здесь же, при доме. К прирубу ведёт резное крыльцо, а над ним по зелёному полю черными буквами «Торговля К. И. Рогачёва». «Торговлишка так себе, чтоб сватьям в другое село не трястись. Велика ли от лавчонки корысть, – сетует Кузьма Иванович. – Так, баловство».
Силу и власть дает Кузьме Ивановичу молельня и положение уставщика – пастыря душ. Его отец крестил Устина, Матрёну и других рогачёвцев, Кузьма Иванович крестит и направляет на путь истинный их сарынь.
Уставщик в мирские дела не входит, толкует древлие книги, правит обряды. Но издавна повелось, чтобы мирской сельский сход собирался у дома Кузьмы Ивановича.
И сегодня собрался сход. Шумит народ. Волнуется. Всю улицу запрудил: ни пройти, ни проехать.
Кузьма Иванович сидит в горнице у окна за кустами герани. Перед ним стол, застланный домотканой скатертью, рукописная книга с золочёным крестом на порыжевшем сафьяновом переплёте. Весь угол в иконах, медных, литых. И сам Кузьма Иванович словно с иконы. Смиренные глаза. Сухие, подвижные пальцы перебирают «бабочки» лестовки. Но когда заходит спор о делах, касающихся покосов, или пашен Кузьмы Ивановича, глаза его вспыхивают, словно уголья.
– Никак Микешка шумит? Бог Микешке простит, – перекрестится, и снова потухнут глаза. Но в памяти отложится: Микешка шумел. А чтоб не забыть, на листке особо запишет «Микешка» и подчеркнёт.
– Господари мои. Ратуйте. Пощадите. Всю Россею прошёл, от самых Карпатских гор. Дочка померла на дороге. Так и схоронил на берегу неведомо какой речушки. Пятый год у вас на глазах в батраках горе мыкаю. Припишите к обчеству. Наделите землицей, а уж я… – Плечистый, черноусый Тарас, с сизой гулькой над глазом, топчется на крыльце, как подлеток[6]6
Подлеток – птенец, поднимающийся на крыло (прим. авт.).
[Закрыть]. Тянет к сходу сухие, костистые руки. Сильные руки. Умелые. Пятый год ладят они телеги и сани на дворах рогачёвцев, поднимают пласты их пашен, укрощают жеребцов. – Богом прошу…
В синих, по-детски ясных глазах Тараса столько мольбы, что не выдерживают мужики, отворачиваются.
– Сто пятьдесят рублёв, што положено обчеству за приписку, я уже внёс. Вот и квиток. Богом молю…
Кряхтят мужики. Прячут глаза. И просителя жаль, и землёй не хочется попуститься. Не своя земля, пустошь, а жаль. Может, когда пригодится. И батрака потерять дешёвого жаль. Но и полтораста рублей, что внёс Тарас «на обчество» – деньги.
Пятый год просит Тарас сход о земле для пашни, о клочке земли под хату. Веру давно потерял. И в этот год не стал бы просить, но жена настояла. И опять в ответ на его просьбу – молчание. Тарас готов подняться с колен, уйти в банюшку, где живёт с семьёй.
– Принять уж. Чего там, – неожиданно для себя, неожиданно для Тараса и схода выкрикнул Симеон. Выкрикнул и, пугливо озираясь, втянул голову в плечи. Даже серу жевать перестал. Обычно Симеон на сходах молчит, но сегодня он сам проситель и хочет, чтоб общество было доброе. Одному не откажет, пойдёт навстречу и ему, Симеону.
– Никак это Сёмша Устинов? Сёмша и есть, – хмурится за геранями Кузьма Иванович. И пишет для памяти на листке: «Сёмша».
– Может, и вправду принять, – поддержал Симеона неуверенный голос.
Кузьма Иванович кашлянул, завозился на стуле. Через окно погрозил приказчику пальцем. Приказчик подтолкнул под бок рыжеватого мужика, тот сразу всё понял и выкрикнул:
– Как это к обчеству приписать? А кто безобразил на паске?
– Не безобразил я. Дурников разымал.
– Пятый год шею гнёт. Он и деньги на обчество внёс...
Колеблется сход. Жена Тараса взгромоздилась на брёвна, босоногая, чёрная, худая, как жердь. В глазах её то отчаяние и смятение, то надежда и радость. Машет Тарасу рукой. Кричит:
– Господари мои! Наделите. Я уж десять лагунов пива вам… Самого первостатейного.
И спор неожиданно переходит в новую плоскость. Не о том, наделить или нет Тараса землёй, не о том, безобразил он или разнимал «дурников», а о том – не мало ли обещает пива.
– Двадцать, – раздались голоса.
– Рады бы, нету, – гугнит Тарас.
И снова женский крик разносится над толпой. Это кричит жена Тараса.
– Будет двадцать. Будет. И шабур[7]7
Шабур – широкая верхняя одежда из домотканой полушерстяной материи (прим. авт.).
[Закрыть] продам, и шубейку.
– Спасибо вам, добрые люди. Спасибо, – кланяется Тарас.
Кузьма Иванович пишет в листок: «Сёмша Устинов» и обводит жирной рамкой.
Не чуя ступенек под ногами, Тарас спускается с крыльца. Кланяется на все стороны.
– Спаси вас бог, люди. Спаси вас бог.
Сход подходит к концу. Двоим расейским отказали в приписке. Теперь на крыльце стоит Симеон, как недавно стоял Тарас, и тянет к сходу руки, с зажатым в кулак потрепанным картузом. Сера во рту мешает ему говорить. Симеон тушуется, перебрасывает серу за щеку и просит:
– Миряне! Войдите в нашу беду. Мучит покос на Безымянке. – Обращается будто к сходу, а косится на окно, уставленное горшками с геранью.
– Замучил, совсем замучил покос, – подхватил из задних рядов Ванюшка.
– Оно, конешно, покос-то лучше б не надо, – хвалит Симеон, – да ведь на нём листовое сено. Стало быть, отдать тому, у кого поболе коров.
– Ишь, куда метит, щенок, – пристукнул по столешнице Кузьма Иванович.
Не найдя больше слов, Симеон бросил на скрипучие ступеньки крыльца измятый картуз и выплюнул серу.
– Бог свидетель – для лошадок сено-то надо с пырьём.
– Замаяла нас Безымянка, – кричал что есть силы Ванюшка.
Шумит сход, порывами, как море в осеннюю непогоду. Плеснёт волна голосов, примолкнет на время, снова плеснёт.
Мужики плотным полукругом обступили крыльцо лавки Кузьмы Ивановича. Кряжистые, крепкие, бородатые кержаки, а поодаль бритые расейские новосёлы. У каждого своя забота, своя печаль. Иной терпел её полгода, а то и год, утешал себя – дай время, сход соберётся, мир-то рассудит.
– Миряне… Отцы родные, войдите в нашу беду… Сами поди видите… Э-эх…
– Видим, Сёмша. Чего там, – гудели вокруг. – Бери какой хошь в междуречье.
– Да дотуда тридцать верстов…
Кузьма Иванович одергивает белую рубаху, подпоясанную вязаным пояском с молитвами. Морщится.
– Во имя отца и сына, и святого духа… Никак ты, Матрёна? Чего тебе надобно?
Матрёна истово крестится на иконы.
– Осподи помилуй, осподи помилуй. Кузьма Иваныч, заступник… Покос-то Безымянский опять нам отрезают.
– Мир так решает.
Перевертывает страницу книги. Шепчет:
– Во время оно Иисус Христос, сыне божий, прииди под стены… Сам-то где?
– Устин-то? На прииск пассажира повёз. Войди в положение, Кузьма Иваныч, Вовек не забуду.
– Пассажира! За рублем твой Устин потянулся и лошадок угнал. Завтра какая докука аль што, и снова «Кузьма Иваныч, дай лошадку». Так будет? Пусть пассажиров и возят, у кого есть лишние лошади.