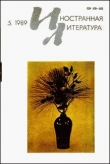Текст книги "Крылья беркута"
Автор книги: Владимир Пистоленко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Это обман! Чистый обман! – кричал Алибаев.
– Нет, товарищ Алибаев, нет, дружище; никакого здесь обмана, – старался урезонить его Кобзин. – И ты это сам знаешь.
– А где тогда обман? А? Ты, комиссар, сказал, что поедем? Сказал! Сказал, что поедем вместе! Почему отказываешься? Как я должен своим людям объяснить? Ты можешь брехать, я не могу! И не хочу! Я уже приказал моим джигитам кормить коней, и мы ночью будем в Павловской!
– Товарищ Алибаев, ты признаешь меня за командира сводного отряда? – низким басом спросил Аистов.
– Зачем спрашиваешь? Мой отряд – твой отряд. Ты всем отрядам командир, – ответил Джайсын.
– А если так, то вот мой приказ: твоему отряду остаться в городе. Налет на станицу отменить. Сейчас он невозможен и недопустим. Бедой может кончиться. Понятно? Это приказ! Вот так, товарищ командир эскадрона, – сказал Аистов и дружески обнял Джайсына.
Рядом с невысоким и щуплым Алибаевым рослый и плечистый Аистов выглядел богатырем. Алибаеву было всего лишь девятнадцать лет, таких молодых красногвардейцев в отряде насчитывалось много, но среди командиров он был самым юным. Однако, несмотря на молодость, его знали и уважали во всем отряде – уважали за смелость, находчивость, за беспредельную преданность революции. А в его эскадроне, хотя там было немало пожилых казахов, своего командира считали лучшим джигитом и готовы были по его зову, как говорится, в огонь и в воду.
Джайсын метнулся к столу, схватил малахай и плеть.
– Моего брата убили! Совсем мальчишка! Казнили малайку! Он жизнь прожил – досыта не кушал! И я могу простить? Ни за что! Не надо меня, пожалуйста, связывать приказом, товарищ Аистов. Я тебя просить буду, товарищ Аистов. Не надо, комиссар Кобзин, мне никакой подмоги! Со своим отрядом сотру станицу. А смерть брата никогда не прощу!
– Сядь, товарищ Джайсын, и выслушай, что я тебе скажу, – заговорил с ним Кобзин. – Нет, сначала выслушай, а потом поступай, как подскажет твоя совесть. Я тебя понимаю. Понимаю справедливый твой гнев и горе. Хотя, кажется, чего только не насмотрелся. – Кобзин опустил на стол сжатый кулак. – Каждый день приносит горе, каждый день кого-нибудь хороним. И у всех погибших есть семьи – матери, жены, дети. Может, думаешь, они не умеют так крепко любить своих близких, как любишь ты?
– Я не сказал так! – прервал его Алибаев.
– У каждого человека есть сердце и есть свои привязанности. Но я сейчас хочу говорить не об этом, а о твоем решении ударить по станице Павловской. Да, я сказал тебе неправду, что поеду вместе с тобой, и прошу – прости. Сделал это я умышленно, чтобы хоть на время задержать тебя, дать возможность прийти в себя, подумать, немного поостыть, а не решать сгоряча.
– Спасибо, комиссар Кобзин, за твою заботу, только я никогда не остыну, не забуду и не прощу...
– Джигит ты мой дорогой! Дай же мне высказать все то, что я думаю, что хочу и должен тебе сказать. Именно должен! Сейчас белые казачьи банды рыщут и нападают на красных. Просто на красных. Не разбираются, из кого состоит отряд. И твой киргизский эскадрон, Алибаев, пока не привлек к себе особого внимания. Но что может произойти, если он налетит на Павловскую или же на любую казачью станицу, хутор? Ты не подумал об этом? От станицы к станице покатится молва, что киргизцы – не красные, а именно киргизцы! – нападают на русских, на казаков. Понимаешь ли, Алибаев, чем это может кончиться? Может вспыхнуть национальная вражда, там и до резни недалеко. А это как раз и есть то самое, что на руку белякам. Удар ножом в спину революции. За границей враги нашей революции кричат, что в России, помимо всего прочего, начинается национальная рознь. Тот, кто это делом подтвердит, кто вольно или невольно поддерживает эти бредни, становится на сторону врагов революции. Только так! Золотой середины здесь нет и не может быть. Но ты, товарищ Алибаев, не думай, что убийцы уйдут от ответа. Их настигнет карающая рука революции, обязательно настигнет! И вот еще что я должен сказать: твой старший брат, видимо, будет назначен комиссаром Степного края.
– Мой брат Джангильдек?
– Да, Джангильдек Алибаев.
– Каким комиссаром? У нас есть комиссар!
– Он будет комиссаром всего Степного края. Вашего края. По национальному вопросу. Ему Ленин поручает объединять народы против баев, кулачья. Если ты бросишь свой эскадрон на Павловскую, то повредишь этим брату-комиссару и вообще всему делу революции. Вот так, дорогой мой джигит!
Джайсын склонился над столом, опустив голову на руки. Он сидел с закрытыми глазами, чуть заметно покачиваясь из стороны в сторону, и причитал:
– Не сберег я малайку... Нет больше братишки!
Глава девятая
Когда Надя вышла во двор, там уже не было ни розвальней, ни толпы.
У ворот, закинув повод на руку, топтались возле коней джигиты Джайсына Алибаева.
Надя вывела Орлика, подтянула подпругу. Семен был прав, когда советовал не надевать валенки – растоптанные и подшитые их носки не входили в стремена; если бы не ее ловкость и уменье взлететь на коня, почти не касаясь стремени, Наде не забраться бы в седло.
Тут Надя вспомнила, с какой радостью и старанием учил ее отец верховой езде и вообще казачьему обхождению с конем. Ей еще не было и восьми, а она уже ловко взбиралась на коня, любила ездить верхом, особенно когда рядом ехал отец, и не боялась, если вдруг конь пускался вскачь. Отец гордился ее казачьей хваткой и не раз хвалился, что его дочка сызмальства не только не уступит ни в чем любому погодку-парнишке, но некоторым из них может дать и форы.
В солдатской одежде Надя походила на молоденького красногвардейца.
Низко над городом плыли мутные тучи, сеялся мелкий густой снежок. Временами, когда налетал ветер, снег взвихривался, и тогда казалось, что порыв ветра мчит серую туманную мглу.
Заметно вечерело. Наступали те короткие зимние сумерки, когда тусклый день почти сразу обрывается и тут же нависает непроглядная ночь. Надя начала поторапливать Орлика – ей хотелось во что бы то ни стало приехать к Рухлиным засветло, если и не засветло, то хотя бы в сумерках, чтобы ее не приняли за кого-нибудь другого, а узнали с первого взгляда.
Вот и Форштадт. На улицах ни души. Рано позапрятались в свои пятистенные да шатровые дома-крепости форштадтские обыватели. Ворота на запоре, окна за ставнями, а ставни перехвачены железными прогонычами. Кажется, заснул мертвым сном казачий пригород, надежда и опора бежавшего атамана, вражье гнездо, где до нужного часа притаились белоказаки, поприпрятав клинки и винтовки. На первый взгляд нет жизни в Форштадте, только кое-где залает собака, услышав конский топот, да сквозь щель в ставне сверкнет огонек, как махонькая золотая искорка.
Скачет Надя по пустой улице, а не знает того, что ее видят, что за ней следит не одна пара глаз, следят матерые волки и прикидывают: куда же это держит свой путь мальчонка с красной лентой на шапке?.. Не знает Надя и того, что позади нее, по другой стороне улицы, не пытаясь догнать ее (разве пешему угнаться за конным?), спешит, все больше отставая, но стараясь не потерять ее из виду, человек с винтовкой за правым плечом. Винтовка мешает ему, не дает шагать быстрее; куда удобнее было бы перекинуть ремень через голову, на левое плечо, тогда она висела бы себе за спиной и не к чему все время ее придерживать, но перекинуть винтовку за спину нельзя, она может понадобиться в любой момент да так неожиданно, что пропусти долю секунды – и ни винтовка, да и ничто другое на свете уже не понадобится...
Увидев, что Надя осадила Орлика у ворот, человек замедлил шаг.
Подъехав вплотную к воротам, Надя громко постучала стременем в заиндевевшую железную скобу. Во дворе поднялся уже знакомый ей неистовый собачий лай вперемежку с яростным воем и урчанием. И вот собаки уже у ворот. С какой свирепостью псы накинулись бы на нее, очутись она по ту сторону ворот! Хотя сейчас, когда она верхом на коне, собакам, пожалуй, ее не взять.
Как и днем, по приутихшему собачьему хору Надя поняла, что к воротам кто-то подошел и, наверное, разглядывает ее в потайную щель. Она вытащила из кобуры наган, стукнула несколько раз рукояткой в скобу и, не дожидаясь отклика, сказала:
– А ну, открывайте ворота!
Во дворе молчание. Снова залились неистовым лаем псы.
– Или хотите играть в молчанку? – каким-то чужим, хрипловатым голосом спросила она. – Игры такой не получится. Ну?
– А кто там? – раздалось из-за ворот.
Надя узнала голос рыжего Рухлина.
– Из военно-революционного комитета.
– А чего надобно? – помолчав, спросил Рухлин. – И по какому такому праву вы беспокоите людей в позднюю пору? Для делов и день есть. Завтра приезжайте, а сегодня – бог подаст.
В этих словах Надя услышала насмешку. Рыжий узнал ее, увидел, что она одна, стало быть, большой опасности не представляет, и, почувствовав себя хозяином положения, решил поиздеваться.
Все это Надя поняла как-то вдруг, как поняла и то, что ей надо быть предельно осторожной. Оплошай она хоть чуть-чуть – с ней будет то же, что и с теми четырьмя; только это случится не где-то в станице, а здесь, в Форштадте, во дворе Рухлиных, куда она стремится попасть... Все-таки немного страшновато. Жаль, что она никому не сказала, зачем едет, и поехала одна.
– Долго еще ждать? Открывайте, – потребовала Надя.
Хозяин угомонил собак. Как и днем, загремел засов, и в приоткрывшейся калитке показалась голова. Было еще не так темно, чтоб Надя с первого взгляда не узнала Ивана Рухлина.
– Андреевна! Так это опять же ты оказалась?! Ну и разнарядилась – в жизни бы не признал! Солдат, и все! – заговорил Рухлин тем же тоном, что встретил ее днем: полудобродушным, полунасмешливым. – А сам себе думаю: кому из ревкома понадобилось об эту пору ко мне в дом ломиться? Давай слезай с коня и проходи во двор. А я назавтра собирался сам к тебе податься, насчет перемирия. – Он рассмеялся и, как что-то веселое, стал вспоминать дневное происшествие: – И скажи на милость, чего учудили! И причин-то никаких, все так себе. Ты, Андреевна, не сердись, что я тебя маленько звезданул. – Он опять рассмеялся. – Надо же было старому обормоту из такого пустяка, как дразнилка, на барышню злиться да шум поднимать! А кулак у меня что твоя свинчатка. Ну, да хорошо, что задел всего чуток. Потом, когда ты ушла, сам себе и думаю: ну чего запылил? Верно сделала, что приехала. Молодчина. Ну, двигай во двор, Андреевна, чего мы на улице толпимся?
– Хватит, гражданин Рухлин, – прервала его Надя. – Привяжите для начала собак, а не то всех перестреляю к чертям.
Рухлин только сейчас заметил в ее руках наган и невольно подался к калитке.
– Ты спрячь-ка свою пушку. С огнем не шуткуют, – сразу ощетинившись, сказал Рухлин.
– А я не для шуток приехала. Пошутили днем – хватит! Понятно? И никакой «Андреевны»! Была, да вся вышла. – Надя натянула левой рукой повод, конь двинулся к калитке, дуло револьвера глянуло Рухлину в лицо.
– Стрелять хочешь? – не скрывая ярости, сказал он. – Так давай! В меня немцы стреляли – не застрелили, давай и ты, сопля! – В голосе Рухлина уже не было и следа добродушия.
Он рванул на себе полушубок так, что отлетели ременные пуговицы-плетенки, шагнул к Наде и, распахнув полушубок на груди, прошипел:
– Бей! Чего смотришь?
И Надя не разумом поняла, а почувствовала сердцем: вот оно, то самое мгновение, когда решается судьба двух людей, двух врагов, когда мирно разойтись им уже невозможно, один должен сломить другого... Стоит ей еще немного шевельнуть правой рукой, нажать пальцем холодный крючок – и рыжего не станет, свалится на притоптанный снег. Одним подлецом на белом свете будет меньше... Так в чем же дело? Стреляй! И за тех четверых, и за себя, и за красногвардейскую вдову Васильеву... Стреляй! Иначе будет поздно!
Но нет, она стрелять не будет, не может она убить человека...
Рухлин заметил эту ее коротенькую заминку, мгновение растерянности и понял: сейчас ему уже не грозит опасность. Он не спеша запахнул полушубок.
– Зачем приехала? – сухо, по-деловому спросил Рухлин.
– Дело есть, – так же коротко ответила Надя и опустила руку с наганом в карман шинели. – Открывай ворота.
– Ворота открыть можно. Было бы для кого.
Рухлин нырнул в калитку, и обе половины высоких окованных ворот широко распахнулись перед Надей. В глубине двора, так же как и днем, стояли двое саней, груженных сеном.
– Айда, проезжай, – пригласил хозяин.
Ехать ли? Можно и здесь, не въезжая во двор, сказать все, что нужно... Долго не раздумывая, понимая, что Рухлин уверен: не поедет, побоится, – Надя толкнула Орлика стременами, и он наметом вынес ее на середину двора, почти к самому лабазу, где на плоской крыше громоздился аккуратный стожок сена – запас на случай непогоды.
Из полуоткрытых дверей лабаза вырывались густые клубы пара. Послышалось конское ржанье. Орлик под Надей забеспокоился, запрядал ушами, заплясал на месте. Оглянувшись, Надя увидела неподалеку Ивана Рухлина – он торопливо шел к ней, и еще увидела: двое мужчин закрывают ворота – это были Симон Рухлин и Минька. В голове промелькнула мысль: значит, все время, пока она разговаривала с рыжим, эти двое стояли у ворот, слышали каждое слово. Скорее всего, так велел им Иван. И ворота закрыли тоже, видимо, не без его приказа.
– А ну, пускай откроют ворота. Слышишь? – строго и решительно потребовала Надя.
– Не боись. Не тронем.
– Я и так не боюсь.
– Днем неладно вышло, – оставаясь на расстоянии, сказал Рухлин.
– Не будем повторяться, – оборвала его Надя.
Рухлина крайне удивило и насторожило то обстоятельство, что Надя так смело въехала во двор. И в голосе ее – никакой слабинки. Почему? Может быть, то, что он принял у калитки за ее растерянность и испуг, было не чем иным, как уверенностью в своей силе и безопасности? А он принял кажущееся за сущее? И опять же, эта сквернавка говорит: приехала по делу. Не сама же она придумала какое-то дело, скорее всего, комиссары послали. Не успеешь глазом моргнуть – налетят, и поминай как звали.
– Я совсем не к тому заговорил, чтоб повторяться. Ты, Андреевна, позабудь всю энту сегодняшнюю хурду-мурду. Чего на свете не бывает? Сказывай: по какому делу?
Да, Рухлин ее все-таки побаивается. Вон как запел! А не хитрит ли, рыжая лиса? Ну, да некогда рассусоливать, на дворе почти совсем стемнело.
– За то, что было днем, тебя следовало в ревтройку отправить, проучить, чтоб рукам воли не давал! А я тоже – раскиселилась, как дура... Дело у меня вот какое: запрягай в сани с сеном лошадь и давай за мной.
– Куда? – настораживаясь, спросил он.
– Туда, куда нужно. Следом за мной.
– Надолго?
– Свалишь у Васильевой сено и вернешься.
– Это что же, грабеж? – снова наливаясь гневом, заорал Рухлин.
– По-твоему, может, и так. Обсуждать не будем. Давай побыстрее, время не ждет.
Подошли Симон и Минька.
– О чем беседа? – любезно спросил Симон и, выслушав брата, спокойно, но категорически заявил: – Никто никуда никакого сена не повезет. Вот так, лапушка!
– А я вам никакая не лапушка! – резко оборвала его Надя. И подумала, что, кажется, напрасно затеяла всю эту историю. Конечно, один воз сена не разорит Рухлиных. И не в этом дело. Не следовало одной браться. Надо было заявить в ревтройку. Вот что надо было сделать! Там разбирались бы, как положено. Пожалуй, еще не поздно повернуть дело, и Надя сказала:
– Если не повезете, за мной – в ревтройку! Все трое, скопом!
– Да ты что, Андреевна! – даже не пытаясь скрыть испуга, крикнул рыжий Рухлин.
– А то, что там получше моего во всем разберутся. Айдате! – приказала Надя и тронула коня.
Наперерез ей бросился Симон Рухлин и вцепился в узду.
– Нет, так не будет! И мы никуда не пойдем, и тебя не отпустим. Разговор здесь прикончим!
Надя рванула повод, конь взвился на дыбы, но Симон не выпустил из рук узды.
Словно опомнившись, что-то крикнул ему Минька.
– Слазь, паскуда! – свирепея, заорал Иван и, схватив Надю за ногу, потянул вниз.
– Папаша, бросьте! – крикнул Минька и кинулся к отцу. – С ума сошли! Бросьте!
Надя почувствовала, что ей не удержаться в седле, выхватила наган и пальнула вверх. Тут кто-то вывернул ей руку, она выронила наган и свалилась на землю. Чья-то рука зажала ей рот.
– Давай поднимайся, – ударив Надю носком сапога, сказал Симон. – Иди в избу. Там поговорим. Да смотри, не вздумай визжать – напрочь голову откручу!
– Я те сразу влеплю в дыхало, – добавил Иван, потрясая перед лицом Нади ее наганом.
– Папаша, дядя Симон, отпустите, себе ж хуже делаете! – снова заговорил Минька.
По его тону Надя поняла: разговор о ней был и раньше.
– Молчи, щенок! – прикрикнул рыжий Рухлин. – А то спущу штаны и насыплю горячих.
Договорить ему не удалось – в ворота с силой застучали чем-то массивным. Братья Рухлины без труда догадались – бьют прикладом винтовки.
Так вон оно в чем дело – приехала одна, а за ней следом другие... Кто скажет, кто знает – сколько? Одним словом, влопались!
Надю отпустили, старший Рухлин сунул ей в руки наган.
– Забирай свое хозяйство.
– Именем революции – открывай! – послышалось из-за ворот.
– Ну что, не я говорил вам? – в отчаянии прошептал Минька и побежал к воротам.
А там уже топтался Орлик, по голосу узнавший своего хозяина.
Глава десятая
Домой Надя вернулась поздним вечером. Печка стояла нетопленная, в комнате было холодно.
Не разуваясь, Надя опустилась на стул. Хорошо бы сейчас протопить и прислониться к горячей голландке, хотя немного отогреться, но она чувствовала себя настолько уставшей, что у нее не было сил шевельнуться. Кружилась голова, ныли руки и ноги. Все же, превозмогая усталость, она сходила за дровами, затопила печь и, когда поставила на плиту чайник с водой, вспомнила, что с утра ничего не ела.
Похлебав вчерашних щей и выпив кружку кипятка с сахарином, она наконец-то согрелась и почувствовала себя бодрее.
А в голове одна за другой бегут думы, думы...
Не так много дней прошло с тех пор, когда выгнали из города беляков, она же столько всего насмотрелась, столько узнала и пережила, что, кажется, начни рассказывать – ни конца, ни края рассказу не будет, и не считанные дни пролетели, а будто год миновал. Надю наполняло ощущение, будто не она сама куда-то идет или что-то делает, а подхватила ее какая-то сила, закружила, завертела и несет в неизвестном направлении. А Надя ей не сопротивляется – поддается, но все же по временам ее охватывает сомнение – туда ли она идет, то ли делает?
Петр Алексеевич Кобзин не раз хвалил ее, говорил хорошие слова. Но на душе у Нади спокойнее не становилось. А если вспомнить о прошедшем дне... Стыдно! Хотелось сделать как лучше, а обернулось все худым концом. День позора. И забыть его теперь невозможно.
Дважды побывала она в Форштадте у Ивана Рухлина, и оба раза там ей плюнули в лицо... Конечно, все, что ею было задумано, исполнилось: Минька отвез Васильевой не только воз сена, но и костюм, а Иван с Симоном отправлены в ревтройку; но все это не ее рук дело, а Маликова. Да и вообще не подоспей он вовремя, не сидеть бы сейчас Наде в своей горенке и не распивать чаи с сахарином...
В дверь постучали. Надя удивилась – в такой поздний час к ней никто не заходил.
– Входите!
Вошел Обручев.
– Извините, – остановившись на пороге, заговорил он. – Я не слишком поздно? – Вид у него был нерешительный, и казалось, он готов исчезнуть в любое мгновение.
– Да нет, ничего. Проходите, – пригласила Надя, тоже обращаясь к нему на «вы».
Она почувствовала, как запылали щеки, а глаза стали горячими и влажными.
Хотя ее растерянность и смущение было коротким, все же оно не ушло от цепкого взгляда Обручева.
– Я на несколько минут, если позволите.
– Пожалуйста. Садитесь.
Надя придвинула стул.
– Может, чаю выпьете? Правда, он без заварки, одно название, зато с сахарином.
– Стакан горячего выпью с удовольствием, но только без сахарина, – сказал Обручев, с трудом подавив судорогу отвращения.
– Не нравится?
– Не то слово...
– Не переносите? – помогла Надя. – Бывает. Вот и моя бабушка тоже. А я – ничего. Правду сказать, удовольствие не из приятных, какая-то приторная сладость, но все лучше, чем глотать пустой кипяток.
– Самообман, как и многое в жизни, – сказал Обручев, присаживаясь к столу, где дымился стакан кипятка.
Надя, как это было принято среди простых казаков, пила из блюдечка, Обручев же, обжигаясь, – маленькими глотками из стакана. Она знала, что в интеллигентных семьях не принято пить из блюдечек, и, поглядывая на студента, подумала, что по одному этому видно – он не из простой семьи.
– Где же вы добываете сахарин? – спросил Обручев.
– Подарок хозяина, Стрюкова, – усмехнувшись, сказала Надя. – Сахара у нас в городе уже давно нет. Говорят, и по всему краю днем с огнем не найти. Ну, а казаки наши, как известно, народ чаевный, жить не могут без чаю. У нас в шутку говорится, что, не попив чая, казак на коня не взберется. А какой, скажите, чай без сладости? Вот Иван Никитич и выручил людей, куда-то поехал и раздобыл несколько вагонов сахарина.
– Изрядно! – качнув головой, сказал Обручев.
По его тону Надя поняла, что он не представляет себе, какое это огромное количество.
– Изрядно, говорите? Да тут по всему нашему краю больше года люди пили его отраву.
– А разве сахарин ядовит? – удивился Обручев. – Это же, наверное, суррогат сахара, совсем безвредный.
– Сахарин сахарину рознь, – прервала его Надя. – Стрюковский сахарин изготовлен где-то на химическом заводе, кажется, в Англии. В нем ничего нет от сахара. Говорят, были случаи, люди травились им, опухали...
– Возможно, сахарин ни при чем, – не совсем уверенно возразил Обручев. – Недостаток продуктов...
– Голодуха, конечно, – согласилась Надя. – Да, пожалуй, это главное. На взрослых он не так уж пагубно действует, а вот на малышей... Даже умирают.
– А зачем же вы пьете этакую гадость? – уже не скрывая отвращения, спросил Обручев.
– Я кладу в стакан махонькую крошечку. – Надя достала из спичечного коробка бумажный пакетик наподобие тех, какие делают в аптеках для порошков, развернула его. На глянцевой бумаге лежали маленькие, прозрачные, будто изготовленные из стекла, кристаллики. Она взяла один и положила на ладонь. – Вот видите? Такой крошечки мне хватает чаевничать целую неделю, а иные клали на стакан. Вот и получалось...
Она заметила, что разговор о сахарине совершенно не интересует студента, но продолжала:
– Стрюков знал, что моя бабушка – чаевница престрашная: если она день-другой не попьет чаю, становится больной. Вот и преподнес ей...
Надя начинала злиться на себя, на свою болтовню, но остановиться не могла – мешало какое-то странное смущение.
Обручев же помалкивал.
Наде казалось, что он уже давно сидит здесь. И главное – молчит. «Ведь он же не просто так себе зашел, а хочет что-то сказать или спросить», – думала она.
– Однако бабушка не стала пить с сахарином. А когда я вернулась из Петрограда, – я вам уже рассказывала, как удрала оттуда, – мне отдала. Вот я и наслаждаюсь.
– Вы очень устали сегодня?
Слава богу, кажется, конец сахаринным разговорам...
– Немножко. А что?
– Заметно. Вы много работаете. С самого раннего утра до позднего вечера.
– Ну, какая моя работа! Люди жизни не жалеют...
К ней снова постучали, и не успела Надя ответить, дверь распахнулась, видно, рванула ее нетерпеливая рука.
В комнату вошел Семен. Окинув быстрым взглядом сидящих у стола, он сразу посуровел.
– Чаевничаете? Ну, ну, – сказал он таким тоном, будто уличил их в чем-то не совсем благовидном.
– Проходи, и на твою долю хватит, – пригласила Надя.
– А я не чаи гонять, – сухо ответил он. – У тебя нитки не найдется?
– Какой?
– Как «какой»? Обыкновенной. Которой шьют люди добрые. – И торопливо добавил: – Белой.
Надя молча достала плетеную тальниковую шкатулку, вынула оттуда катушку белых ниток. Собралась было протянуть ему, но спохватилась...
– Сень, а тебе зачем нитки? Может, я могу?
Он недовольно махнул рукой, словно отбиваясь от назойливой мухи.
– Да нет, я сам. – Взял катушку, пошел из комнаты, бросив на ходу: – Чаевничайте на здоровье. – И хлопнул дверью.
– Что с ним? – удивился Обручев.
– Вы о чем?
– Так грубо... Словно его обидели.
Надя пожала плечами.
Приход Семена немного охладил ее и помог собраться с мыслями.
– Вы хотели о чем-то спросить меня?
– Я? – удивился Обручев. – Ах да... Вернее, не спросить, а предложить свои услуги. Надя вопрошающе взглянула на него.
– Я, видите ли, все знаю о ваших приключениях.
– Каких приключениях?
– В Форштадте. Маликов рассказал... Он восторгается вашей смелостью. Должно быть, есть основание. Да, конечно, на такой поступок решится не каждая девушка. Вы, я думаю, читали о Жанне д'Арк?
– Очень сильное сравнение! Совсем не к месту, – рассмеявшись, возразила Надя.
– Не скажите. Героизм вне зависимости от причин, вызвавших его, во всех своих проявлениях был, есть и будет героизмом.
– Какой уж там героизм! – отмахнулась Надя. – Что же касается Жанны д'Арк, то, как мне известно, она в истории единственная.
Обручев пристально взглянул на нее.
– Совершенно верно. Жанна д'Арк – вершина, символ женского героизма и самопожертвования. Мне кажется, почти каждая женщина способна отдать жизнь во имя спасения близких, детей, любимого человека – словом, тех, кто сердцу дорог. Понимаете? Но здесь своеобразное начало, в нем преобладает личное.
– Почему? Я, например, под личным понимаю все то, что касается человека, – возразила Надя.
– В широком смысле – да. Я же имею в виду личное интимного порядка. В этом случае речь не может идти о героизме большого масштаба. У Орлеанской девы были другие побуждения – общего порядка. Вот потому-то я и заговорил о ней. Мне рассказал Маликов, что руководило вами, когда вы отправились в Форштадт. Нет, такой поступок может совершить не каждая женщина. Да, да.
– Вы меня совсем захвалили.
Обручев поднялся и сказал, глядя в сторону:
– Не надо больше одной рисковать, прошу вас!
Наде хотелось спросить, почему он просит ее об этом, но мелькнула догадка, и она вся сжалась от предчувствия... Нет, нет, пусть не говорит!
– Я вас очень прошу, – настойчиво повторил Обручев, – если когда-нибудь вам опять придется, ну, словом, возникнет необходимость действовать, как сегодня, – скажите мне, пожалуйста! Я буду вашим верным помощником... До свидания, спокойной ночи.
Так и не подняв глаз, Обручев пошел к двери, но вдруг круто повернулся. Выражение его лица было сейчас иным: губы плотно сжаты, брови насуплены, а из-под них суровый и гневный взгляд.
– Побольше бы таких налетов!
– А Семен меня отругал.
– Я другого мнения: не давать врагу покоя! Конечно, вы все же мягко поступили. Таких подлецов жалеть нечего. Напрасно вы отправили их в ревтройку. Враг есть враг.
Не дожидаясь ответа, Обручев вышел.
Надя осталась одна. Да, конечно, студент прав, с врагом нечего миндальничать. Об этом же говорил Семен, да и сам Кобзин. Говорили об одном, но по-разному.
Глава одиннадцатая
Обручев ушел от Нади, так и не спросив о главном, ради чего приходил: ему надо было узнать, что собирается предпринять ревком, чтоб обеспечить город продовольствием. Неожиданно возникший разговор об аресте Рухлиных взвинтил его и вывел из равновесия. Обручев еле сдержался, чтобы не наговорить Наде грубостей. А это провал. И из-за кого?
«Так вам и надо, рухлины, стрюковы – безвольные слюнтяи! – с ненавистью думал Обручев. – Короста, гнойники на теле России! Вы сами расплодили заразу...»
Подумать только – прислуга толкует об Орлеанской деве! Он завел речь о высоких материях в шутку, а она приняла все это всерьез. У нее, оказывается, есть свои взгляды... И, к сожалению, она не выглядела дурой. И вообще она не дура. С характером. И сила воли есть. В отличие от вспыльчивой, самолюбивой и истеричной Ирины Стрюковой эта сдержанна. Но не все и она скрыть может... Женщина остается женщиной.
Из комнаты доносилась чуть слышная игра на гармошке: гармонист, зная все тонкости своего нехитрого инструмента, старался играть тихо, на полутонах, чтобы никому не мешать.
На вошедшего Обручева Семен бросил безразличный взгляд и снова склонил голову над гармонью.
– Все музицируешь? – спросил Обручев, лишь бы что-нибудь сказать.
– Просто пиликаю.
– Спать пора.
– И то верно, – неохотно согласился Семен, аккуратно сложил гармонь, поставил на табуретку, рядом со своей койкой, накинул на плечи шинель.
– Ты куда? – полюбопытствовал Обручев.
– Покурить на крылец, морозцем подышать.
Но вместо того, чтобы выйти на крылечко, направился к Надиной комнате; постоял перед дверью, прислушался – легкие шаги, какое-то движение. Значит, не спит. Он постучал. Надя спросила – кто и, услышав его голос, открыла дверь.
– Ты, Сень?! – не скрывая удивления, спросила она.
– Привидение, – пошутил он. – Взойти можно?
– Ну конечно!
– Мне всего на два слова.
– Почему только на два? Да ты садись.
– Некогда рассиживаться, время позднее, – сказал Семен, но все же сел, достал кисет, торопливо свернул цигарку, высек огня, прикурил.
– Значит, братанами Рухлиными в ревтройке завтра будут заниматься? – спросила Надя, хотя об этом они уже говорили.
– Там найдут время, – неохотно ответил он. – Ты мне вот что поясни: за каким лешим он приходил к тебе?
– Кто? – Получилось так, будто она пытается хитрить с Семеном. А ей, наоборот, надо откровенно поговорить с ним, и не об этом ли сейчас она думала? – Шестаков, что ли?
– Ну, а кто же еще!
– Просто так. Даже не знаю...
– Просто... Пускай будет просто. – Семен жадно затянулся. – Надя, ты мне ответишь на один вопрос? Только так, чтобы душевно и без всяких недомолвок – одну чистую правду. Можешь? Я ни сердиться, ни обижаться не буду. Даю слово.
Надя знала, о чем спросит Семен. Ждала этого разговора, казалось, была к нему готова, а сейчас оробела.
– Давай, спрашивай... Только напрасно ты ставишь условия, я от тебя и так никогда ничего не скрывала. Да кинь ты, ради бога, свой дымарь!
– Ты со студентом всерьез?
– Не знаю... – не сразу ответила Надя.
От пытливого взгляда Семена не скрылось, что Наде стало не по себе.
– Не знаешь? А кто еще знать может?.. Загадала загадку, башка треснет!
– Поверь, Сень, я честно... Так оно и есть. Если хочешь знать, Сергей даже маленького намека не сделал. Даю тебе слово! Он и вправду хороший человек.
– Я и не говорю, что плохой! Тебе, конечно, он – первый сорт, а у меня будто кол в горле.
Семен яростно стукнул себя кулаком в грудь.
– Что я могу тебе ответить на эти слова? Только одно: сердишься напрасно.
– Может, и так. Я, видать, совсем дурак дураком стал, и голова ровным счетом ничего не варит. Эх, Надька, да разве ты сама не знаешь?.. Вот сказал, а больше и сказать нечего... Была Надька, и нет... И все из-за кого? Ну?