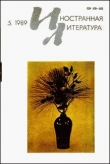Текст книги "Крылья беркута"
Автор книги: Владимир Пистоленко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая
Положение в Южноуральске становилось все напряженнее: те небольшие продовольственные запасы, которые были созданы в результате изъятия излишков у зажиточной части населения, подходили к концу. Во всем городе работали всего лишь две булочные, одна на Губернской улице в центре города, вторая – в деповском поселке, но и они торговали хлебом с перебоями. В одни руки отпускали не более двух фунтов. У булочных выстраивались такие очереди, что иногда доводилось ждать по нескольку суток. В очередь многие приходили с детьми. Давно не было ни спичек, ни сахара, ни керосина; исчезла соль. Зато наживались спекулянты, бойко шла торговля из-под полы.
Ночами город погружался в темноту, и если раньше всего лишь несколько десятков фонарей горели в центре, то теперь с наступлением сумерек тьма окутывала и Губернскую улицу. Бывало, в мирное время горожане ставили на подоконник одного из окон, выходящих на улицу, небольшую лампешку или зажженный фонарь, и улица казалась живой, бодрствующей; теперь же нигде таких добрых огоньков не было, потому что окна наглухо закрывались ставнями, да и жечь стало нечего – в домах потрескивала лучина или мигали крохотные огоньки лампад да коптилок. Заснеженные улицы рано пустели и поздно просыпались.
В городе все чаще стали поговаривать о ночных грабежах, зверских убийствах и насилиях. Старательные шептуны передавали из уст в уста, что все это дело рук красных, что и хлеба-то нет из-за них! Был хлеб, так вывезли в Москву и в голодающий Питер, отослали во вражескую Германию, за то, что там выпустили из тюрьмы большевика Ленина. Большой выкуп взяли германцы за Ленина! Придется теперь выплачивать и не год и не два...
По ночным улицам города метались конные красногвардейские дозоры. Если вначале, после введения чрезвычайного положения, бандитизм и грабежи поубавились, и можно было думать, что беспорядкам конец, то вскоре ночные происшествия опять участились, вызвав новую волну кривотолков, тревожную настороженность.
Южноуральск остался без топлива.
Еще прошлой зимой по первопутку сюда прибывали башкирские обозы с дровами, сухими и не особенно дорогими, купить их мог почти каждый; нынешней зимой на подступах к городу рыскали бело-казачьи разъезды и не пропускали ни одной подводы. Голод и холод в Южноуральске. И тиф! Десятки случаев со смертельным исходом. Смерть там, тут... Участились налеты белоказаков на пригороды. Южноуральск очутился в кольце. Будь оружия вдосталь, можно бы провести глубокий рейд по белоказачьим станицам и хуторам и заодно реквизировать у кулаков хлеб для осажденного города. Но оружия нет, каждый патрон на строгом учете, стрелять разрешается только в крайнем случае, когда нет выхода.
Ревком и красногвардейский штаб направили в станицы четыре продовольственных отряда. Два из них не успели отъехать и десяти верст, как встретились с белоказачьим разъездом и, отбиваясь от него, ни с чем вернулись в Южноуральск. Третьим продотрядом командовал Обручев. Он сам напросился. Когда ему предложили быть за старшего, не стал отказываться. Его отряд побывал в станице Каменно-Озерной и пригнал оттуда более двадцати подвод с, зерном. О четвертом отряде не было никаких слухов, но по всем расчетам он должен был уже вернуться. Пройдет еще день, и надо будет посылать разведку. Отряд не иголка, чтобы бесследно исчезнуть...
«Нет, такое положение долго длиться не может. Иначе наступит катастрофа. А ее необходимо избежать. Только так!..»
Обо всем этом сосредоточенно думал комиссар Кобзин, шагая по кабинету. Он ждал телефонного звонка: вчера во время митинга в Народном доме, где Кобзин выступал с докладом о текущем моменте и очередных задачах революционного народа, ему подали записку, что по штабному телефону его вызывали из Смольного и снова вызовут. После митинга Петр Алексеевич бросился к себе, и вот уже почти сутки, как он безвыходно дежурит у аппарата. Из головы не уходит вопрос: кто бы мог звонить ему из Питера, из самого Смольного?! Может, комиссар Алибаев? Сразу же после захвата Южноуральска ревком и партийная организация послали Алибаева во главе делегации в красный Питер, к Ленину, за советом и помощью. Да, пожалуй, Алибаев. Но пробиться из Питера по проводу – дело нелегкое. Конечно, комиссар Алибаев – человек настойчивый и решительный, но эти его качества имеют существенное значение главным образом в том случае, когда Алибаеву приходится столкнуться с противником. Лицом к лицу! Когда же перед глазами нет противника, а кто-то где-то на огромном расстоянии половины России не считает для себя обязательным подсоединять неизвестного Алибаева к прямому проводу, то будь ты хоть трижды решительным и напористым, преграду подобного рода преодолеть невозможно. Это хорошо было известно Кобзину, и потому-то он все больше склонялся к мысли, что вызывал его не Алибаев. Тогда кто же? Кто?..
Кобзин недавно ездил в Петроград и был в Смольном. В перерыве между двумя заседаниями его на короткое время принял Ленин. Владимир Ильич поручил Дзержинскому выдать Кобзину мандат о назначении его Чрезвычайным комиссаром рабоче-крестьянского правительства по Средней Азии и Восточной Сибири. Ленин объяснил Кобзину, какие огромные права он получает и какое доверие оказало ему Советское правительство, чего от него ждут и какую роль может сыграть тот необъятный край, куда он отправляется Чрезвычайным комиссаром. Прощаясь, Владимир Ильич крепко пожал Кобзину руку и сказал, что, возможно, вскоре будет звонить и вообще лично интересоваться ходом дел в этом краю, сугубо важном во всех отношениях.
Пока еще звонка из Питера не было. В этом нет ничего удивительного: Россия настолько велика, что даже мысленным взором трудно охватить ее просторы, а если учесть, что вся она закипела и бурлит, одни события сменяются другими и отовсюду нити тянутся к Смольному, то и вовсе ничего нет удивительного, что у Ленина не хватает времени: ведь он один, а людей, которым он нужен, нужен сейчас, – таких людей десятки и сотни тысяч...
Вдруг зазвонил телефон, залился требовательно и настойчиво.
Кобзин схватил трубку. Женский голос сказал, что Смольный просит к аппарату комиссара Кобзина.
– Я у телефона...
В трубке затрещало, послышались какие-то неясные, отдаленные шумы, затем все эти многоголосые звуки, исчезли, и в тишине раздался далекий мужской голос.
– Я Смольный. Кто у аппарата?
– У телефона Кобзин.
– Чрезвычайный комиссар товарищ Кобзин?
– Да, я, – ответил Петр Алексеевич, стараясь говорить спокойно, но в то же время чувствуя, как волнение все более охватывает его.
– С вами будет говорить товарищ Ленин.
И тут же послышался уже знакомый Кобзину голос:
– Здравствуйте, Петр Алексеевич. Пытался вам звонить, но вы находитесь в таком далеком тридесятом государстве, что достичь вас почти невозможно. Я, конечно, шучу. Вы меня хорошо слышите? Отчетливо? Вот и прекрасно. У меня был ваш делегат Алибаев. Мне кажется, он смелый, воинственный, а главное – верный человек... Так? Очень хорошо. Что, если его назначить к вам в помощники? Скажем, назначим его комиссаром Степного края?! Не возражаете? Ваш край очень своеобразный, и национальная политика в нем должна быть весьма гибкой и чуткой. Вот он, мне кажется, и может быть вашим помощником по национальному вопросу. Как вы думаете?
Кобзин ответил, что Алибаев – самая подходящая кандидатура, что в киргизских степях его хорошо знают и он пользуется среди киргизской бедноты большим уважением.
– Алибаев утверждает, что у вас очень напряженное положение. Держитесь? – спросил Ленин.
Кобзин хотел было подробно рассказать обо всем, о чем сейчас думал и что готовился доложить, если доведется говорить с кем-либо из членов правительства, и, конечно же, Ленину! Но он ничего этого не сказал и произнес всего лишь одно слово:
– Держимся.
– Трудно? – спросил Ленин.
– Очень, Владимир Ильич.
Возможно, Кобзину послышалось, но ему показалось, что Ленин вздохнул; не сильно, а как это бывает, когда человек старается сдержать вздох, а он все-таки прорывается.
– Выстоите?
– Выстоим, товарищ Ленин.
– Спасибо, Петр Алексеевич. Надо выстоять. Необходимо! Я могу вам сказать, что везде нам сейчас нелегко. Но, несмотря ни на что, революция победит! Не может не победить. Понимаете? Не может.
В этих простых словах была такая сила веры и убеждения, что Кобзин решительно ответил:
– Понимаю!
Он произнес это слово так, как приносил бы присягу или давал клятву...
А Ленин уже расспрашивал, как ведут себя эсеры и меньшевики. Их надо громить, срывать с них маски, разоблачать перед народом и никакой с ними «консолидации»! Их линия – на провал революции, на капитуляцию перед буржуазией. Владимир Ильич поинтересовался, много ли в отряде молодых, и посоветовал создавать молодежные коммунистические отряды. Затем спросил, есть ли вопросы у Кобзина.
Кобзин взглянул на часы – разговор продолжался уже более двадцати минут. Он заторопился.
Владимир Ильич был немногословен, но после каждого его ответа Кобзин чувствовал словно бы прилив новых сил и уверенности в себе, в своих поступках. А Ленин, отвечая Чрезвычайному комиссару, наводил его на новые вопросы. В конце беседы он спросил, как в Южноуральске и окружности обстоят дела с продовольствием, и, услышав, что в городе острая нехватка продуктов питания, поинтересовался, как Кобзин считает: действительно ли нет их или же контрреволюция делает ставку на голод? Если это так, то хлеб необходимо найти и отобрать. Именем революции!
Глава вторая
Надя вышла на улицу, когда было еще темно.
Комиссар поручил ей заведовать детской столовой в деповском поселке, и она выходила из дому задолго до рассвета.
Над городом висела морозная темь. Где-то у вокзала тонкоголосо прокричал паровоз. Обычно оттуда не доходят гудки, а вот сейчас, в мороз, слышно даже медленное и сердитое пофыркивание паровоза, настораживающий удар станционного колокола, свисток кондуктора, въедливый скрежет пробуксовавших паровозных колес, затем все учащающееся их постукивание на стыках рельсов.
Надя передернула от холода плечами, поглубже засунула руки в рукава шубейки, немного постояла у ворот, вслушиваясь в шумы вокзала. Наверное, там никогда не бывает тишины: там всегда люди, всегда гомон и движение. А вот на улице – никого. Только у ворот штаба, постукивая нога об ногу, топчется постовой красногвардеец. Хотя снегом выбелен весь город, а небо усеяно несчетными звездами, ночь темна. Перед рассветом всегда сгущается тьма, зимой же особенно. И само небо кажется черным. ...Через дорогу, в окне церковной сторожки, чуть заметен слабый огонек, но потому, что других нет, он бросается в глаза и привлекает к себе. Это уже бодрствует дед Трофим. Выспался старик.
Надя уже несколько дней собиралась навестить дедушку Трофима, и всякий раз ей что-нибудь мешало. Сегодня она тоже намеревалась выкроить хотя несколько минут и заглянуть к нему вечером, по пути домой. Старику-то все равно, когда гости пожалуют, он весь день дома, а Наде днем не выбраться. Это точно. Всегда набирается столько дел – дохнуть некогда.
Надя остановилась. А почему бы ей не завернуть в сторожку сейчас? Она перебежала дорогу, поднялась на каменное крыльцо, припорошенное снегом, и постучала в дверь.
Дед Трофим обрадовался ее приходу, засуетился. Ковыляя на деревянной ноге, он кинулся к самодельному стулу, чтобы предложить его ранней гостье. Надя опередила его, обняла старика за плечи.
– Не бегите, дедуня, не велика барыня, чтоб сидеть в вашем кресле. Вот тут, возле печурки, потеплее, поуютнее.
– Ну, как знаешь. Дорогому гостю – первое место. Куда собралась в такую рань?
– Разные дела, – сказала Надя.
– Слыхал, вроде как на службу у красногвардейцев поступила?
– Поступила, дедуня.
– Ну и ладно, коли так. Ничего?
– Ничего. Терпеть можно, – шутливо добавила она.
– Вот и славно. А жалованье как?
Надя весело взглянула на него.
– Жалованья нет, – как о чем-то совершенно не имеющем для нее значения, сказала она и, поймав недоверчиво-удивленный взгляд старика, не представлявшего, как это можно работать и не получать за свой труд никакого вознаграждения, добавила: – Я, дедуня, в красный отряд записалась. Сама. Добровольно. Там все бесплатно служат. И комиссар Кобзин, и командир Аистов, и Семен Маликов – ну, словом, все.
– Так, так, – неопределенно поддакнул старик и тут же спросил: – А как же насчет порциона? Есть чего-нибудь надо! И опять же, скажем, амуниция и прочее всякое продовольствие?
– Насчет амуниции – никак. Кто в чем. Ну, а если совсем человек обносился – выдают обмундирование. Солдатское, – пояснила Надя. – И питание тоже.
– Выходит, жить можно?
– Все живут, никто не жалуется. Да и как жаловаться, если люди пошли добровольно?
– Оно так, оно конечно, – снова согласился старик. – Ну, а ты там чем заправляешь? Дела тебе какие препоручены?
Надя коротко рассказала. Дед Трофим отнесся к ее рассказу одобрительно.
– Это, я тебе так скажу, хорошо, что об голодающих людях забота пошла. Особливо об детях. Слух такой есть – подмирают детишки. Вот какое горе. Твоя путь правильная. Так я себе разумею. И ты, гляди, не теряйся. Пущай кто хочет плетет свои сплетки, плевать на таких и никакого внимания.
– А какие сплетки? – заинтересовалась Надя.
– Ну, так мало ли какие? – нехотя ответил старик и, насупив брови, отвернулся, решив не вдаваться в подробности. Но уж до того сильно было у него желание хотя кое-что поведать гостье, что он не смог удержаться. Достав из самодельного ларца кисет, дед Трофим набил насквозь продымленную трубку, высек кресалом огонь и, выпустив облако едучего дыма, заговорил: – Иван Никитич, к примеру, сказывал, будто тебе такая полномочия от комиссара дана, дескать, чужое имущество можешь потрошить. Вота как!
– Значит, был Стрюков?
– Заходил... Прямо тебе скажу, Надежда, я диву дался! Ну как же! Человек в самое церковь, можно сказать, по великим праздникам и то редко заглядывал, хотя и построил ее, а тут в сторожку ввалился. Видали такое? «Здорово, – говорит, – Трофим Кондратьевич», – меня, значит, по имени-отчеству навеличивает. Вон куда потянуло! Да! Я так считал, что он и фамилие мое позабыл, а он-то по имени-отчеству!
– Ну и что он? – спросила Надя.
– Вроде бы ничего. Только насупротив тебя, скажу я по всей совести, вроде бы как настроения тяжелая. Ну и то надо подметить – сдерживается! Только не скроешь, слепому и то видно – в нутре кипит. Аж вроде шипение от него исходит.
– А еще что он говорил?
Дед Трофим опять помолчал, подумал, приналег на трубку и, потеребив свою клочковатую бороденку, ответил:
– Молол чегой-то, и не упомнить. «Оба, слышь ты, мы с тобой, Трофим Кондратьевич, бездомные стали». Видано таковое? И голос у него откель-то взялся жалостный, того и гляди слезы брызнут. Ну да шут с ним, у него золотая слезинка не выкатится. Сказывал, будто ты все его анбары и сусеки повычистила и солдатне стравила, ну, значит, красным гвардейцам. Правда?
– Не все. И ему оставили, хватит, пока жив будет. Только не я, а ревком. Понимаешь? Вот. А я зашла, дедуня, узнать, как ты живешь. Может, надо чего? Давно собираюсь, да все недосуг.
– За такую память обо мне спасибочко. Что же касаемо помощи, так я скажу, что покамест обхожусь.
– Может, к столовке приписать? – спросила Надя.
– Оно, хотя сказать, и лестно, ну, а принять такого не могу. Корми, кому безвыходность пришла. А я месячишка два проскриплю. – На лице деда вдруг появилась улыбка, и он, весь подавшись к Наде, заботливо спросил: – Сегодня ела? Нету? Ну и лады! Хочешь, кашкой попотчую? Пшенной! Не каша, а благодать господня.
Надя поблагодарила и поинтересовалась, где же это дедушка раздобыл пшена. В лавках его давно уже нет.
– Выменял! – таинственно сообщил старик. – Цельных два пуда! Пшенцо – одно зернышко к другому.
– Много отдали?
– Ну, как тебе... Кому сказать, ежели у человека в голове не все понятия имеются, может такую мыслю выразить, что мне чистое счастье привалило. Ну, а я, если по совести, маленько сожалею... Что я полный егорьевский кавалер, ты знаешь. Так вот: у меня, стало быть, имелись четыре Егория высоких степеней, что кавалеру положено. Так я отдал тому человеку свои награды и к ним еще два червончика, золотые – у меня сыздавна сохранялись. Берег я их не то чтоб на разведение богатства – богатство, я так тебе скажу, не каждому в руки дается, – берег я свои червончики на тот возможный случай, ежели в дальнюю дорогу придется выступать, словом сказать, – в последний путь. Чтоб никто не корил: мол, жил человек, а даже на домовину себе не сгоношил.
– Рано вам, дедуня, об этом думать, – прервала его Надя.
– Нет, не скажи!.. Ну, да об том не стоит. Лишнее болтать – беса тешить. Что жить хочется и старому человеку – верно, а все ж отворачиваться от того, что тебе, значит, наверняка предположено, – нельзя. Просто не к чему!.. Да, так я насчет пшенца. Каша на вкус хороша получается, а жаль все ж таки из души не проходит. Червончики – шут с ними! Крестов своих жалею. Все ж вроде бы заслуга перед отечеством, так я говорю?
– Наверно, зря их не давали, – не совсем уверенно ответила Надя.
– А конечно, не давали! – горячо подхватил старик. – За здорово живешь крестов не цепляют. Они кровушкой нашей облитые. Слух такой пробежал, будто красные их не жалуют, а зря. Ты небось сохраняешь батино геройство?
– Берегу и кресты и медали.
– И береги. Награды за боевые дела – казачьему роду почет. Как говорил в проповеди наш преосвященный владыка, властя приходят и уходят, а геройство казачье навеки нескончаемо. Ну да бог с ним, с архиереем, мы и сами понятие имеем. Знаем, почем савкин деготь.
Понимая, что засиделась дольше того, на что могла рассчитывать, и зная разговорчивость деда Трофима, Надя решительно засобиралась и стала прощаться. Но старик наотрез отказался выпустить ее, если она не отведает его хваленой каши. Ну, хотя бы одну малость! В противном случае грозился обидеться «навечно». Пришлось Наде присесть к столу и взяться за деревянную ложку, выстроганную стариком. Каша и вправду оказалась вкусной – рассыпчатой, необычно ароматной.
– Ну, как? – уверенный в своем поварском мастерстве, спросил дедушка Трофим.
– Никогда такой не ела, – похвалила Надя.
– Значит, поверила? То-то и оно! – сказал старик, довольно прищелкнув языком, и не то в шутку, не то всерьез добавил: – Подскажи там своим комиссарам, может, возьмут куда ни то в кашевары. Теперь, вишь ты, отставку мне дали, и я могу...
– Какую отставку? – удивилась Надя.
– Со сторожей. Да-а! Начисто! Стрюков Иван Никитич. Жить до весны дозволил, а что касаемо моих обязанностев – нету у меня их. Ослобонил. Платить, говорит, нечем. А красные сами, мол, от голоду пухнут, не то чтоб за звонарство жалованье выдавать.
– С чего это он так? – спросила Надя, чувствуя, как в ней закипает на Стрюкова злая обида за старика.
– А я тебе об чем? И я ему так ответствовал: ты, говорю, Иван Никитич, об жалованье моем не пекись. Как-нибудь проскриплю. Мне не больно много надобно. Говорит, твое дело. И вижу я, не совсем по душе пришлись ему мои слова. Ему больше приятности, ежели умолкнет колокол и время потеряется. Знаю, к чему он клонил. Так-то. Вот я и ударился в торговлю. Пшено выменивать... А часы отбивать ночами буду.
– Тоже без жалованья? – улыбнулась Надя.
– Людей веселить маленько надобно. Не отбивать время – вроде жизня примерла. Верно я говорю?
– И отбивайте, – поддержала его Надя. – А Стрюкова больше не слушайте, никакой он теперь не хозяин. Сейчас все народное.
– Да тут, как на дело взглянуть, церковь-то все ж таки он выстроил, выходит, до всех ее делов ему касаемо.
Надя нахмурилась.
– Много он настроил! Люди за него мозоли набивали.
– Это точно, – добродушно согласился старик. – Люди, скажу тебе, – сила, они все могут.
Уже выйдя на улицу, Надя спохватилась: у кого же выменял пшено дед? Она поспешно вернулась и спросила Трофима об этом. Старик недовольно взглянул на нее и, немного помолчав, спросил:
– А тебе для чего знать?
– Выходит, тот, кто купил ваши кресты да червонцы, хлебные излишки имеет? Так?
– Должно быть, что так. Не последний же кусок отдал. Только назвать того человека не могу.
– Но ведь он же подлец! – возмутилась Надя.
– Ну, подлец. Само собой. Разве я против? Все ж выручил из беды? То-то и оно! И ты лучше не допытывайся – не скажу. И чего ты ко мне с энтим самым делом привязалась?! – вдруг вспыхнув, налетел на нее дед. – Я ей по-свойски, из уважительности, а она – на тебе, в сурьез ударилась. Будто я первый и последний! По городу такая меньба идет, только гуд стоит. На толчок бы пошла да поглядела! А ваши товарищи комиссары словно слепые кутенки, прости господи. Разуйте свои буркалы да и приглядитесь, что оно и к чему. А то ко мне цепляются... Не скажу ни слова, хоть ты мне что хошь!
Надя еле успокоила разбушевавшегося старика. И тут она вспомнила об одном случайном разговоре с ним. Дедушка Трофим, кажется, что-то намекнул тогда насчет стрюковского хлеба? Да, точно! Если спросить? Не скажет. А почему не сказать?
В памяти всплыли круглосуточные очереди у булочных, вереницы детей в столовке; несмотря на небывалый мороз и леденящий ветер, они приходят, чтобы съесть всего лишь несколько ложек затирухи; лица у детей бледные, глаза голодные, жадно глядящие на поварих, просящие... А кормить их дальше уже почти нечем. Если бы не обоз, доставленный студентом Шестаковым, уже вчера дети не получили бы своего скудного пайка.
– Дедуня, – ласково обратилась к старику Надя. – Вы помните, незадолго перед тем, как бежать атаману, я заходила к вам. Помните?
– Ну, помню, – еще не совсем успокоившись, ответил старик. – А дальше чего?
– Если вы по-прежнему будете сердиться на меня, и спрашивать не стану. А дело такое – без вас, дедуня, никак не сладить!
– Ты меня не улещивай, – буркнул он.
– Зачем же? Я правду говорю.
– Правду! Ну, ежели правду, то давай. Выкладывай, какая там нужда... – вдруг подобрев, сказал старик. – Вишь ты, чего придумала: «Без вас никак не сладить!» – Он произнес эти слова с кажущимся недовольством, хотя на самом деле ему было приятно слышать, что есть какие-то важные дела, где без него не обойтись.
– Вы, помнится, говорили тогда, что хлебные купцы повывезли хлеб из города...
– Это всем известно, весь город знает, – прервал он Надю, не дослушав до конца.
– А Стрюков? Тоже вывез?
– Люди разное несут про Стрюкова, – нехотя сказал он и поспешно добавил: – Возводить напраслину на человека не хочу. И не буду. Если сказать по чести-совести, не мое там дело. Вот такой у меня тебе ответ.
– Ну, что ж, спасибо и на этом. – Надя не сдержала вздоха. – Детишки перемрут... – горестно сказала она и пошла к двери.
– Погоди-ка! – окликнул ее старик. – Человек я, понимаешь, уже немолодой, время пришло подумать и об дальней дороге. Так что не хочу брать на душу нового греха – их и без того начни считать – со счету собьешься.
– Вот поглядели бы вы на тех голодных детей, что в столовую приходят... совсем же махонькие, и личики как у стариков. – Надя безнадежно махнула рукой. – Глядишь на них – и жить противно становится. Кажется, на любой бы грех пошла. Да и какой может быть грех, если для голодных детей у кого-то лишний кусок отобрать?!
– Может, думаешь, дед Трофим понятиев лишился? Все вижу, словно через стеклышко. Так-то! А тебе, Надя, вот что скажу: есть в городе хлеб. Идут такие разговоры. И будто Стрюков никуда не вывозил ни зернышка. В городе сохраняет. Только знать бы, где тот хлебушек. Искать надобно. Будете искать, может, и найдете, а ежели мне набрехали, стало быть, и я сбрехнул. Не принимай в обиду. А все же скажу: народ зря болтать не станет. Ну беги, а я пойду людям возвещать утро. Шесть часов.
Надя даже за голову схватилась – шесть часов! В семь она должна быть в детской столовой деповского поселка. Обязательно! Но за час по сугробам да заснеженным улицам туда не добраться. Даже думать нечего... Надо выпросить коня.
Глава третья
Первым, кого встретила Надя во дворе штаба, был Обручев. Увидев ее, он кинулся навстречу.
– Доброе утро, Надя! – приветливо улыбаясь, студент протянул руку. – Откуда так рано?
– Пока еще ниоткуда.
Она сказала, что немного, задержалась и вот бежит к Петру Алексеевичу, чтоб выпросить лошадь. Иначе не доберется к положенному времени, а быть ей там необходимо, надо выдать поварихам муку.
– А зачем беспокоить комиссара? – удивился Обручев. – Мы и сами можем решить этот несложный вопрос. Одну минутку! – и убежал в дом.
«Внимательный человек этот Сергей Шестаков, – думала Надя. – И умный, образованный, в обращении с товарищами простой, каждому готов чем-нибудь помочь. И все его уважают. Только один Семен Маликов немного косится на Сергея. Он, конечно, сдерживается, не показывает вида, но это не всегда ему удается. Эх, ты, Семен, Семен Маликов! Ну, разве можно так? И на меня иногда недобро поглядывает, когда увидит, что я разговариваю с Сергеем. Может, ревнует? А ревновать-то и нечего, – Сергей ни одного, даже самого маленького, намека не сделал, будто как-то по-особому относится ко мне». Нет, что Шестаков охотно с ней беседует, Надя замечает; не может не обратить внимания и на то, что, хотя в отряде и отменено рукопожатие, Сергей всегда протягивает ей руку, и это получается у него как-то мягко, дружески... Однажды Надя шутя сказала ему насчет рукопожатий, он улыбнулся, извинился, а при следующей встрече снова подал руку.
– Все в порядке! – весело крикнул, появляясь на крыльце, Обручев. – Ты садись на коня Семена, а я на своего. Провожу до места и назад приведу его Орлика. Побегу седлать! Нет, нет, я сам оседлаю. И ты, пожалуйста, не беспокойся.
Он помчался под навес, где стояли лошади.
Надя впервые обратила внимание, что он говорит ей «ты». Почему? Кажется, при первых встречах они были на «вы»? Впрочем, что же здесь удивительного? В отряде все на «ты»! Так даже лучше – проще. Будто совсем свои.
– Здорово, Надя! – раздался рядом голос Семена. – Что так крепко задумалась?
– Я?.. Нет. Просто стою.
– Богато жить стала, посыльными обзавелась.
– Какими посыльными? – не поняла Надя.
– Для выполнения особых своих поручений. Так и не понимаешь? Я насчет Сергея намекаю.
– Ну, какой же он посыльный?! И придумаешь!
– Будто сама не могла сказать: так, мол, и так, Семен, дай свою конягу. Через посыльного действуешь. А меня вроде как и совсем уже нет на белом свете.
Да, получилось неловко.
– Сеня, а я никого и не посылала. Сергей сам предложил...
– Тебе, конечно, виднее, – стараясь скрыть обиду, как можно спокойнее сказал Семен и стал смотреть в сторону.
Только сейчас Надя заметила, что он без шинели и без шапки. В одной гимнастерке. И ворот расстегнут. Ветер играет его курчавым чубом... Значит, Семен выскочил вслед за Сергеем, похоже, торопился – даже не успел накинуть на плечи шинель да схватить шапку. Наде захотелось сказать Семену что-нибудь хорошее, ласковое, а с языка сорвалось:
– Ох, и дурной же ты!
– Это почему же?
– Не знаю. Тебе виднее, – грустно улыбнулась Надя и тут же, посерьезнев, сказала: – Оделся бы, морозина вон какой! Иди, иди, тебе говорят. Простудишься, что будем делать? И, пожалуйста, не придумывай того, чего нет.
– Разведчику привыкать надо и к жаре и к морозам, – посветлев лицом, сказал Семен. – Будь здорова, невеста! – уже совсем весело крикнул он, поднимаясь на крыльцо, но, увидев Обручева с двумя лошадьми в поводу, вернулся, подбежал к буланому, в яблоках, коню, быстрым движением проверил подпруги, ласково потрепал его по шее, на что конь откликнулся тихим прерывистым ржанием. Взяв у Обручева повод, Семен подвел буланого к Наде. – Садись! Если надо – до вечера пускай у тебя будет. Мне днем не понадобится.
Семену хотелось, чтобы Надя оставила коня на весь день, – в таком случае Обручеву не пришлось бы сопровождать ее, но она не догадалась, к чему ведет Семен, и сказала, что днем конь ей не будет нужен, да и кормить его там нечем; зато Обручев сразу сообразил, в чем тут дело, и, хлопнув Семена по плечу, сказал:
– Может, ты поедешь? А я своего Буяна Наде отдам.
Семен недоумевающе пожал плечами:
– А дневалить кто за меня будет? Тетя?
– Верно. А я совсем позабыл, – с сожалением сказал Обручев. – В таком случае придется ехать мне. Но ты за коня не беспокойся, доставлю в целости и сохранности.
– Лады! – подобревшим голосом ответил Семен.
Хотя предложение Обручева ничего не изменило, но в какой-то степени успокоило, умиротворило закипевшую от ревности душу Маликова. Если судить по словам студента, было похоже, что ему не очень-то хочется без явной необходимости скакать по морозищу, и если, он и согласился сейчас на это, то исключительно чтобы помочь человеку, сделать для него доброе дело. Семен знал о том, что студент охотно помогает товарищам.
– Айдате, двигайтесь! – крикнул он и, подпрыгивая от холода, убежал в дом.
Чуть приподняв юбку, мешавшую поставить ногу в стремя, Надя привычным движением, усвоенным ею еще с детства, взметнулась вверх и легко опустилась в седло. Буланый конек затанцевал под ней и немного подался назад. Надя подобрала повод и слегка похлопала коня по гривастой шее.
– Ну, ну, Орлик, успокойся.
– Можно ехать? – спросил Обручев и намотал повод на руку. Его конь вдруг заплясал на месте и рванулся к воротам. Обручев не стал останавливать его, а чуть коснувшись рукой передней луки седла, ловко взлетел, слово взвился вверх, и очутился в седле. Надя одобрительно улыбнулась, – молодец Сергей, студент-студент, а в обращении с конем – истинный казак. И конь у него не какая-то завалящая кобыленка, а рослый жеребчик вороной масти, с белой звездочкой на лбу и такой же отметинкой на широкой, сильной груди. Богатых статей конь! Такому коню каждый казак настоящую цену знает, с таким не всякому дано справиться, тут нужны и смелость, и ловкость, и твердость руки, но, главное, конечно, смелость. Надя знала, что своего Буяна Сергей добыл во время схватки с белоказачьим разъездом. В бою достался студенту офицерский конь.
– Хороший у вас конь, – похвалила Надя.
– Да. Конь ничего. Нрав у него строгий. Трудно справиться.
– От человека зависит. Есть люди – от кошек бегают, – усмехнувшись, сказала Надя.
– Да, конечно. А ты бы справилась?
– Не знаю, – откровенно призналась Надя. – У отца когда-то был тоже горячий конь. Ездила. Страшного ничего нет.
– Не желаешь попробовать? – предложил с готовностью Обручев.
Надя с удовольствием пересела бы на резвого Буяна, но времени было в обрез.
– Как-нибудь в другой раз.
Надя похвалила Обручева за умение обращаться с конем, будто он всю жизнь был при лошадях.