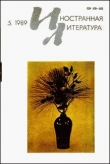Текст книги "Крылья беркута"
Автор книги: Владимир Пистоленко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая
Калитка была заперта. Надя осторожно постучала. Василий впустил ее и вполголоса стал выговаривать:
– Или надумала под монастырь меня подвести? Не велел же Иван Никитич вечерами за ворота выходить, а она – вон чего: гуляет как тебе госпожа. Отойти не успел – пронырнула! Или же мне подыхать тут, не сходя с места? Беги, а то узнает, он тебе насыплет перцу на хвост.
– Давно пришел? – не обращая внимания на воркотню Василия, спросила Надя.
– Не больно. Спрашивал, все ли, мол, дома, а я говорю – все. Ты уж пробирайся как-нибудь потихоньку. Не дай бог встренет! Я тогда на тебя свалю, скажу: знать ничего не знал...
Третьего дня Иван Никитич наказал не зажигать огня без надобности, и сейчас во всем огромном стрюковском доме стоял мрак.
Осторожно ступая, чтобы не скрипнуть половицей, Надя вошла в коридор. Отсюда надо попасть в прихожую, а уж там и в свою комнату. Темно. Тихо. Бабушка, должно быть, заждалась, беспокоится... Коридор не длинный, но впотьмах идти трудновато, как бы не споткнуться обо что-нибудь, не наделать шума.
Дверь неслышно отворилась, и Надя – в прихожей. Осталось несколько шагов. Нет, она не боялась Стрюкова, ей просто не хотелось лишний раз встречаться с ним: начнутся расспросы, не обойдется и без брани... Надо обогнуть стол, а там два шага и...
Противоположная дверь чуть скрипнула, на пол легла светлая полоска. Надя юркнула в подклеть, где хранилась зимняя одежда. Если это бродит Стрюков, то пройдет мимо. Правда, здесь дверь в подземелье, но ночью туда никто не ходит. Шаги ближе, ближе... Со свечой в руке вошел Иван Никитич. Под мышкой у него объемистый ларец. Постоял, прислушался, подошел к двери в подземелье и, осветив замок, начал колдовать над ним.
Когда-то он привез несколько одинаковых замков с секретом и один из них повесил здесь. Запирался замок без ключа, без ключа и открывался. Форма у него была необычная: на толстый стальной стержень надеты металлические пластинки с крупными буквами на них. Чтобы запереть замок или же открыть его, надо было так повернуть пластинки, чтобы получилось определенное слово, а его знал только хозяин замка. В этом и заключался секрет.
Спрятавшись за шубой, Надя стояла почти рядом и видела, как старательно вращал Стрюков пластинки, видела буквы на них, слышала шепот Ивана Никитича, произносившего каждую букву: «И-Р-И-Н-А». Ирина? Секретное слово взято по имени дочери. Забыть его Ивану Никитичу невозможно.
Стрюков резко рванул стержень, и замок открылся. Надя, сама того не заметив, переступила с ноги на ногу, но Стрюков уловил еле слышный шорох. Несколько мгновений он стоял, напряженно вслушиваясь, потом шагнул за вешалку, где висели шубы, посветил, увидя Надю, отпрянул назад.
– Ты чего?
– Ничего. – Надя вышла из своего укрытия и хотела прошмыгнуть мимо, но Стрюков преградил ей дорогу.
– А ну погоди! – крикнул он и, поставив на стол свечу, двинулся к Наде. – Ты чего крадешься, а? – негромко спросил он.
– Я не крадусь, – сказала Надя, пятясь к своей двери.
– Подглядываешь, змеюка! – полушепотом прорычал он и наотмашь ударил Надю по щеке.
Она ойкнула, отшатнулась и не упала только потому, что случайно уцепилась рукой за угол стола. Не выпуская ларца, но словно забыв про него, не в силах сдержать свой гнев, Стрюков шагнул к Наде.
– Мой хлеб жрете да меня же за горло хватаете?!
Надя увидела обезумевшие от ярости глаза и поняла, что он может еще ударить, может бить и бить, что сейчас он на все способен. Ей стало страшно...
Она схватила со стола тяжелый медный подсвечник и подняла над головой.
– Не тронь! – срывающимся голосом крикнула она.
Стрюков ничего подобного не ожидал, он даже растерялся и попятился назад.
– А, так ты еще грозиться будешь?
В комнату вбежала бабушка Анна, ахнула, всплеснула руками, запричитала, не зная, что делать.
В сенях показался с ружьем в руках Василий. Увидев хозяина, он трусливо подался к выходу, но тут же вернулся. Стрюков, казалось, никого не видел, кроме Нади.
– Поставь подсвечник! Кому говорят?! – сгорбившись, будто готовясь к прыжку, хрипло приказал он.
– Не подходи. Убью! – вся дрожа, полная решимости защищаться, крикнула Надя.
– Иван Никитич! – бабушка Анна, просяще вытянув руки, бросилась к Стрюкову.
Он отшвырнул ее в сторону.
– Меня, меня убей, – взмолилась она и встала между Стрюковым и Надей. – За что тиранишь сироту несчастную, что мы тебе плохого сделали? Или перешли твою путь-дорогу, скажи, Иван Никитич?
Он тряхнул ее за плечи.
– Молчи, ботало, язык вырву! Обрадовались, что красные бьют! Сговорились против меня? С ними сговорились!
Бабушка Анна всплеснула руками.
– Да побойся ты бога, Иван Никитич, зачем же на нас такую понапраслину?!
– А я все понял. Все раскусил. Только и ждете того часу, чтобы обобрать. Не дождетесь! В порошок изотру! – Он снова ринулся к Наде.
Но бабушка Анна заслонила ее собой.
– Иван Никитич, чай, и у тебя сердце не волчиное, хоть скажи, ну, скажи, чем она перед тобой провинилась? В чем ее вина?
– Следит за мной, подглядывает. Как шпионка какая-нибудь! Знаю, чья это работа. Знаю-ю! Деповские бандюки обучили? Семен Маликов, да? Или, может, сам Кобзин?! Чужого добра захотелось? Я понимаю, куда дело клонится. Все ваши помыслы знаю!
– Ничего вашего и на ломаную копейку нам не надо, – тихо заговорила Надя. – Ничего не надо! А подглядывать я и не думала. Если говорить правду, то я и в доме-то совсем не была, вот только вошла.
– Ври больше! А за шубами в подклети кто прятался? Примолкла! Стоит, чуть дышит. Думаешь, я так ничего и не понимаю?
– Вот, гляди, Иван Никитич, – бабушка Анна повернулась в угол, где висела икона, и перекрестилась. – Перед богом клянусь, не было ее.
– И того хуже. Я что велел? Без спросу никому не отлучаться из дому. Забыли?! Видали, дома ее не было! А где была, я спрашиваю? Выходит, ночью таскалась где-то с деповскими кобелями. Вон отсюда! Мне в доме суки не надо!
Надя ничего не ответила, только, чтоб не разрыдаться, крепко закусила губу.
– Иван Никитич, за что же ты ее позоришь? – заплакала бабушка Анна.
Надя обняла ее.
– Не плачь, бабуня. Пойдем.
– Ты хоть свою дочку, Иван Никитич, вспомни, Иринушку, да подумай, если бы вот так о ней кто сказал, как ты о Наде...
– А еще старый человек, – гневно бросила Надя и, взяв бабушку под руку, повела ее к своей комнате.
– Не тебе меня учить! – рявкнул Стрюков. – Собирайтесь, чтоб завтра и духу вашего в моем доме не было. И духу чтоб не было!
– Твоя сила, твоя и воля, – вытирая слезы, отозвалась бабушка Анна. – Только грех тебе, Иван Никитич, грех. Я в твоем доме не один год спину гнула да угождала, и Надя тоже. Отольются тебе наши слезы сиротские, отольются, Иван Никитич, попомнишь тогда мое слово.
Стрюков решительно махнул рукой.
– А ну, хватит языком трепать. Не уйдете сами, велю завтра вышвырнуть на улицу, ко псам собачьим. – Он повернулся к маячившему у сенных дверей Василию. – Слыхал, Василий? С тебя спрос будет.
Василий молча шевельнул губами и кивнул головой.
– Спасибо и на том, – горестно сказала бабушка Анна. – Значит, и доброго слова не заслужили.
– Сами себя вините, – бросил Стрюков.
Бабушка Анна и Надя ушли в свою комнату.
Стрюков хмуро взглянул на Василия.
– Ну, а ты чего торчишь здесь? Кто тебя сюда звал? Твое место – где?
– Иван Никитич, там Коняхин ломится, – топчась на месте, несмело заговорил Василий.
– В шею, всех гони в шею! – крикнул Стрюков. – Коняхины, Моняхины! Я тебе что приказывал насчет ночного времени? Никого со двора, ни во двор! Или мое слово не закон? Может, я уже не хозяин в своем доме? Может, думаешь, тебе здесь депо? Так я скоро научу, я скоро укажу, что и как.
Василию не раз доводилось видеть хозяина сердитым, но в таком гневе он видел Стрюкова впервые. Пятясь назад, Василий несмело проговорил:
– Так я, Иван Никитич, ничего. Я-то все, конечно, и ваше слово блюду... Я же не сам по себе взошел... Коняхин-то ломится, к вам спосылает, дело, говорит, большое. И грозится он. Скажи, говорит, Ивану Никитичу: беда, мол, будет, коли я не пущу его и вы сегодня не повидаетесь. Вот так оно, как на духу. Я говорю ему: не велено, а он грозится. Так что, как вы скажете, так оно и будет. Мы все понимаем. Я завсегда – как ваша воля.
– Чего ему приспичило? – немного поуспокоившись, спросил Стрюков.
– Не знаю, – ответил Василий. – Мне не сказывал. Говорит: не твое холуйское дело.
Стрюков, пройдя по комнате, остановился перед Василием.
– Иди зови.
И когда Василий затопал по коридору, добавил:
– Скажи, пускай минутку там подождет, во дворе. Я сам скричу. Иди. Да смотри у меня...
Едва затихли шаги Василия и хлопнула наружная дверь, Стрюков заспешил в подклеть, замкнул замок, отнес ларец в кабинет и, вернувшись в прихожую, взглянул на икону, истово перекрестился и зашептал:
– Огради нас, господи, силою честного и животворящего твоего креста и сохрани нас, господи, от всякого зла. Аминь!
Шепча молитву, он старательно перекрестил все двери и окна прихожей.
Глава вторая
– Василий! – крикнул он, приоткрыв сенную дверь. – Где там Егорыч? Пускай!
Послышались торопливые шаги, и в прихожую вбежал Коняхин, приказчик Стрюкова.
– Ты что это, Егорыч, ночью надумал людей поднимать? – хмуро спросил хозяин и так взглянул на Коняхина, словно окатил холодной водой.
Глаза Коняхина беспокойно заметались.
– Иван Никитич, – зашептал он. – Беда! Ворвались в пригород... Красные ворвались...
– А потолковее можешь? – прикрикнул Стрюков. – Да ты что дрожишь, будто тебя лихоманка трясет? В какой пригород?
– В казачий! В Форштадт! Ежели верить на слух, уже в конце Губернской стреляют, – срывающимся голосом зачастил Коняхин.
– Тьфу ты, господи! – Стрюков недовольно махнул рукой. – Ну и трус же ты, Егорыч. Я уж невесть что подумал. Тоже невидаль – казачий пригород. В первый раз там стреляют, что ли?!
– Так вы только послушайте, какая кутерьма поднялась. По моему разумению, Иван Никитич, вроде никогда еще такого ада там не было.
– Ну, не трясись же ты, ради бога! Глядеть тошно! – снова вспылив, прикрикнул Стрюков.
Не спеша подойдя к окну, он прислушался.
Беспорядочная стрельба то учащалась, то гасла. Вот опять накатилась густым валом.
«Да, палят изрядно. И нет сомнения – стреляют где-то далеко, возможно, даже за городом».
Коняхин чуть слышно покашлял в кулак.
– Так ты зачем приехал-то? – опомнившись, спросил Стрюков.
– О деле беспокоюсь, Иван Никитич. Не дай бог прорвутся, лавки с товарами захватят.
– Ты вроде уверен, что ли?
– Опасаюсь. Ох как опасаюсь!
– Может, слухи какие-нибудь? То давай говори, – Стрюков изучающе взглянул на приказчика.
Коняхин помялся.
– Припасу у наших в обрез. Вот так говорят.
Стрюков помолчал, будто старательно взвешивая, насколько серьезны слухи.
– Все равно отобьют, – решительно заявил он. – А насчет товаров, так черт с ними, в лавках-то осталось всего с комариный носок. Зерна не нашли бы... Как думаешь?
Коняхин собрал бородку в кулак, нерешительно повел плечом.
– Вроде бы должно все обойтись. Ну, кому стукнет в голову в монастыре шастать? И опять же – всем памороки забили, три дни от элеватора на железку и обратно порожние вагоны гоняли.
– Никто не проболтается? Люди крепкие?
– Будьте покойны. Что ни человек – твердый камень. А это вы здорово придумали! Можно сказать, высшая коммерция! Я бы и ни в жизнь не удумал такого. – Коняхин хохотнул тихим смешком. – Другие-то купцы так начисто из города хлеб повывезли.
– Ты им больше верь.
– Право слово, вывезли! Вот святой крест! – Коняхин торопливо перекрестился. – У меня верные люди.
– Вывезли, не вывезли – их дело. У них на плечах головы, у меня тоже не горшок глиняный.
– Табуны конские да и все гурты скота отогнать бы подальше, в степя, к киргизским баям... И потом, вам, конечно, виднее, но ежели касаемо моего суждения, надо бы покамест спиртовой завод прикрыть.
Стрюков снова внимательно и вместе с тем со скрытой недоверчивостью взглянул на приказчика: кто его знает, что таит на уме этот проворный, всезнающий плут? Сомневаться нечего – завелись у Егорыча деньжата... Ну и что из этого? На то и коммерция. Узнать бы, что сейчас его так беспокоит? Может, и вправду так предан хозяину, что только об его интересах и думает? Но нет, не верится! Каждому своя рубашка ближе к телу. А что касаемо революции, тут Коняхин сродни любому купцу.
– По-твоему, что же выходит – всю коммерцию побоку?
– Помилуйте, да как же можно такое, Иван Никитич! – взмолился Коняхин. – Как раз наоборот! Ежели расчет держать на будущее...
И он заторопился, заспешил...
Да, видать, и у Коняхина страх к печенкам подступает, заговорил о революции – и лицо стало серым.
– Что, может, и ты поджидаешь, пока побегу? – насмешливо обронил Стрюков.
– На шутку не обижаются, Иван Никитич.
Стрюков вдруг нахмурился.
– А я не шучу. Заяц жрет капусту, зайца – волк, а на волка есть охотник. Так-то. Ну-ну, давай дальше. Только не тяни, валяй так, чтоб коротко и ясно.
– Я уже все сказал, что думал: уехать бы вам, а кончится смута – вот он и я! Живой, здоровый и не с пустыми руками. Снова зацепиться есть за что. – Коняхин чуть подался к хозяину и заговорил почему-то шепотом: – Опять такое кадило раздуем...
– Гладко, Егорыч, ты умеешь говорить, как по писаному, И если послушать со стороны, то все верно. Но только с одной стороны. Словом, тебе не дано, Егорыч, все понимать. Эх, Коняхин, Коняхин, друг ты мой, да разве думали мы дожить до такого?!
Стрюков горестно махнул рукой, снова подошел к окну, прислушался – стрельба немного приутихла.
– Вели угонять гурты в киргизские степи, – сказал он строго. – Только сам проследи, где и как.
– Будьте благонадежны.
– Ступай, на дворе-то ночь глухая... Да, насчет товаров. В лавках чтоб всякая мелочишка была. Заваль разная. Не держать лавки пустыми.
Коняхин хотел было возразить, но Стрюков недовольно поморщился и стукнул ребром ладони по столу.
– Делай, как велено, – отрубил он и с досадой добавил: – Черт тебя поймет, вроде и умный мужик, а иногда простой вещи не разумеешь. У кого другого в лавках будут одни крысы с мышами, а мы к людям го всем своим доброжелательством. На грош потерял – рубль прибыли. Ну, будь здоров, иди с богом.
Глава третья
Выпроводив Коняхина, Стрюков нащупал в потемках железный крюк и запер входную дверь.
У свечи, тускло освещавшей прихожую, из язычка пламени черной закорючкой торчал нагар.
Тишина. Только изредка, разбрасывая крохотные искры, слегка потрескивает свеча. «Должно, не совсем чистый стеарин», – подумал Стрюков и ухмыльнулся в бороду: не больно уважает марку своего завода сосед Асхатов.
Стрюков снял нагар и с подсвечником в руках направился в кабинет. Все-таки жаль, что ему не удалось отнести ларец в подземелье. Понадежнее. Но там и без того уже кое-что припрятано... Берет сомнение: разумно ли такие громадные ценности хранить в одном месте? Что, если туда доберутся? Нет, никто не догадается. Тайник в подземелье знали только двое – он, Иван Никитич, да тот, кто строил тайник, упокой, господи, душу раба твоего, захороненного в подземелье без святого таинства погребения.
Стрюков переложил подсвечник в левую руку, а правой истово и с глубоким чувством перекрестился. «Надо будет еще на год записать в грамотку за упокой, – решил он. – Человек заслужил того. А ларец все же следует перенести. И не позднее, как завтра. Может, сейчас перепрятать? Легко сказать – перепрятать! Надежда, чего доброго, возьмет на заметку».
Он ясно представил Надю, полную решимости, с подсвечником в руке. «Свободно могла ударить», – подумал Стрюков и почувствовал, как под ложечкой замутило. Правильно он решил, что приказал им убираться на все четыре стороны. Вот только вопрос, кто вместо Анны будет наблюдать за домом. Ничего, другая найдется. Конечно, незнакомый человек что темная ночь. Так можно налететь, локти себе кусать станешь. Вот оно и получается, что вроде он поторопился выгонять Корнеевых. Нет, видно, пока что пускай остаются, придется помолчать, а вернется нормальная жизнь, можно будет и сегодняшний разговор припомнить.
Стрюков неслышно подошел к комнате Корнеевых. Прислушался. Уснули? Не может быть. Не с чего им спокойно спать. Верно! Так и есть!.. Ухо уловило неразборчивый шепот. Иван Никитич вдруг озлился. На себя озлился – только подумать, до чего дошел: крадется, топчется у двери своих работниц.
– Анна! – решительно позвал он и по-хозяйски стукнул кулаком в дверь. – Выдь-ка!
Звякнула задвижка, приоткрылась дверь, и на пороге показалась бабушка Анна. Она была одета, как и давеча, даже платок не сняла с головы. Значит, не ложилась спать, сидели и шептались в темноте. Вот бы узнать, о чем?
– А Надежда спит?
Надя слышала вопрос, но не откликнулась.
– Должно быть, вздремнула.
Стрюков подал знак, чтоб Анна прикрыла дверь.
– Мы с тобой люди пожилые и всякое дело должны понимать по-своему, а не так, как она. – Он кивком указал на дверь, за которой находилась Надя. – И ты ей внушение сделай. А то распустилась... Знаешь, чего ей могло быть за то, что кинулась на меня с подсвечником? Не знаешь? Так я скажу! Каторжные работы!
– Боже ты мой!.. Иван Никитич, не губи... – похолодевшими губами зашептала Анна.
– Покушение на хозяина – вот как такие дела называются. И закон за них спуску никому не дает. Конечно, сейчас все так повернулось, как будто и никакого закона нет. Но это неправда! Стоит мне шепнуть атаману только одно слово... Поняла?
– Я даже в голову не могу взять, как оно все случилось. Уж ты, Иван Никитич, будь отцом родным. А я ей за все это вон как голову намылила.
– Набезобразничаете, а потом в ногах валяетесь.
– Да разве мы когда хоть что-нибудь? Я, можно сказать...
– Не о тебе речь, – прервал Стрюков и большим пальцем снова указал на дверь. – Последнее время как волчица на меня поглядывает. Я тебе со всей моей предупредительностью говорю: остепеняй, пока не поздно.
– Да я и так... Прости, Христа ради!
Стрюков помолчал, нарочито растягивая паузу.
– Ладно, – сказал он, небрежно махнув рукой. – Пускай все остается, как было. Не на улицу же вас в самом деле. Но ты ей мозги вправляй. Вот так.
И, считая разговор оконченным, вышел.
Глава четвертая
Бабушка Анна вернулась к себе.
– Зачем он? – спросила Надя.
Старуха коротко передала разговор со Стрюковым.
– Все равно уйдем, – решительно отрезала Надя. – Уросливого коня не каждый ударит. А он... Да на меня родной отец руки не подымал!
– А куда уйдешь? – вздохнула бабушка Анна.
– У Семена изба пустует. Вот и вселимся. Он говорил как-то.
Бабушка Анна стала отговаривать Надю. Переехать в избу Семена не штука. А как жить дальше? На что? В городе, хоть лавки взять или, опять же, базар, все стало втридорога. Даром-то ведь никто ничего не даст, а капиталов они не нажили. И заработать копейку по нынешним временам не думай. Вон сколько ходит люда бродячего, голодного. Будто вся Россия с места стронулась. У всех только и разговору, что о работе да о куске хлеба.
– Тут тоже нам житья не будет.
– А мы уйдем! – таинственно зашептала бабушка Анна. – Уйдем. Как только пристроимся куда-нибудь на место, так сразу же! Вот узнать бы, как оно сейчас живется в деревне, а то бы туда... Из Урмазымской никаких вестей, и насчет Кости ничего не слышно. Как он там? Живой ли? Шутка сказать, скоро год – ни одной весточки. Обещал Иван Никитич отпустить, чтоб наведать парнишку, и все только на словах. Знать бы, какая там жизнь, а то сесть бы на чугунку... Будь на дворе лето, оно и пешком не беда, от деревни до деревни, от станицы до станицы. А дорогу-то я припомню. Правда, давно ездили, еще твой отец живой был. Да дорога что, добрые люди всегда укажут. Давай так порешим: поживем тут до весны, а по весне, как потеплеет маленько, на что-нибудь, глядишь, и решимся. К тому времени, может, и вся эта смута пройдет.
Надя с трудом подавила вздох. Она хорошо понимала, что ни в какую деревню они не пойдут ни теперь, ни весной, что бабушка Анна говорит об этом, лишь бы успокоить ее, да и себя тоже. Кто считает, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь, а вот бабушка Анна наоборот. Надя возражать не стала, пускай будет так, как того хочет она. Что касается самой Нади, то после сегодняшнего случая, когда ее ударил Стрюков, она готова скорее броситься в Урал, нежели оставаться в этом опостылевшем доме. И Надя ушла бы, будь она одна. Одной перебиться с хлеба на квас легче, а вот когда рядом с тобой и другой человек, да к тому же еще пожилой, о котором надо подумать, – иное дело.
Плохо жить на свете, когда у тебя нет своего угла. А был... Был свой дом!
До пожара Корнеевы жили в казачьем пригороде Форштадте на углу Платовской и Колодезного проулка. Рядом, по Платовской, стояла усадьба Маликовых. И там и тут – добротные пятистенные избы. Не из последних казаков считались что Корнеевы, что Маликовы – и кони у них были справные, и весь казачий припас, на базах тоже не было пусто – водились и бычата, и другая скотинешка, правда, не табунами, но свое мясо круглый год, да и для ярмарки кое-что оставалось.
Ладно жили меж собой соседи, чужие по крови, а дружнее и желаннее иных родственников. И дети все время вместе, словно из одной семьи; у Корнеевых росли двое: Надя – постарше, и Костя – на несколько лет моложе ее. У Маликовых было четверо детей, но трое умерли от «глотошного поветрия»; в живых остался только большак, Семен, года на четыре старше Нади. Рос он смелым, веселым и находчивым; во всех играх, которые затевал Семен, Надя не отставала. В шесть лет уже скакала верхом на отцовском строевом коне, а плавала и ныряла в Урале не хуже Семена. Костя, немало переболевший в раннем детстве, рос не очень подвижным, выглядел хмуроватым и задумчивым, любил больше слушать, а сам помалкивал.
Однажды летом, когда Наде шел еще девятый годок, возвращаясь с Урала после купанья, Семен сказал ей:
– А знаешь, Надька, чего я слышал: моя маманя твоей говорила, что, когда мы вырастем, нас поженят.
– Ну да? – удивилась Надя и недоверчиво взглянула на Семена.
– Вот свят крест! – побожился Семен.
Слова Семена пришлись Наде по душе: а почему бы ей и вправду не выйти за него? Вон какой он парень! Не просто хороший, а самый лучший на свете. Многих ребят видела Надя в Форштадте, но другого такого, как Семен, нет.
– А моя мамка согласная? – спросила она.
Семен молча кивнул головой.
– Говорят, характерами сходимся.
– А чего это? – наморщив лоб, спросила Надя.
Семен не был уверен, что правильно понимает это мудреное слово, но уронить перед Надей своего мужского достоинства не хотел.
– Ну, это вроде как норов такой, что ли, – глубокомысленно помолчав, пояснил он. – Вот ежели, скажем, на лошадей, для примера, поглядеть, одна уросливая, все время кнута или плетюгана требует, другая, смотришь, тянет да тянет, старательная, значит. Так и у людей. Поняла?
– Поняла.
– Кто сердитый, а кто добрый. Вот это тебе и есть самый характер! И выходит, у нас с тобой будто характеры одинаковые... А ты бы пошла за меня?
– Ну, а чего же? – не задумываясь, ответила Надя. – С нашим удовольствием. – И тут же поинтересовалась: – А где мы жить станем?
– Как где? – удивился Семен. – У нас.
– Э-э, нет, – возразила Надя, – я от мамки никуда!
Семен рассмеялся.
– Ты чего?
– А то, что ты ничего еще не понимаешь, жена завсегда переходит к мужу. Кого хошь спроси.
Надя нахмурилась.
– А ты чего скисла? Рядом же будем жить, как захочешь, так побегишь к мамке. Поняла? Ну, как, согласна?
Надя кивнула головой.
– Только ты ни с кем больше не водись, – предупредил Семен. – А то, ежели замечу, косы выдеру, вот крест святой, выдеру.
– А я и так не вожусь...
В ту осень они стали вместе ходить в школу. Семен учился в четвертом, а Надя попала в первый класс. Он каждое утро или забегал за ней домой, или же поджидал у ворот. Из школы тоже возвращались вместе. Девчонки заметили это, стали дразнить их женихом и невестой. Надя сначала обижалась, а потом как-то однажды разозлилась: «Ну и что? Жених и невеста! Я и пойду за него, моя мамка и Семенова уже договорились». После этого дразнить их перестали.
Глава пятая
Навсегда в ее памяти остались проводы казаков на войну.
Три дня на улицах и в домах заливались гармошки, три дня гуляли форштадтские казаки, горланили песни, ватагами переходили из дома в дом, веселились, словно позабыв, что, может, никогда уже не вернутся в свой ковыльный край.
На четвертый день проводили служивых до городского полустанка, где на запасном пути стоял эшелон из красных вагонов. Погрузили казаки своих коней, попрощались с родней и сами – по вагонам. Никто из домашних единой слезинки не уронил – не положено печалью да слезами провожать казака в поход.
Зато, когда скрылись вдали вагоны, что тут было! Рыдая, падали и бились оземь женщины, кричали дети, и никто никого не утешал. Все понимали: не на праздничную гулянку отправили дорогих, близких...
Вскоре поползли страшные слухи, будто идет такая кровопролитная война, какой и не знали на земле. Из воинского присутствия стали поступать извещения о смерти. В один день принесли Маликовым и Корнеевым такие бумаги.
Жили два казака по соседству, были два друга-приятеля, и не стало обоих; были две счастливые семьи и в один день осиротели. А через неделю похоронили и мать Нади. Братишку Костю отправили тогда гостить в Урмазымскую станицу к тетке Пелагее, сестре отца. Насчет того, что он гостит, только так говорилось – тетка забрала к себе мальчика потому, что там легче жилось, чем здесь, в городе.
Без мужских рук вести хозяйство ох как тяжко! Бабушка Анна с Надей выбивались из сил, чтобы хлеба добыть на зиму, до нови.
Суров наш степной край, труд здесь не всегда окупается, особенно если из далеких песчаных пустынь дохнет знойный ветер, тогда все посевы до последней былинки сохнут на корню. Так случилось и в то лето: все спалил суховей, даже соломы не собрали для скотины. Впереди маячила трудная зима. Помощи Корнеевым ждать было неоткуда. Правда, в центре города жил Иван Никитич Стрюков, двоюродный брат Надиной матери, бывший казачий сотник, ныне богатый купец, но он ни с кем из родственников не знался. Все же, когда жить стало совсем невмоготу, бабушка Анна пошла к нему. Вернулась радостная: Иван Никитич встретил приветливо, обласкал ее, напоил чаем с коржиками, да и Наде гостинца прислал. Еще велел отвесить пуд муки и отвезти бабушку домой. Он сказал, что и дальше будет им помогать – не чужие, к тому же Андрей, муж его сеструшки, пал смертью храбрых на поле брани, а следом и она поспешила... Иван Никитич их не оставит. Но ему пришла в голову и другая мысль. Всем известно, что супруга давно покинула его, отошла туда, где вечный покой и нет ни горя, ни воздыхания. И вот уже какой год живет он без хозяйки, живет с дочкой, постарше Нади, Ириной зовут. Выросла строгая и серьезная девушка, окончила гимназию. Уезжает учиться в Петроград. Есть у него и работники и работницы, а своего верного человека в доме нет. Вот он и решил предложить Анне Петровне: не согласится ли она вместе с внучкой переехать в его дом и жить там, как близкая родня? Анна Петровна будет присматривать по домашности. А Надя пускай себе ходит в гимназию, глядишь, и из нее выйдет образованная барышня. Насчет Кости обмолвился: можно забрать его из Урмазымской.
Бабушка Анна не знала, что и ответить... Не смея так сразу отказать, спросила: а на кого же останется их дом и все немудрое хозяйство? Иван Никитич успокоил: уж он что-нибудь придумает, не допустит, чтобы сиротскую избу растащили по бревнышку. Анна Петровна может положиться на него: если он за что берется, то доводит дело до конца. И с ответом торопить не будет, время терпит.
В тот вечер в доме Корнеевых долго не ложились спать. Что делать, на что решиться? Остановились на одном: надо переезжать. Другого выхода нет. Ну, а если там что-нибудь станет поперек и жизнь не будет притираться на новом месте – вернуться домой никогда не поздно. Дверь в твою хату всегда тебя пустит.
И на следующий день Надя рассказала Семену о принятом решении. Он нахмурился, но отговаривать не стал. По ее невеселому голосу понял, что Наде и самой не больно-то хочется уезжать из родного дома, покидать казачий пригород, где прошумело все детство.
– А приходить к вам можно? Чего доброго, Стрюков и ни подворье не пустит, – сказал Семен и упрямо добавил: – А я все равно буду ходить к тебе, пускай он хоть сбесится!
Когда же о переезде узнала Лукерья Маликова, мать Семена, женщина бойкая и резкая на язык, то просто-таки накинулась на бабушку Анну с упреками и уговорами. И добилась своего. Бабушка Анна не передала Наде всех подробностей беседы с Лукерьей Малиновой, лишь поделилась, что по совету соседки надумала остаться в родном гнезде. Женщины договорились работать на поле в супряге. Вместе дело спорее пойдет. Семен уже не мальчишка, сможет помогать, да и Надя тоже. Если будут работать вместе, глядишь, и засеют на два двора десятину-другую, а при урожае соберут с них хлеба – на всю зиму хватит. Не будет же из года в год палить суховей.
Такой поворот дела обрадовал Надю. Да и бабушка Анна была довольна тем, что они с Лукерьей Малиновой так хорошо расплановали свою жизнь. Одно беспокоило старуху: нужно было обо всем сообщить Стрюкову. Вот тут-то и скрывалась главная закавыка – человек от доброты протянул руку помощи, и бабушка Анна, можно сказать, приняла ее, а теперь приходится подаваться назад. Нехорошо, совестно.
В один из ближайших дней, спозаранку, бабушка Анна отправилась к Стрюкову. Вернулась встревоженная, рассказала: по всему заметно – обиделся Иван Никитич.
Спервоначалу вроде бы и ничего, выслушал, помолчал, раздумывая, затем коротко обронил:
– Вам виднее. Глядите сами.
И забарабанил пальцами по столу.
– Есть же на свете неблагодарные люди: даешь – берут, а попроси сам чего-нибудь – бог подаст.
Бабушка Анна смутилась, тут же поднялась и стала прощаться. Иван Никитич нехотя подал руку.
– Теперь какая бы беда ни свалилась на нас, идти к Ивану Никитичу заказано, – окончила она свой рассказ.
Беда не заставила себя долго ждать. Осенней ветреной ночью на Форштадте загудел набат. Зарево полыхало на Платовской. Пока собрались люди да прискакала пожарная команда, огненным языком слизнуло усадьбы Корнеевых и Маликовых.
Пожар захватил так врасплох, что Корнеевы еле успели выгнать со двора свой скот, а то, что было в избе, все сгорело. Надя выбежала на улицу в одном ситцевом платье. Она не замечала окруживших ее людей и, глядя на пылавшие остатки рухнувшего дома, горько плакала. Бабушка Анна словно окаменела. Безвольно опустив руки, она стояла рядом с Надей и даже не видела, как сосед, старик Коршунов, угнал к себе их немногочисленный скот. У Коршуновых они и провели ту первую бездомную ночь.