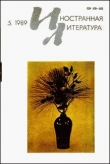Текст книги "Крылья беркута"
Автор книги: Владимир Пистоленко
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
– Дело не так уж трудное, – скромно ответил студент и принялся рассказывать, что еще недавно по-другому относился к лошадям, как-то безразлично; а вот в последнее время, когда попал в отряд, а особенно с тех пор, как у него появился Буян, понял: лошади очень умные животные, в глазах осмысленность – заговоришь с конем, и остается такое впечатление, будто он понимает каждое твое слово. Особенно Буян.
– Пока у меня не было своего коня, я не представлял, какое это замечательное существо. А с Буяном можно даже дружить.
– Ладный конек, – согласилась Надя. – Мой отец очень любил лошадей. Он тоже утверждал, что конь понимает каждое слово, только сказать не умеет.
Она опустила руку на крутую шею вороного, и конь запрядал тонкими ушами.
– Веселый твой Буян.
– Ты не отказалась бы от такого?
– Думаю, никто не отказался бы. Редкостный конь.
– Хорошо. Буян твой. Да, да!
– Как? – не совсем понимая, спросила Надя. – Почему мой?
– Дарю тебе. И, пожалуйста, не отказывайся...
– Ну, уж нет! – прервала его Надя. – Даже разговаривать об этом не будем.
– Но почему?
– Да мало ли что? Во-первых, за подарок надо отдаривать...
– Что, что?! – возмущенно воскликнул Обручев. – Ни о чем подобном ни слова! Откуда ты взяла?
– У казаков иначе не бывает. Это точно. А у меня отдаривать нечем, – не обращая внимания на его возмущение, продолжала Надя. – Потом, ты полюбил коня, и очень полюбил, я ведь вижу. Он к тебе привык...
– Да, конечно. Он умница. Но поверь, я охотно, с удовольствием отдам тебе.
– А я не верю, – упорствовала Надя. – И никто не поверит, чтоб казак, ну, словом, боец охотно отдал кому-то своего боевого коня. Да у нас такого человека уважать перестанут.
– Подожди, Надя! У казаков – вполне возможно, но я-то ведь не казак. Стало быть, ко мне казачья мерка не подходит.
– Она ко всем подходит. Боевой конь – друг, и отказываться от него – значит предать друга. Я, например, так понимаю. И все у нас не иначе думают.
– Подожди, не карай меня так строго. А если, скажем, человек хочет подарить самое дорогое и заветное тому, кто ему безмерно дорог, другу, который, быть может, дороже жизни?! Тогда как?
Надя немного растерялась. Да и как не растеряться после таких слов!
– Если так... не знаю, – неуверенно сказала она. – Но то другое дело. Совсем другое.
– Ты не причисляешь меня к своим друзьям? К хорошим друзьям?
– О дружбе, мне кажется, не договариваются, она сама приходит. Так что летай на своем Буяне, рубай белякам головы. Он тебе куда как нужнее! А я пока что обойдусь и без коня.
Она чуть толкнула Орлику стременами в бока, и он рванулся вперед. Обручев чуть поотстал и некоторое время ехал позади.
Поднялись на виадук.
Увидев, что Надя придержала коня, и решив, что она поджидает его, Обручев пришпорил Буяна.
А Надю поразил открывшийся с моста грустный вид: все огромное пространство, насколько хватал глаз, вправо и влево от моста, было забито железнодорожными составами. Тут стояли заиндевевшие паровозы, забураненные, с промерзшими стеклами и вообще без стекол пассажирские вагоны, платформы, теплушки – множество теплушек! Сколько их? Сотни? Или тысячи? Почему они стоят? Стали ненужными? Нечего в них грузить? И неужто так-таки все совершенно пустые? А что, если их осмотреть? Может, найдется что-нибудь полезное?! Знает ли о них Петр Алексеевич? Может и не знать. У него столько дел, все надо помнить, всюду поспеть.
– Надя! Ты на меня обиделась?
Надя толкнула коня.
– За что?
Нет, она не обиделась. Просто ее взволновали слова Обручева. Ничего особенного он не сказал, а все же ей от тех слов не по себе. Почему такое? Удивительное бывает: скажет человек самые простые и понятные слова, ему-то ясно, что хотел он выразить теми словами, а ты не понимаешь их смысла; смысл-то, возможно, и понимаешь, но сомневаешься, не знаешь, что он имел в виду, тот человек, когда обращался к тебе, и чего он ждет от тебя... Правду говорят: чужая душа – потемки.
– Если обидел – извини. Вы, казаки, народ особый.
Она в задумчивости искоса взглянула на него, чуть заметно качнула головой.
– Обижаться не за что.
Спустившись с виадука и выехав на пустырь, они дали коням волю и вскоре очутились у мрачноватого вида одноэтажного каменного здания школы.
Занятия в школе не проводились, и здесь была организована столовая для голодающих детей деповского поселка.
Надя издали увидела толпу. Как же рано приходят дети, ведь еще не начали варить, а их уже вон сколько собралось! Но почему они торчат на морозе? До раздачи затирухи еще добрый час, чего доброго, попростынут детишки. Голод гонит детей спозаранку. Может, пораньше открывать столовку? Не поможет, начнут приходить задолго до рассвета. Каждый хочет опередить других и скорее поесть. А еда – одно только название: и умереть с голода не умрешь, да и сыт не будешь. А скоро и этого не станет... Даже страшно подумать, что случится, если и вправду закроется столовая. Нет, она должна работать во что бы то ни стало! И всех этих детей надо спасти! Разве от добра просыпаются они спозаранку и, одеты во что придется, дрожа от холода, бредут сюда по леденящему морозу, чтоб съесть несколько ложек клейкой затирухи?
Надя спрыгнула с коня, не взглянув на Обручева, подала ему в руки повод Орлика и заспешила к зданию.
– До свидания, Надя! – вдогонку ей крикнул Обручев. – Не приехать ли за вами? – Он почему-то перешел на «вы». – Если никуда не пошлют – я смогу.
Надя остановилась и, вспомнив, что забыла поблагодарить студента, ответила:
– Нет, не надо! И спасибо вам. Большое спасибо.
Обручев подождал, пока Надя вошла в здание школы, круто повернул Буяна и, стеганув изо всей силы концом повода смирно стоявшего Орлика, поскакал назад.
Как все-таки жаль, что один человек не видит другого, не видит тогда, когда тот остается наедине с самим собой, со своими чувствами и думами... Жаль, что этого никому не дано!
Глава четвертая
Надя стаканом перемерила оставшуюся муку – запасов только на три дня. Что делать? Нужно повидать Кобзина, поговорить, как же быть со столовкой дальше... Она решила пойти в штаб сразу же, как начнут раздавать пищу.
Затируху выдавали из трех окошек. У каждого выстроилась своя очередь. Тут были дети разных возрастов – и подростки и самые маленькие, только недавно начавшие ходить. Таких обычно сопровождали дети постарше или же взрослые. Получив пищу, детишки большей частью проходили в классные комнаты и там, достав из кармана ложки, съедали свой жалкий дневной паек. Многие, получив на тех, кто не смог прийти, спешили домой, зная, что там их ждут не дождутся.
К Наде то и дело обращались матери, бабушки; одни просили дать добавок, чтобы ребенок хотя один раз в день наелся досыта, другие умоляли выдать и на больных, а больных с каждым днем становилось все больше. Просьбы, просьбы... Отказать – язык не поворачивается, а вместе с тем давать нечего.
К Наде подошла женщина. Лицо испитое, в усталых глазах такое страдание, что кажется, вот-вот хлынут слезы. Наде показалось, что женщина ей знакома.
– Можно к вам с просьбой? – обратилась она. – Мне сказали, что вы тут, в столовке, за старшую. Вот я и хотела попросить... – Губы ее мелко задрожали, и она крепко сжала их...
Когда женщина заговорила, Надя уверилась, что не только видела ее, но и слышала этот голос. Но где?
– Вы насчет детского питания?
Женщина молча кивнула головой.
– Муж мой в Красной гвардии у вас состоял, – пересилив себя, снова заговорила она. – Деповской. Кузнецом был в депе... Осколком поранило... когда наступали на город... Лежал дома, маялся... Третьего дни схоронили.
– Как ваша фамилия? – поддавшись тягостному настроению женщины, спросила Надя.
Она достала самодельную тетрадь из толстой серой бумаги, стала листать. Все листы были исписаны – фамилии, адреса. Только в конце последней страницы осталась узенькая полоска, как раз для того, чтобы сделать еще одну запись.
– Васильева я. По мужу. И не пришла бы, а нужда.
Женщина снова стиснула зубы, но сдержать слез не смогла, и они одна за другой покатились по щекам.
Надя хотела было что-нибудь сказать ей в утешение, но у нее перехватило дыхание, и она почувствовала, что если попытается заговорить, то и сама расплачется.
Обе немного помолчали.
– Запишем, – коротко сказала Надя. – Где живете?
– Здесь. Неподалеку. На Барачной, дом сорок.
На Барачной? Семен Маликов тоже живет на Барачной. Вернее, жил. И Надя вспомнила, где и когда видела эту женщину. Да, да! Землянка, ночь, душная комнатенка, на полу вповалку спят дети...
– Семен Маликов ваш сосед?
– Сосед, – ответила женщина, не понимая, почему Надя заговорила о Маликове. – Наискосок живет. Через улицу. Только он там больше не живет... У вас он...
– Я знаю. И вас тоже знаю. Ночью приходила, помните?
Глаза женщины оживились.
– Про Семена спрашивала?! Батюшки, как же, помню! А я тоже гляжу, вроде по личности знакомая, только ничего такого не подумала – людей-то эвон сколько перевидать приходится... А Федю-то, мужа моего, как раз на другой день и поранили. – Глаза ее снова погасли.
– Сколько у вас детей? Двое? И еще кто есть в семье? Мамаша? И ее запишем. И на вас давать будем.
Женщина кивнула. Казалось, слова Нади не вызвали в ней никаких чувств.
– Пока жив был Федя, кое-как перебивались. Теперь хоть ложись да помирай. Себя не жалко, а вот детишки... Старшенький, на шестой годок пошел, лежит, весь высох; малышок тоже – мощи одни.
– Да, детишки... – Надя вздохнула. Насмотрелась она за эти дни на детское горе. – Вы уж сами как-нибудь крепитесь...
– Не знаю, что и сказать, что и подумать. Мамаша у меня – ноги опухли, чуть ходит. Ушла – и не знаю, чего там дома... А ежели б домой дали?.. Хотя маленько, на какую там болтушку?
Надя опустила голову. Как тяжело отказывать тому, кому надо помочь.
– У нас сейчас почти ничего нет, – неохотно созналась она и почувствовала неловкость и даже некоторую вину за то, что люди голодают, а красные ничем не могут им помочь. А ведь она тоже красная, и с просьбами обращаются к ней. – Ничего, ни-че-го нет! Но как будет – пришлем. Тут же! Обязательно пришлем! Может, даже сегодня. А сейчас получите детский паек. И каждое утро приходите. Да не старайтесь пораньше – с утра очереди. Правда, паек – только счет один, от него ни сыт, ни голоден. Ну, а все же...
Васильева поблагодарила, сказала, что сбегает за посудой. Надя вышла вслед и у калитки снова встретилась с ней. Васильева только что перекинула через плечо веревочную лямку и силилась стронуть с места небольшие санки с сеном. Надя удивилась.
– У вас есть корова? – обрадованно спросила она.
– Корова-то есть, да молока нет, совсем перестала доиться, скоро должна теленочка принести, – пояснила Васильева.
– Ничего, дождетесь, было бы что ждать, – ободрила Надя. – Ведь это же счастье, в такое время давать детям хоть немного молока.
– А молока нам, видно, все равно не видать: кормить-то коровушку нечем, придется со двора свести. Летом Федя малость заготовил кормов, а кто-то взял да нарочно и стравил в копнах. Прошлогоднее сено тянулось, а вот уже с месяц добывать приходится.
– Покупаете? – спросила Надя.
– Меняем. В Форштадте. Там живут, горя не знают, все у них есть: и хлеб, и сало, и мясо, и сено – чего душа желает. Было бы на что менять! Всю бедноту казачьи богатеи обобрали. И без того голь перекатная, а они норовят и последнюю шкуру содрать. Оно если правду сказать, ничего не жалко заради детей, но ведь никакой совести у этих живодеров нету: мало того, что почти задарма берут, так еще и измываются!
Васильева всхлипнула и тут же вдруг ожесточенно набросилась на Надю с упреками:
– Хоть бы вы там, комиссары, своим глазом добрались до нашей жизни! Мужики у нас полегли, а над вдовами змеищи шипят да изгаляются...
– Это сено тоже выменяли?
– А кто даром даст? После Феди костюм остался. Подвенечный, почти ненадеванный. Вот и снесла, отдала за сено. На трое салазок договорились, а он сегодня эти впритрус наложил и сказал, чтоб больше не ездила.
– Значит, обманул? – возмутилась Надя:
– Я о том самом и говорю. Да еще слова всякие!.. Будь живой Федя, ни в жисть не простил бы... А без него – кто хочет, тот и порочит. Все у нас плачутся.
Васильева рывком потянула лямку, и сани, скрипнув полозьями, двинулись.
Надя смотрела на медленно уползающие сани. Ей показалось, что она не может вот так отпустить женщину, что должна окликнуть ее, остановить, что-то сказать, чем-то помочь, ведь у человека и без того горе, а ее издевательски обидели.
– Васильева! – позвала она и кинулась догонять. Женщина оглянулась, остановилась. – У кого вы сено выменяли? Фамилия как?
– Рухлин. Иван Рухлин.
– Не тот, что на Колодезном проулке?
– На Колодезном. Рыжий такой.
– Знаю. Там их два брата.
– Оба были. Договаривался рыжий.
– Сколько он недодал?
– Одни салазки. И энти вон, чуть-чуть, внатрус...
– А костюм какой? – спросила Надя.
– Синий, диганалевый, совсем еще новый. А тебе зачем знать? – с беспокойством спросила женщина.
Надя и сама пока еще не знала, зачем ей понадобилось так подробно расспрашивать. Может, просто затем, чтобы знать имя обидчика, подлеца, способного ударить лежачего? Или чтобы доложить об этом случае Петру Алексеевичу? Надя не стала ничего придумывать и ответила Васильевой, что пока ничего не может сказать определенного, но посоветуется кое с кем...
Сани поплыли дальше. Надя немного постояла и решительно зашагала к городу.
Дохнул встречный ветер, зазмеилась поземка. На пустыре занесло тропинки, идти стало труднее, почти на каждом шагу приходилось проваливаться, скользить по не совсем еще слежавшемуся снегу. Начали зябнуть ноги. Полусапожки «гусарки» вообще не очень-то грели, а теперь, когда им приходилось то и дело нырять в снег, совсем задубели. Не грела плюшевая шубейка-полусак: с виду она была не совсем еще выношенной, потертые места под рукавами не сразу бросались в глаза, но для зимы уже не годилась. Однажды поздней осенью Надя попала в ней под дождь, она вся вымокла, и вата свалялась. Она и раньше грела мало, а после того купания ее насквозь пробивал даже самый безобидный ветер. Если б у Нади не было пухового платка, связанного бабушкой Анной, она совсем застыла бы, пока шла через пустырь, показавшийся ей на этот раз бесконечным.
Перейдя виадук, Надя пошла не обычным путем, а свернула влево и переулками заспешила к Форштадту. Само собой пришло решение – побывать у Рухлиных. Надя знала эту семью. Когда-то, до пожара, они были соседями. Рыжий – Иван, помнится, даже дружил с отцом. А может, и не дружил. Во всяком случае, захаживал к ним. И отец иногда поддразнивал его, приговаривая нараспев: «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил». Иван отшучивался, но бывали случаи, когда он внезапно приходил в ярость и бросался с кулаками, а отец похохатывал, встречал наскоки Ивана кулаками же. Младшего Рухлина звали Симоном. Надя его плохо помнила. Уже живя у Стрюкова, она не раз встречала Ивана в городе, всегда здоровалась с ним, а вот Симона, попадись на улице, вряд ли узнала бы. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил», – мысленно пропела она на тот же мотив, что слышала от отца. И усмехнулась. Отец Рухлиных был есаулом. А сыновья не просто Рухлины, а сыновья есаула Петра Рухлина. Богатый двор, известная фамилия... В общем же казаки, каких много на Форштадте. Кто чуть получше, кто чуть похуже. Изба не без окошка, месяц не без пятнышка. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил»... Ну и привязалась же эта дразнилка!.. Нет, ничего плохого не знала Надя за Рухлиными. Поэтому и решила пойти к ним. Не верилось, что кто-то из них мог обидеть беззащитную, сраженную горем женщину. Не может того быть! Ведь они же не звери. Но тогда выходит, Васильева оболгала их? Не похоже... Нет, нет! По всему видно, поделилась тем, от чего душа болела. «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил»... Прицепилась, будь ты неладна!
Вот и пожарная каланча. Отсюда начинается казачий Форштадт. Наде хорошо знакомы все улицы, переулки. Она свернула на Платовскую, затем на Колодезный. Бывшее подворье Корнеевых, Маликовых... А теперь каменные развалины... По злой воле Ивана Никитича когда-то две семьи очутились без крова, а теперь и от его лавок и лабазов осталось не так уж много – припорошенные снегом кучи камня.
Так ему и надо!
Похоже, что в Форштадте жизнь идет по-другому, чем в деповском поселке: там заснеженные улицы, высоченные сугробы, нигде нет расчищенных тропинок, повсюду промерзшие окна, редко можно увидеть дым над трубой; и – безлюдье, изредка появится где-то человек, торопливо пройдет, свернет в ту или другую сторону – и снова никого. А в Форштадте вдоль дворов прочищены тропинки, на проезжей части ни одного сугроба, дорога накатана. Детишки на салазках, кто-то везет обледенелую бочку с водой, должно быть, с реки... Вон у ворот стоят три женщины, одна что-то рассказывает, видимо веселое, потому что все трое покатываются со смеху. Чьи же это новые тесовые ворота? Ну, конечно, Рухлиных!
У калитки Надя остановилась, – ее охватила не то робость, не то неуверенность – так ли уж обязательно ей идти к Рухлиным? Но, заметив, что женщины прервали свою развеселую болтовню и с любопытством рассматривают ее, Надя нахмурилась. Ей стало досадно на себя за свое слабодушие. Она решительно взялась за массивное железное кольцо калитки, повернула его, чуть принажала плечом – калитка ни с места. Значит, заперта изнутри. Она настойчиво постучала кольцом о железную скобу. Во дворе послышался разноголосый собачий лай, он подкатился к самым воротам и перерос в яростный рык. Было слышно, как разъяренный пес, не видя перед собой противника, набросился на столб, к которому привешена калитка, и грызет его, впадая в слепую звериную ярость. Надя на мгновение представила, что она очутилась перед этим псом, и ей стало не по себе. Женщины, стоявшие напротив, что-то прокричали ей – Надя не слышала. Она еще раз, уже более настойчиво, ударила кольцом по скобе, затем еще и еще. Собаки с рычанием и повизгиванием отпрянули от ворот. Значит, кто-то подошел? Почему же не откликается? И тут из-за калитки раздался голос:
– Кто там ломится, собак пужает? Чего надобно?
– Откройте!
– А ты кто?
Как же назвать себя? Из красногвардейского штаба? Или же сказать – из пункта детского питания?! Когда она шла сюда, все представлялось совсем по-другому: увидит ее Иван Рухлин, и сразу же начнется разговор. Как к нему обратиться? В детстве называла дядей Иваном. Да и последнее время звала только так... А он в шутку величал ее Андреевной.
– Дядя Иван, это я, Надежда Корнеева.
– Корнеева? – строго и недовольно переспросил бас. И вдруг совсем подобрел: – Андреевна, что ли?
– Я, дядя Иван.
– Фу ты, господи, вот уж и вправду нежданная гостья. А я думаю, какой там леший ломится? – Калитка чуть приоткрылась, и Надя увидела рыжебородое лицо. – Молодчина, что наведала колишних шабров... Ты погоди, я кобелей прикручу, такие проклятущие, недоглядишь – насмерть загрызут.
Рыжая борода исчезла, калитка захлопнулась. Наде вдруг захотелось бежать отсюда, чтоб больше не встречаться и ни о чем не говорить с Иваном Рухлиным. Может, и в самом деле убежать? Ну, почему она решила, что ей удастся уломать рыжего Рухлина? А тут еще ноги совсем закоченели. Пальцам не просто холодно, а больно, их будто все время покалывает иголками.
Снова загремел засов, и калитка широко распахнулась.
– Давай входи, Андреевна, – приветливо улыбаясь, пригласил Иван Рухлин. – И не боись, прикрутил своих чертей. – Он запер калитку и повел Надю к дому. В разных местах во дворе рвались и неистовствовали, гремя цепями, неугомонные псы.
– Ну и собаки у вас! – не зная, с чего начать разговор, сказала Надя. – Как звери.
– А мне только такие и нужны. Для обороны от зверья, – самодовольно посмеиваясь, сказал Рухлин.
– А какое здесь зверье? – удивилась Надя.
– Всякое! И разное! Развелось его столько – спасу нет! – И, заметив по выражению Нади, что она не понимает, о чем идет речь, пояснил: – Комиссары, будь они прокляты. Его высочество красное голодранчество. Подохнуть бы им со всем их кодлом. Только их ни тиф, ни холера не берет.
Надю передернуло. С тех пор как она пришла в отряд Кобзина, при ней никто не говорил ничего подобного, и ей захотелось сказать что-нибудь такое, что задело бы рыжего. Но она сдержалась – какой толк спорить с ним, вступать в пререкания? И чему, собственно, удивляться? Не могла же она думать, что Рухлин относится к красным если не дружески, то хотя бы безразлично?
– Не любите красных, – сказала она.
Иван Рухлин не понял, то ли она спрашивает, или же одобряет.
– А чего их любить? Любят баб или же девок, – развеселившись от собственной остроты, он довольно улыбался. – А энтих, краснюков, – лицо его посуровело, взгляд синеватых глаз стал жестоким и злым, – энтих рубать надобно. Дали бы мне волю... – Он не стал пояснять, что стал бы делать, будь его воля, но красноречиво крест-накрест рубанул правой рукой воздух.
– Или кто не дает? – так же безразлично и непонятно, с какой целью, спросила Надя.
Хозяин удивленно глянул на нее: шутит девка или же такая шалопутная, что ничего не разумеет? Интересно спрашивает: «Кто не дает?» Будто не видит, что у него нога покалечена, потому из армии уволился. Вчистую.
Когда поднялись на резной крылец добротного пятистенного дома и хозяин распахнул перед ней дверь в сени, приглашая войти, Надя сказала, что у нее мало времени и в дом она не пойдет. Дело не так уж большое, всего несколько слов. Можно и тут договориться.
Иван Рухлин замахал руками.
– Да ты чего это, Андреевна, выкобениваешься? И скажет же такое – ей времени нету! И разговаривать не стану! – Он почти насильно втолкнул ее в сени, затем в переднюю избу.
Едва Надя перешагнула порог, как ее охватило приятным теплом, в нос ударил вкусный запах щей со свининой и горячего пшеничного хлеба, испеченного на сухих капустных листьях.
Еще не так давно они с бабушкой Анной варили такие же щи и пекли хлебы. И в доме Стрюкова, особенно в кухне и столовой, стоял такой же аппетитный и раздражающий запах. Вспомнив, что теперь на кухне варят жидкую затируху, изо дня в день – затируху! – а Иван Никитич Стрюков ставит на плиту кастрюльку с картошкой, она еле сдержала веселую улыбку.
За столом сидели человек с десять, взрослых и детей, – обедали.
– Видали, кого привел? – обратился к ним хозяин. – Бывшая шабренка, Надя Корнеева.
Сообщение это особой радости не вызвало, а на приветствие Нади ответила только жена Ивана Рухлина, высокая белолицая казачка, с виду намного моложе мужа.
– Как есть ко времени. Гость к обеду, хозяйке радость, – сказала она, выходя из-за стола. – Проходи-ко... Минька, – обратилась она к парню с веселым, улыбчивым лицом и тоже немного рыжеватым чубом, – подай-ко табурет!
Парень весело кивнул Наде, метнулся в соседнюю комнату и тут же вернулся со стулом.
– Видала, Андреевна, какой тебе почет, – мать велела табуретку, а он стул приволок! Стало быть, помнит, как вместе гоняли по улице, – поглаживая усы и глядя вприщурку, сказал Иван.
Введя Надю в горницу, хозяин считал, что его обязанности на этом заканчиваются, и сел к столу. Жена его подошла к Наде и хотела было помочь ей раздеться, но гостья наотрез отказалась, опять сославшись на занятость.
В тоне хозяев она уловила покровительственно-насмешливые нотки, как будто тем самым, что разговаривают с ней, они оказывают ей снисхождение. Так обычно говорят богатеи с бедняком: смотри, мол, какие мы хорошие люди, – хотя ты и не стоишь того, а мы все же тебя не чураемся. Понимай это и цени!
Надя размотала платок и, не снимая шубейки, опустилась на стул.
– Я к вам по делу... – Она хотела сказать «дядя Иван», но почувствовала, что уж больше никогда не назовет его так.
– Шут с ним, и с делом, – прервал ее хозяин. – Ты скажи, живешь все там? У Стрюкова?
– Там, – коротко ответила она.
– Сказывают, сам будто в бега ударился, а потом возвернулся. Верно бают? – спросила хозяйка.
– Верно, – не вдаваясь в подробности, ответила Надя.
– Говорят, в его дому – штаб краснюков, сам комиссар ихний, Кобзин? – спросил хозяин.
– И Кобзин тоже, – ответила Надя, подумав, что спрашивают они просто так, лишь бы спросить, им и без того все хорошо известно. Вполне возможно, что им известно и то, что она тоже у красных. Ну и что же? Разве она собиралась скрывать это от тех же Рухлиных или от кого бы то ни было другого? И насчет Васильевой пришла говорить не как бывшая соседка, а как боец красного отряда. Да, как боец! И, следовательно, нечего ей особенно долго размышлять над тем, что и как думают эти рыжие.
– Самого-то еще не выгнали из дому? – спросила хозяйка.
– Нет. Дали комнату.
– Ну и за такое добро спасибочко, – как-то особенно приторно сказала хозяйка.
Рыжий Минька прыснул со смеху.
Отец кинул на него недобрый взгляд, Минька согнал с лица улыбку и старательно заработал крашеной деревянной ложкой, разгребая на сковороде жареный картофель, вылавливая поджарки и аппетитные свиные шкварки.
– Бают, все начисто пограбили? – спросил хозяин, не отводя глаз от ложки.
– Реквизировали, – ответила Надя.
– Чего?! – не в силах скрыть раздражения, как-то гортанно спросил хозяин. – Слово-то немецкое или как?
– Почему? Наше слово, – сказала Надя. – Отобрали в казну, государству...
– Видали, чего она знает? – обращаясь к сидевшим за столом, сказал хозяин. – А ты, дура неумытая, ей табуретку предлагаешь, – ткнув пальцем в сторону жены, сказал он.
– Так мы чего, необразованные, не все понимаем, с кем и как, – нарочито потупившись, сказала жена и спрятала руки под передник.
– Эх, рубать надобно, рубать до самого корню и с корнем. Напрочь! Чтоб и следа не осталось, – лицо Ивана побагровело.
– Видать, придется пошутковать... – сказал сидевший рядом с хозяйкой черноусый, уже немолодой казак.
Надя не рассматривала, кто сидел за столом, и сейчас впервые глянула на него. «Должно быть, Симон», – подумала о нем Надя. Последние слова обоих Рухлиных сбили Надю с толку: если они знают о ней все, то почему так разоткровенничались при ней?
Все ждали, что она скажет, но Надя промолчала.
– Должно, горюшка хватила, осередь них мыкаясь там, – притворно соболезнуя, сказала хозяйка.
Промолчать и на этот раз – означало бы согласиться с ней. А Надя, наоборот, готова была кричать, что все не так... Да она, может быть, только теперь впервые и узнала, что такое хорошее отношение людей. А Рухлиным, по всему видно, нужно совсем иное.
– Нет, пока не жалуюсь.
– Ну, коли так, дай-то бог... – протянула хозяйка.
– Так об чем у тебя разговор? – спросил Иван Рухлин.
Он резко повернулся к Наде.
Неожиданно заглянувший в окно солнечный луч так ярко осветил его рыжую голову, что она даже сверкнула огневой желтизной.
«Рыжий красного спросил...»
– Я пришла насчет женщины, ее фамилия Васильева, она у вас сено за мужнин костюм выменяла, – не совсем уверенно проговорила Надя.
За столом наступила тишина, все уставились на нее. А Надя продолжала:
– У нее на днях помер муж. Дети пухнут с голоду. Только и надежды – корова. А кормить нечем...
– Здрасте! – зло бросил хозяин и, выйдя из-за стола, руки в боки, стал напротив Нади. – Пущай Советская власть таким помогает, а я тут ни причем. И зря ты, Андреевна, утруждаешь себя.
– Вы не все отдали ей...
– Правильно, не все. Только дело полюбовное. Не смог. Я велел, ежели ей несходственно, пущай возвернет сено, а я ей костюм. Такого добра ныне бери – не ленись. Просят, в ноги кланяются. Каждый день от ворот гоняем. Вот так-то, Андреевна! Ты что же, сама по себе надумала или же краснюки послали?
– Сама...
– Так, так... А все ж, похоже, ты с теми, краснюками? – Рухлин неотрывно смотрел ей в лицо, и в его взгляде было столько ненависти, что Наде стало страшно.
– С ними, – негромко, но твердо сказала она.
– Кому чего. Кто любит попову дочку, кто попову сучку. Ты вот чего скажи нам, шабренка, как там у вас с бабами и девками обходятся? Вот с тобой, к примеру, в очередь стают или же навалом?..
Оглушительный стук в висках... Надо повернуться и уходить, уходить немедленно!
– Такой грязи там никто о женщине не скажет! – сдавленно прошептала Надя.
Больше ей не дали сказать ни слова.
Словно по команде, все сорвались с мест и бросились к ней; все что-то кричали, размахивали перед ее лицом руками, готовые схватить за горло.
За столом остался сидеть только Минька.
Тут прогремел голос хозяина:
– А ну, цыц! Расшумелись, черти! Дай вам волю – совсем заклюете человека.
Надя не ожидала такого оборота и не могла понять, почему Иван Рухлин ни с того ни с сего вступился за нее. Да, да, вступился и спас, ведь жена его уже норовила вцепиться в волосы Нади, а Симон будто клещами сжал ее руки...
После окрика Ивана все отхлынули от нее и, недобро поглядывая, кажется, ждали, когда снова можно будет накинуться...
– Видала, Андреевна? – спросил Иван Рухлин, стараясь говорить как можно мягче и убедительнее. – Вот так в каждой казачьей семье, куда ни взойди: везде тебе будет такая любовь да ласка. И не моги лучшего ждать!
– Казачка – и куды подалась?! К мужичью в подстилку! Ни стыда ни совести! – не сдержалась хозяйка. В этой раскрасневшейся ведьме с побелевшими губами сейчас нельзя было узнать ту вальяжную и добродушную женщину, которую увидела Надя, войдя в комнату.
Иван Рухлин недовольно махнул рукой, и жена, с трудом сдерживаясь, замолчала и, еще раз кинув на Надю гневный и вместе с тем презрительный взгляд, отвернулась.
– Ну чего тебя понесло к ним? Скажи ты мне, Андреевна, – снова заговорил Рухлин. – Мы же с твоим батьком кровь свою вместях проливали за веру, за царя и отечество, за нашу волюшку казачью. А ты плюнула на все и растоптала. Я уже слыхал про тебя – пошла дура-овца под ножик. Сам собирался повидать и покалякать маленько. Ты только о том подумай, что с тобой сделал бы твой батя покойный, случись такое при его честной и примерной жизни? Ведь кавалер егорьевский! А ты все небось позабыла. Заголил бы он тебе зад, взял бы плетку...
Надя все больше осознавала, что здесь не место говорить о том, что ей пришлось испытать в своей жизни и почему пошла к красным, – все равно ее никто не поймет, потому что они совсем иные люди и не могут понять тех, у кого иное отношение к себе подобным. Спорить с рыжим ей ни к чему. Но и нельзя уйти молчком, как побитая дворняга.
– Хватит о моем отце, – прервала она Ивана Рухлина. – Я знаю, какой был у меня отец! И знаю то, что будь он сейчас живой, за эти ваши поганые слова он напрочь выдрал бы всю твою рыжую бороду. Помнишь, как он тебя дразнил: «Рыжий красного спросил, чем ты бороду красил»?