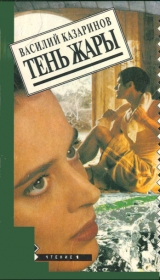
Текст книги "Тень жары"
Автор книги: Василий Казаринов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
– Он что, так и сказал: не наш вопрос?
Она подняла на меня глаза:
– Вот именно: это не наш вопрос – сказал.
Есть речевые обороты, позволяющие определить сорт и качество персонажа. "Это не наш вопрос" – всего одно из родимых пятнышек, какими облеплены с ног до головы все наши начальнички, начиная от президента и кончая вахтером.
– Странно, – сказал он. – Я не запомнил лица. У меня отличная память на лица, но тут я не запомнил.
Наверное, деятель средней руки. У по-настоящему богатых – рожи примечательные.
– А задница?
– Что-что? – близоруко прищурился он.
– Ну, задница у него – какая?.. Могучая?
– Пожалуй, да.
Возможно, в прошлом комсомольский работник. Вообще мне нравятся эти ребята, борцы за идею: вчера – коммунистическую, сегодня – капиталистическую. Наверное, и в конфуцианстве они будут чувствовать себя как дома, если в кремлевских кабинетах – чего у нас не бывает! – вдруг засядут конфуцианцы.
– Давай набьем ему морду?..
Он покачал головой, она тоже: этим делу не поможешь.
Знаю... Все эти домишки, особнячки так и будут потихоньку рассыпаться; их не привести в божеский вид, если не вкачать в дело приличные деньги, – но я все равно с удовольствием дал бы этому пареньку в морду.
Мы пили восхитительно душистый чай, настоянный на каких-то целебных травах, и вели типичную для современного жанра застольную беседу: без цели, смысла, эмоций, без особого интереса к словам и выражениям.
– Работаешь? – спросил кукольник, заваривая свежую порцию (он, в самом деле, божественно готовит чай; чаевничанье в его компании – это не просто питие горячего напитка, это ритуальное пиршество, полезное, ко всему прочему, для здоровья); конфликт в моем желудке стал медленно потухать, враждующие стороны заключили перемирие и прекратили стрельбу. – Или так? Перебиваешься?
– Трудно сказать... Сочинительствую.
Я в общих чертах рассказал о замысле.
Кукольник, свернув челюсть на бок, сосредоточенно скреб подбородок. Замысел он прокомментировал в том смысле, что сам по себе сюжетный ход достоин фантазии матерого, закоренелого клиента психушки, однако, – заметил он, вернув челюсть на место, – он не предполагал, что я настолько "созрел" для этого заведения.
– Хотя... – он медленно, внимательно "лечил" заварку, – такого рода закидоны, теперь, похоже, вполне в рамках нормы.
Еще бы, милый друг, еще бы. Вся разница между жанром недавнего прошлого и жанром теперешним состоит, разве что, в нюансах клинического диагноза: если лет десять назад наше лежание с книгой на диване, эта дремучая, бесконечная берложья лежка, могла быть расценена как тихое помешательство, то теперь шанс выжить есть только у буйно помешанных: все "тихие" незаметно, без криков и причитаний публики, помаленьку вымрут – от тоски, ощущения своей ненужности на этом варварском, языческом празднике жизни, и, конечно, от голода.
– Да, – согласился кукольник. – Кому хорошо, так это – им... Им все нипочем.
Он смотрел куда-то мимо меня – влево и вверх, я обернулся, пустив взгляд вдогонку: цепляясь за книжные корешки, он, наконец, добрался до верхней полки стеллажа.
– Господи! – выкрикнул я. – Нашелся!
У стеллажа, на самой макушке, сидела кукла. Это был неказистый субтильный человечек неясного возраста, роста низенького, несколько рыжеватый, несколько даже на вид подслеповатый, с небольшой во лбу лысенкой и цветом лица, что называется, геморроидальным... Впрочем, в нем не хватало маленького штриха. Я сразу – как только впервые эту куклу увидел – говорил автору, что человечку надо пошить шинель. Дело, конечно, хлопотное, однако куда деваться? А шинель пусть будет из добротного, крепкого сукна, на подкладке из коленкора и с кошкой на воротнике – издали эту кошку вполне можно принять за куницу. Я знаю место! – убеждал я кукольника, – очень хорошие, справные шинели веки вечные пошивает на всю нашу гигантскую орду портной по имени Петрович, жительствующий, как известно, в столичном городе Петербурге, на тусклой улице, в безглазом каком-то доме, с черной, пропитанной насквозь спиритуозным запахом лестницей; мы зайдем и, как всегда, застанем Петровича на месте, и на месте будет его кривой глаз, и изуродованный ноготь большого пальца, и рябизна по всему лицу, и его твердое убеждение – что все наши беды от немцев – тоже будет на месте. Он скосит свой и без того кривой глаз на нас и глубоко потянет воздух, натаскивая в нос нюхательного табаку... Заодно и себе справим новые шинельки.
Помнится, кукольник тогда обиделся немного – он говорил, что, выращивая эту куклу, он не имел в виду Акакия.
– Ну, привет! – сказал я человечку. – Долго же ты гулял.
Он, как выяснилось, нашелся в пивной. Сосед кому-то продал, а новый владелец – того же поля ягода – забыл спьяну на столе.
Со временем кукла сделалась чем-то вроде талисмана в заведении. Ее усадили на высокий подоконник, куда-то под самый потолок: в этой пивнухе окна были как в сортире – высокие и узенькие.
Примерно с полгода человечек взирал сверху на то, как серолицые мокрогубые люди муравьино шевелятся внизу, пьют, блюют, мочатся под стол, дерутся, сквернословят, плачут и засыпают, камнем обрушившись на влажные столешницы.
– Бедный ты, бедный! – жалел я его. – Досталось тебе... И как ты только не рехнулся!
– Он-то в полном порядке! – заверил кукольник. – В полном! Не то что...
Перед уходом я пообещал заехать завтра: помогу хоть вещи на машине перевезти.
– Куда? – спросил устало кукольник.
Об этом я как-то не подумал. Перевозить в самом деле некуда.
6
Часов в семь позвонил Катерпиллер. Выслушав его, я в полный голос, от души выругался. На пороге своей комнаты бесшумно возник Музыка.
– Ты чего? – спросил он.
– Андрюша, – очень серьезно произнес я, прикрыв трубку ладонью. – Кто тут пил керосин? Керосином пахнет.
Музыка оттопырил нижнюю губу и поглядел на меня с явной укоризной.
– Выходит, это наше дело пахнет керосином!
Минутой раньше Катерпиллер будничным голосом сообщил: пропала Виктория.
Мое предложение заехать завтра с утра пораньше Катерпиллер отклонил: устал, вымотался, надо отдохнуть, "отмокнуть".
Я знаю, у него есть бзик, пунктик: если сильно устал, взять машину – не представительную, естественно, а собственный, практически простаивающий без дела "жигуль", старенький, обшарпанный, с треснутым лобовым стеклом – сесть за руль и пропасть из виду.
Пропасть – значит скрыться на даче.
Насколько мне известно, у него дача в ближнем Подмосковье – каменный дом с теплым сортиром, ванной и биде. Но даже в узком кругу мало кто знает, что есть еще одна дача, родительская. Когда-то Пузырь купил простой деревянный дом в старом, еще в тридцатые годы заложенном поселке. Родители умерли, дом пустой – идеальное место для уединенного отдыха.
Согреть мощным кипятильником ванну, залечь, задремать, отключиться – "отмокнуть".
Я спросил, как дела у Бориса Минеевича – поправляется?
Поправляется, но медленно. Врачи говорят, что он пережил мощный психологический шок, и когда его психика придет в норму, никому не известно.
– Ну, счастливо тебе отмокнуть... И вот что. Захвати с собой пару килограммов яблок.
Он не понял и, кажется, немного обиделся.
– Поедание яблок в ванной – это привычное рабочее состояние Агаты Кристи, – объяснил я. – А эта тетка очень хорошо знала, что делает... Лежишь себе, греешься, грызешь шафран... Это стимулирует воображение, в голову приходят интригующие коллизии. Другого способа движения к смыслу нашего сюжета я пока не вижу.
Чахоточный псих похищает людей, доводит их до сумасшествия и отпускает с миром – фабула сама по себе занятная, но она оставляет слишком мало шансов для постороннего в нее вмешательства.
– Кстати, с чего ты взял, что Виктория в самом деле пропала?
– Она не появилась в офисе.
Я вспомнил нашу встречу. Пожалуй, он прав: если такая женщина не появляется в конторе, не уведомляет коллег о чрезвычайных обстоятельствах, внезапной болезни, значит, с ней в самом деле что-то стряслось.
– А дома? Кто-нибудь к ней заходил?
Трубка долго накалялась – ее накаляло молчание Катерпиллера; похоже, что ее навещали. И, скорее всего, навещал он сам.
– Ну?
– Там был я, – едва слышно произнес Катерпиллер.
– Это как же?
– У меня есть ключ. Свой...
Дело, конечно, хозяйское, но я вряд ли рискнул бы приблизиться к такой бабе ближе, чем на три метра. А что касается всего остального, то предаваться с ней любовным утехам – это, на мой взгляд, все равно что спать с гипсовым памятником: гипс – материал хороший, прочный, но он не поддается размягчению, его можно либо раскалывать, либо резать хирургическим секатором.
– Было впечатление, что она вышла на минуту... Ну, скажем, за газетой... И не вернулась. Чашка с чаем в кухне. Сгоревшая сигарета в пепельнице – не искуренная, а именно сгоревшая, остался длинный хоботок пепла... Сидела на кухне в домашнем халатике, покуривала. И сгинула.
– Откуда ты знаешь?
– Что? – не понял Катерпиллер.
– Почему именно в домашнем халатике?
Он без тени смущения разъяснил: это ее (если, конечно, не ожидаются визитеры) привычная домашняя спецодежда, вот так по-простому: коротенький халатик на голое тело – и никаких излишеств. Удобно и гигиенично – в квартире окна на солнечную сторону, да и топят изрядно: жарковато...
– Ты не подумывал о том, чтобы пригласить в фирму – ну хоть бы на денек – специалиста по тропическим болезням?
– Ой, ну хватит! – зло выкрикнул Катерпиллер. – Все тебе шутки шутить!
– Я серьезно. Опять – жара? Похоже, вы подхватили малярию: испарина, жар, впечатление духоты... Ну да ладно. А что милиция?
– Смеешься, что ли? – огрызнулся он. – Какая милиция? Где милиция? Она такими делами не занимается. А потом, у них сейчас одни большевики на уме.
И то верно: большевики вышли из окопов и подсластили серость улиц кумачом. Кроме того – в рамках современного жанра бесследное исчезновение огромного числа людей стало делом привычным. Город превратился в "зону боевых действий", а где война, там и без вести пропавшие.
Я пошел на кухню – согреть чай, поискать в холодильнике что-нибудь съестное.
Из всего обилия продуктов – цветущих, спеющих, сочащихся сладкими соками, лоснящихся, жарящихся, парящихся, пекущихся за прочным переплетом "Книги о вкусной и здоровой пище" образца пятьдесят третьего года – сквозь сито долгого времени прошли и осели в холодильнике три яйца и кусок сала.
Яичница так яичница. Желтки, схваченные раскаленным жиром, взорвались, прозрачный студень белка мгновенно побелел и покрылся ожоговыми волдырями.
Но за шипением сковородки я услышал: Музыка постанывает. Наверное, проснулся и пробует подняться с кровати.
Я подошел к его двери, прислушался.
Звякнула струна – звук секунду постоял над обшарпанной декой, потом тронулся и характерно изогнулся, утончаясь, завиваясь в кудряшку – это Музыка подтягивает колок... Вскоре за дверью зажурчало. "И тогда с потухшей елки тихо спрыгнул ангел желтый"... – я, позабыв про раскаленную сковородку, вознесся в наше старое доброе небо.
***
А свихнулся Андрюша незаметно – даже под нашим добрым небом были все удивлены.
Мало ли что у нас, в Агаповом тупике, происходит – все бывает: спиваются, идут в тюрьму по пьяному делу, тонут в Москве-реке, умирают от сердца, и кто-то даже ухитрился попасть под трамвай – вон как! – но в движениях этой жизни есть своя логика, последовательность и упорство, с которым тот или иной житель нашего доброго неба стремится либо к переломной, либо к финальной точке пути... И вот бабушка, сидя вечером за вязанием в конусе скаредного света от торшера, позвякивает спицами.
– Ничего удивительного, – говорит она и спускает петлю. – Он к этому шел...
Уже вечер; синий абажур торшера глотает львиную долю света, отдавая комнате лишь матовую размытую просинь.
– Свихнулся человек! – подводит итог бабушка.
Кто бы спорил. После какой-то очередной гастроли не приходит он к доминошному столу, хотя и просят его. А на следующий день он возникает во дворе в бабском халате.
– Ах, вы! – обижается он на усмешки. – Это же кимоно! – и, по обыкновению, лезет за пазуху, достает комок купюр – он всегда носит так деньги, скомкав снежком.
Потом Андрюша, как всегда, регулирует пальцем угол булькающего наклона, кидает водку в рот, промакивает губы шелестящим краем японской одежды.
Бабушка откладывает вязание, опускает очки на кончик носа.
– А тебе больше к нему ходить не следует! – и строго смотрит на тебя.
– Не следует ему ходить! – и переводит взгляд на отца.
Отец, ломая о нижний резец карамельку и перечеркивая подбородок липкой нитью патоки, молча кивает.
Это они к тому, что Андрюша учит тебя на аккордеоне.
Ты уже и не помнишь, по какой надобности оказываешься в его комнате... Скорее всего, бабушка посылает – бабушка часто снаряжает тебя к соседям.
– Попроси соли, – инструктирует она. – И непременно заметь, что это взаимообразно.
Ты плохо понимаешь значение этого слова, однако оно ласкает слух и плавно перекатывается на языке, и потому прямо с порога торопишься оповестить:
– Взаимообразно! Спичек у вас нет?
Андрюша сторонится, пропуская тебя в комнату. Ты шагаешь за порог – и слепнешь.
Как богато...
Вернее сказать – как безалаберно-богато живет Андрюша... Тут дорогая мебель; ковер глушит шаг и впитывает все посторонние неуместные звуки; хрусталь в горке магнитом притягивает солнечный луч и рассыпает его на искрящиеся зерна, и эти ослепительные зерна поклевывает тонконогий журавль, вписанный в бедро огромной напольной китайской вазы...
– Вы так живете...
– Богато, что ли? – смеется Андрюша. – Да уж...
И только немного освоившись с обстановкой, начинаешь ты понимать странное свойство его богатств, их безалаберное нагромождение. Ковер по центру залит чем-то темным, чернильным, ваза припудрена пылью, мебель абы как расставлена... "Ну что же, – думаешь ты, – легкие деньги, легкое богатство". А наши богатства, собранные по копейке, наши трудовые, чугунно-тяжелые роскошества – все эти комоды, шифоньеры, трюмо, бабушкин торшер, кроватные коврики, грубая грань плебейских стаканов в алюминиевых подстаканниках – они имеют совершенно иной, основательный смысл, а тут что? Легкие деньги...
Пока он ищет спички, ты подходишь к аккордеону, стоящему на стуле.
– Вещь, да?! – оживляется Андрюша. – Вещь, сынок, шесть регистров, это тебе не гармоника... Хочешь?
Он усаживает тебя на стул посреди комнаты, приказывает не горбиться, осторожно опускает инструмент на колени – ноги сразу начинают ныть под тяжестью инструмента. И невозможно себе представить, что этот холодный перламутровый ящик хранит в себе божественный звук, и этот звук можно достать из него вот этими твоими деревянными пальцами.
– Ничего, ничего, – успокаивает Андрюша, – дело привычки. – И пропихивает твое плечо в черную петлю лямки. Он устанавливает левую руку, массирует кисть и помогает тебе на первый случай растянуть меха.
– Дышит, – говоришь ты. – Как живой...
Он будто бы пропускает твой голос мимо ушей; он занят вылепливанием твоей руки, но вдруг он опускает пальцы – инструмент замолкает и очень долго молчит – Андрюша вглядывается в твое лицо. Очень тихо, с крайней степенью серьезности и удивления он говорит:
– Да-да. Как ты хорошо сказал! Конечно, живой, конечно! Будем играть, обязательно! – и ты ходишь к нему три раза в неделю заниматься.
Ходишь в том случае, если Андрюша трезвый. Когда Андрюша пьяный, к нему лучше не заходить – он плачет.
Однажды ты видел.
Ведь не один женский халат привез тогда Андрюша из поездки в какие-то дальние страны. Среди привычной роскоши в его комнате расцвел еще один предмет, и это был совершенный блеск! Как блестели никелированные ручки, и как необычна была сама форма предмета – не то что грубые ящики наших шепелявых радиол! И не кривой, как загипсованная рука, сустав звукоснимательной трубки... И никакой шепелявости, никакой шершавости звука: изящная никелированная лапка, слегка согнутая в запястье, плавно опускается на вертящийся блин пластинки, и видно, как поблескивает тонкий, алмазный ноготок иголки... Андрюша сидит на полу, нелепо разбросав ноги, глаза его прикрыты, а губы шевелятся в такт покачиванию пронзительно-тонкого детского голоса, звучащего в динамике восхитительного проигрывателя:
– О со-о-о-о-о-ле, о со-о-о-о-ле миа...
В том месте, где голос взлетает, проясняется до самого светлого, ангельского тона, Андрюша распахивает влажные глаза. Медленно гаснет детский голос и тонет в шипении холостого хода пластинки; никелированная ручка подпрыгивает, будто поймав занозу под ноготок, и висит над диском – как дамская рука в кружевной розетке, ожидающая поцелуя. Взгляд Андрюшин твердеет, он замечает тебя.
– Аа-а, это ты... – уронив голову на грудь, он тихо поскуливает, – "И тогда с потухшей елки... и сказал он мне, маэстро... маэстро..." Забыл. Забы-ы-ы-л...
– "Маэстро, вы устали, вы больны", – поддерживаешь ты шаткую его память.
Он вскидывает голову и тянет к тебе руки: в глазах его стоит какая-то просьба – такой глубины и такой степени сокровенности, что, пожалуй, это и не просьба вовсе, а скорее мольба, но, по молодости лет, тебе трудно проникнуть в ее смысл, и, коченея от стыда, ты подвываешь:
– Говорят, что вы в притонах... По ночам поете танго.
И Андрюша плачет уже навзрыд.
А через два дня он ничего такого не помнит; он с прежней доброжелательностью вылепливает твою левую руку, пристраивает к клавиатуре правую – кажется, ты делаешь успехи. После занятий вы пьете чай с баранками, Андрюша рассказывает про многочисленные поездки с ансамблем народных инструментов.
Афишными листами тут заклеены все стены – по ним ты станешь изучать географию. Вон тот лист, справа, у окна – это Тамбов (в городе Тамбове скверная гостиница и кран в номере течет). Рядом – Калуга (в Калуге есть река Ока). Следующий квадрат – это Венеция (там, на большой площади с цокающим именем, на какой-то там Ламца-дрица-и-ца-ца-площади мы подарили девушке-цветочнице матрешку и она засмеялась: "Грацци!"). Рядом – Неаполь (здесь свежий ветер из гавани мягко, как пушистая мыльная пена для бритья, ложится на щеки, и пронзительно пахнет морем, рыбой, подгоревшим кофе, легким бесцветным винцом из открытой кафешки, накрытой матрацно-полосатым тентом; покрикивают торговцы на рыбном базаре, и все, что есть тут, живет и движется – звучит, звучит в неярком, пастельном мажоре; музыкальный аппарат в кафе самостоятельно выбирает пластинку из длинного ряда, укладывает ее на диск, а из динамиков звучит этот немыслимой чистоты голос: "О соле, о соле миа..." – эту пластинку мы купим...)
Но музицируем мы все реже и реже.
Андрюша почти каждый день бывает во дворе, и, значит, к вечеру он бывает пьян, а в нашем добром небе, во всех его закоулках и подворотнях, во всех распахнутых окнах поселяется со временем тот светлый ангел, голос которого ты когда-то слышал в Андрюшиной комнате. Он теперь у нас ангел-хранитель на свадьбах и именинах, ангел-благовест на застольях по случаю рождения детей – и только на похоронах он молчит.
"А-а-а-ве, Мари-и-и-я..." – в одном окне. "Джа-ма-а-а-йка!" – в другом, а Андрюша все свихивается и свихивается; руки твои постепенно черствеют без музыкальных упражнений, и как-то вечером отец приказывает:
– Чтоб к нему больше ни ногой!
– Верно, – соглашается бабушка, – пусть ходит в музыкальную школу... В класс фортепиано.
И постепенно пропадает Андрюша – вернее сказать, он умолкает: он больше не звучит, и становится во дворе тихо, настолько, что даже в нашем старом добром небе были все удивлены.
* * *
7
Виктория нашлась через неделю.
Ее подобрал на пустынном участке шоссе, километрах в ста от Москвы, один из "дальнобойщиков" – водителей тяжелых трейлеров*[25]25
* К характеристике жанра. Эти «дальнобойщики» – славные ребята. Они любят жизнь во всей ее полноте. Кому из них принадлежит идея секс-автостопа, сказать трудно, но он, первооткрыватель, этот Колумб дальних трасс, этот сэр Морган и Магеллан, провонявший соляркой, был человеком сметливым, проницательным и творческим – он открыл простую вещь: если ты подкинул девушку до места, то вовсе не стыдно потребовать плату за проезд «натурой». Он был дитя перестройки – ибо вторым фундаментальным моральным приобретением эпохи (вслед за презрением, что жопу, оказывается, можно называть просто жопой), является тот приятный во всех отношениях факт, что девушки стали потрясающе слабы на передок.
Однажды мы с моим приятелем-кукольником выпили у негр в мастерской и настучали в Департамент транспорта письмо с просьбой оформить нам документы на ноу-хау. "Если прежде, – писали мы, – эффективность грузовых перевозок определялась мистической величиной "тонна-километр", то теперь ее следует оценивать в "коитус-километрах"".
[Закрыть]. Скорее всего, он толком и не разглядел, кого подхватил. А присмотреться стоило.
Она была одета в коротенький шелковый халат и легкую мужскую куртку, которая была ей явно велика.
Только в кабине оценив приобретение, "дальнобойщик" счел нужным подбросить ее до ближайшего поста и сдать от греха подальше на руки гаишникам.
Симптомы все те же, что и у "ньюс-бокса": провалы в памяти, крайнее физическое и нервное истощение.
Я заехал в контору и первым делом узнал у Катерпиллера, что она выписывала.
"Коммерсант", "Куранты", "Независимую".
Что ж, обойма вполне в ее характере.
– Только это?
– Кажется, еще что-то... Да, "Известия". Это имеет какое-то значение?
Возможно, возможно... "Известия" – вечерняя газета, ее просматривают на сон грядущий.
– Да-да, она всегда перед сном читала. Кажется, "Известия".
Занятное, наверное, зрелище: она читает, Катерпиллер ерзает под одеялом и где-то в районе пятой полосы раскаляется настолько, что начинает дымиться.
Ее обнаружили, настолько мне известно, в странном наряде: шелковый халат – не та одежда, в которой выходят перед сном подышать воздухом. Значит, она спустилась за газетой, и наш персонаж поджидал ее в подъезде.
– Там есть где спрятаться?
Он прищурился, припоминая.
– Пожалуй... Да, у лифта маленькая ниша.
– А куртка?
– Что куртка?
– Болоньевая коричневая куртка. Фасон начала восьмидесятых годов. Теперь в таких ходят на дачах. Это твоя куртка?
– Нет. И у нее такой не было. Точно.
Мы знаем пока чертовски мало. Он покашливает – впрочем, это детали, не существенно. Существенно вот что: он знает людей из фирмы и знает неплохо. Знать их привычки – это уже полдела. Борис Минеевич имеет привычку прогуливаться по вечерам с собачкой – он ждет его во дворе. Виктория перед сном спускается за вечерней газетой – он караулит ее в подъезде.
– Ты увольнял кого-нибудь из конторы в последнее время? Выгонял? Вышибал на все четыре стороны?
– Нет. Ничего такого.
– Он имеет какое-то отношение к вашим делам. Или имел. Значит, в ваших делах что-то не так.
– У нас все чисто! – снисходительно улыбнулся Катерпиллер. – Безупречно!
– Это ты в налоговой инспекции станешь рассказывать... Чтоб в ваших делах, да все чисто – так не бывает.
– Я в том смысле, что все в рамках нормы. Все до последней запятой.
– Выходит, не все. В той голубой папке, что приносила Виктория, я ничего не нашел, никаких зацепок – в коммерции ни черта не смыслю. Зато смыслишь ты. Вспоминай, вспоминай... Кого-то вы сильно нагрели. Раскинь мозгами, вспомни. Наш воображаемый герой вас знает – это бесспорно. Равно как и то, что он душевнобольной... Ладно, пока, я заеду к ней в больницу... Кто-то из ваших у нее уже был?
Катерпиллер показал глазами на дверь:
– Лена... Ну та, что в приемной сидит. Они вообще-то дружны... Такая, знаешь, могучая бабская солидарность.
В приемной Лена метнула в мою сторону косой взгляд, короткий, но достаточный, чтобы прочесть в нем намек: скажем, присесть, как обычно, на край ее стола; скажем, поинтересоваться, как жизнь молодая; скажем, позвать в кабак.
Старик Фрейд туг бы не смолчал.
8
Бумажку с адресом клиники (Катерпиллер сунул ее в карман моей куртки несколько небрежно – так рассеянно погружают в карман ресторанного швейцара банкноту) я развернул только в машине.
Пока я был в конторе, потек снег – он плавно соскальзывал по слегка наклонным трассам дождя и у самой земли распадался в водяную пыль. Я быстро пробежал взглядом адрес, кинул записку в ванночку для мелочевки под "ручником", тронулся – и тут же встал. Перечитал.
Заполняя листок своим аккуратным мелкозубым почерком, Катерпиллер бубнил себе под нос: "Бабки, милый мой, бабки!" – я не придал значения этой фоновой реплике, и только теперь оценил ее.
Его платиновое перо проложило вектор моего движения – в Кунцево... Аббревиатура "ЦКБ" кое-что, да значила.
Машину я поставил за автобусной остановкой. Отсюда, не спеша, тянулся народ с сумками и авоськами – процессия медленно всасывалась в пограничную будку слева от широких ворот. Скорее всего, там бюро пропусков.
Очередь к квадратным маленьким окошкам подвигалась медленно. Я отстоял минут двадцать... Согнулся, просунул голову в глубокий проем. Меня поразил не столько даже идеальный порядок, царивший в канцелярии, сколько хранители и распорядители пропускной карусели.
Визитные нужды граждан обслуживали два человека с лицами отставных офицеров госбезопасности: в них не читался ни возраст, ни образ мыслей, ни степень заостренности интеллекта – профессиональная ценность таких лиц состоит именно в том, что они – никакие.
Исследовав записку с именем и фамилией пациентки, один из них порылся в картотеке, извлек из нее бланк, внимательно его просмотрел и медленно перевел взгляд на меня.
– Паспорт! – требовательно произнес он странным, загнанным вглубь грудной клетки, голосом; губы его при этом едва шевельнулись.
Паспорт. Об этом я как-то не подумал... Я даже не знаю, есть ли у меня паспорт. Во всяком случае, уже не меньше года я его не держал в руках.
– Хотя, – продолжал он, – это дела не меняет. Во-первых, она никому не заказывала пропуск. И, во-вторых, к ней пока нельзя.
Интересно, как в таком случае удалось прорваться ее подружке из приемной – взятку, что ли, она дала на вахте?
Я вышел на улицу и двинулся вдоль прочного бетонного забора. Еще совсем недавно эту стену охраняли, наверное, не хуже, чем Берлинскую. Хотя вряд ли находилось много охотников бежать из-за ограды во внешний мир.
О том, чтобы перелезть, нечего было и думать. Но метрах в пятидесяти от ворот я приметил как раз то, что мне нужно: любопытствующая береза наклонялась к забору и заглядывала на запретную территорию. Лазать по деревьям я еще не разучился. Мускулистая ветвь стряхнула меня на ту сторону, в компанию низкорослых декоративных елок.
Я почувствовал себя лазутчиком на вражеской территории. И не потому, что пиратским способом проник в заповедные земли, а просто здесь стоял другой воздух: слегка мутнее, спокойней обычного городского, и с примесью горчинки – где-то неподалеку явно жгли костер.
Сладкая, полной спелости тишина особого сорта – такая созревает, разве что, в осеннем подмосковном лесу – стояла меж деревьев и продлялась в сырой аллее. Асфальт дорожки был ритмично насечен разметкой для пешеходных прогулок. Миновав монументальный корпус, крепко сбитый в духе ампира пятидесятых годов, я двинулся в направлении зданий поздних времен: одно из них помечено номером двадцать – это и есть цель моего визита.
Просторный, окрашенный в дорогие, добротные тона мореного дуба холл улетает высоко-высоко – под гулкие своды на уровне второго этажа, и притененный воздух этого большого пространства мягко, но упорно давит на плечи, сообщая всяк сюда входящему ощущение мелкотравчатости.
В отделении, в тесном закутке за полураскрытой матовой дверью сидела на низком стульчике женщина. Она удерживала – характерным вывихом плеча и легким наклоном головы – рогалик телефонной трубки. "Да... Да-да... Да-да..." – она медленно переводила взгляд с блокнота, где что-то быстро писала, на меня; она меня видела и не видела – слишком, наверное, была увлечена беседой.
Молода и очаровательна – вот и вся информация, вынесенная мной из нашего немого общения. Даже мягкая коричневая пижама с жирным кремовым мазком на лацканах и манжетах не смогла снизить впечатления. Она придавила ладошкой трубку: обнаружила меня, наконец, в узком проеме слегка приоткрытой двери и в ответ на мой извинительный шепот: "Дежурный врач?" – разрубила ладонью воздух: поперек, а потом под прямым углом – вдоль.
– По коридору прямо и потом направо?
Она кивнула. В том же направлении двигалась пожилая медсестра, она подталкивала впереди себя большую сервировочную тележку на колесиках.
– Дежурный врач?
Мы поравнялись, и я обратил внимание на причудливую лепку ее челюстного механизма: в профиль он напоминал плоскогубцы.
– Одну минуту! – кивнула она. – Посидите, будьте любезны!
В конце коридора появился молодой человек – щуплый, с очень подвижными бровями. В лице его скрывалась какая-то мука. Пока он шел ко мне, я пробовал определить природу этой муки. Если он окажется заикой, я непременно займусь углубленным изучением физиономистики.
Он рассматривал меня с интересом.
– Вы т-т-т-ут инк-к-к-огнито?
– Угадали... – мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. – Я в некотором роде контрабандный товар. А как вы догадались?
Он мягко улыбнулся. Скорее всего, информация о всяком входящем-выходящем поставлена тут четко – давно поставлена и основательно. Он указал на несколько добротных кожаных кресел, стоящих у окна. Мы присели. Он некоторое время внимательно изучал мою новую визитку, выданную в конторе Катерпиллера. Визитка его вполне устроила. Кажется, мы сразу прониклись взаимной симпатией. Поэтому я разрешил себе спросить о том, что меня, в свою очередь, сильно заинтересовало еще в машине, когда я разглядывал записку с адресом.
– У вас тут... Как это принято выражаться? Новый контингент?
– Да я бы н-н-н-е сказал...
– Неужели? Что? Все прежние? А святая борьба с привилегиями, а, доктор? – я погрозил ему пальцем. – Вы мне, пожалуйста, не клевещите на нашу народную власть! Я сам видел в телевизоре, что Борис Николаич лечится в обычной районной поликлинике. А проживает в обычной блочной хрущобе,
– Н-н-да? – он опять мягко улыбнулся. – Я т-тоже видел. И еще в-в-в-идел, что Борис Николаевич ездит с п-п-п-ролетариями в т-т-т... т-т-т-т...
– Трамвае?
– Вот-вот! Именно в т-т-рамвае.
– Но ведь у вас тут теперь не только номенклатурные граждане отдыхают, ведь так?
Он не захотел вдаваться в подробности: да, есть немного, но они платят большие деньги, очень большие.
Узнав, по чью душу я прибыл, он оживился.
– Все это н-н-емного странно...
– Странно – что именно?
Значит, так у них есть врач, очень хороший парень, его все любят, интеллигентнейший человек. Вчера он дежурил. Она спала. Он зачем-то присел на койку – пульс измерить или еще что-то. Она открыла глаза и страшно закричала. Вырвалась, пыталась убежать из палаты. Словом, подняла на ноги все отделение. Ее едва успокоили.
– Что она кричала? Что-то членораздельное?
– Д-д-а, вп-п-п-олне...
Она кричала: "Уберите эту черную рожу! Уберите эту черную рожу! От него пахнет зверем!"
– При чем тут черная рожа!
– Видите ли... Он т-т-уркмен... Откуда-то с дальнего юга, такой характерно темнолицый. Он прекрасный ч-ч-человек. И врач отменный...
Извинившись, что оторвал его от дел, я направился к выходу. Он меня нагнал.
– Т-т-ут один момент... П-п-п-икантный. Ее смотрел г-г-инеколог...
Гинеколог? Мне прежде казалось, что, если человек свихнулся, ему нужен психиатр.
Нет-нет, я не так понял... Просто обычное комплексное обследование.
– Ну-ну, интересно.
– П-п-п-онимаете... – у него был вид человека, вдруг усомнившегося, что дважды два – четыре. – Такое впечатление... Это впечатление специалиста, вы же понимаете... – он замялся.








