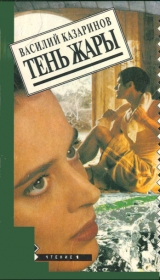
Текст книги "Тень жары"
Автор книги: Василий Казаринов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)
ВАСИЛИЙ КАЗАРИНОВ
ТЕНЬ ЖАРЫ
«Не был, не участвовал, не состоял, не привлекался» – очень симпатичный и плодотворный биографический мотив. Итак, по порядку. Не был: в длительных загранкомандировках в составе дипкорпуса на ответственных партийных и комсомольских должна не был вхож: в высокие кабинеты и гастроном № 1 на ул. Горького, в среду литературно-художественного истеблишмента и апартаменты директора мебельного магазина. Не участвовал: в строительстве БАМа, опасной и трудной работе КГБ, акциях Комитета советских женщин, ДОСААФ и прочих славных организаций. Не состоял: во Всесоюзном обществе борьбы за трезвость (категорически!) и Всероссийском клубе дураков (к сожалению). Не привлекался: к уголовной ответственности, зато очень часто – к ответственности должностной: множество выговоров за прогулы, связанны с катанием на лыжах в горах.
Сочинять начал в восьмом классе, когда решил: если в этой жизни кем-то быть, то только творческой личностью. Эта кривая дорожка, понятное дело, привела на журфак МГУ, а там – пять лет сплошной фиесты: немного Аристотеля, Сервантеса, Канта, Достоевского и очень-очень много веселья. Далее следуют десять лет работы в журнале "Студенческий меридиан, коллектив которого выделялся в молодежной прессе тремя достойными качествами: нескучность, любвеобильное и пристрастность к горным лыжам. Между делом писал рассказики и готовился к карьере дворника, однако был принят в Союз писателей. Кое-что из рассказов прошло в последнюю пару лет в журналах, несколько повестей валяются в столе и скорее всего проваляются до второго пришествия: обычная, медленная проза – крайне неходовой товар. Другое дело – жанр "Городских приключений", в котором сделана эта книжка, он пока оставляет кое-какие надежды на публикацию. Планы на будущее? Дальше завтрашнего дня они не простираются Политическое кредо? Посоветовать политикам повсюду таскать с собой дезодорант – от них дурно пахнет. Вот и все. В остальном – "не был, не участвовал, не состоял, не привлекался".
Василий Казаринов
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
КАШЕЛЬ
играем в «двенадцать палочек»
Сказать бы, как положено: «от автора», однако статус водящего точнее по смыслу; автор трудится долго, монотонно, упорно составляет свои бессмертные тексты и потом, муки страшные терпя, колотится он по издательским кабинетам, следя за уверенным движением редакторского скальпеля, и выхаживает свои кастрированные тексты – так зачем нам, граждане, эти муки, давайте лучше встанем в круг, сосчитаемся: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить...» – и выберем водящего.
А водящий? Ну что, водящий –он играет, водит в игровом поле, только и всего.
Человек придирчивый, конечно же, наморщит нос: в игры играть? Старо, старо. Ровно, гладко, непыльно, ибо даже пыль игровой площадки осела на штиблетах корифеев, унесена по домам, где тщательно счищена, собрана, просеяна и распылена по страницам книг...
С почтением и грустью читал я уже сравнительно давно в "Магазин Литерер" душевную беседу изящного критика с одним из признанных мастеров игры... "Вы утверждаете: "Постоянное присутствие чувства игры объясняет или, по крайней мере, оправдывает много из того, что я написал или пережил. На протяжении всей этой магической диалектики человек-ребенок борется за то, чтобы поставить последнюю точку в игре своей жизни. В конечном счете это игра в шахматы со смертью, с судьбой?" – "Да, естественно. Когда я говорю – игра, я имею в виду не игру в мяч во дворе. Хотя даже и в этом случае дети играют серьезно. Взрослые не замечают, как важна игра для детей. Помню свой позор, когда в разгар какой-то дворовой игры явилась моя тетка и завопила: "Пора идти мыться!". Это было так смешно и глупо... Что мытье? Обычная рутина. А игра – это ритуал, настоящая церемония. Литература в этом смысле – моя площадка для игр. Я пишу играя, но я играю серьезно...".
Почтительно к этим беседам прислушиваясь, я вдруг подумал, что на игровой площадке и нам может достаться крохотный уголок. Играли же мы когда-то– человеко-дети – в "прятки", "салочки", "ножички", "пристеночек", в "царя-горы", "нескладуху-неладуху", "фанты", в "кучу-малу", в "двенадцать палочек"... И все это – забавы сугубо нашенские. Не оттого, что у детей иных племен и народов нет аналогов (наверняка есть!), а просто в наших дворах особенное ощущение игры живет, у наших игрищ своя прелесть, она – в незнании зачем игра. Бесцельность есть цель ее и смысл, ее душа и ее строгое правило – на этот счет даже всезнающий Ушаков сунет нам в потную ладошку свою шпаргалку: "Игра – вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в результате, а в самом процессе".
Словом, играем. На первый случай – в "двенадцать палочек" и в "прятки". Вы разбегайтесь, прячьтесь, а я стану водить, – мне некуда деваться, потому что хвораю я в последнее время, года два уже кашель мучает; а с недавних пор еще одно нездоровье преследует, по науке его бы следовало назвать "синдром Корсакова" – по нашему же, по-простому, это похмелье.
Глава первая
Они отгородились от Нас законом и прочными стенами, Они врезали в двери умные кодовые замки и наняли охранников. Они завели свирепых псов и кормят их вырезкой – успокоенные иллюзией тишины. Они усаживаются за вечерний чай. Но Мы, дети одноухого безумца, умеющие проходить сквозь стены, проникнем в Их дома и встанем у Них за спиной.
1
Все меня устраивает в работе консультанта, за исключением одного милого обстоятельства – за исключением перспективы, что сейчас мне отрежут яйца, сварят их вкрутую, измельчат и пустят на приготовление салата «оливье».
Мой визави старательно выдерживал паузу, неторопливо курил и наконец перешел на сладкий сокровенный шепот:
– Да-да, вкрутую, значит... Потом покрошим немного вареной картошечки, колбаски, мясца. Что еще? Да, зеленый горошек. И заправим майонезом.
Он подумал и добавил:
– А потом ты этот салат сожрешь.
– Не пойдет! – возразил я, справившись с приступом тошноты.
Не стоило ввязываться в полемику. Сигарета (он прикурил, вставил мне в рот – руки-то связаны за спинкой стула!) упала на пол. Он аккуратно, носком ботинка, вдавил ее в землю.
– Ничего, – сказал он. – Переживешь. Устроишься евнухом в гарем, там баб много... Или ты не любишь баб?
Я сказал, что люблю, но суть не в этом.
– Да ну?
– Ну да... Я терпеть не могу салат "оливье". Он развернул лампу в мою сторону, я инстинктивно зажмурился.
– Вкусы у вас тут... Ты фильмов про гестапо насмотрелся, что ли? Брось... Кстати уж, в гестапо, чтоб ты знал, для разгона милой беседы в бетонных подвалах давали пожрать. Кофе и булочки. Сначала пожрать, и только потом – иголки под ногти.
Он рассмеялся.
Я не видел его, поток света глушил зрение – оставалось домысливать. Я домыслил его улыбку – странную, горизонтальную; уголки губ у нормального человека движутся вверх, но в этом лице мимическое движение не знало вертикалей, оно растекалось строго по горизонталям и хищно утончало рот. Ничего хорошего от таких садистских улыбок я не жду.
Смех у него мелкий, рассыпчатый – так посмеиваются старики. Если хотите представить себе нечто такое, вообразите сочный комок здорового хохота, по которому прошлась борона.
– Ага, сейчас... И рюмку коньяку. А потом, на сладкое, пудинг с малиновым сиропом.
И то: я бы выпил. Но лучше портвейна – черного, суррогатного, из семейства "солнцедаров" – не согревает, зато успокаивает.
Насчет салата я серьезно.
В самом деле ведь не выношу – ни внешний вид, ни запах, ни тем более вкус. Когда-то, в другой жизни, – когда девушки пахли ландышами и порхали где-то вне суровой миллеровской правды (и значит женщину невозможно было себе представить восседающей на биде и жующей при этом хлебную корку с голодухи) – так вот тогда мне как-то случилось отведать этого салата и горько об этом пожалеть.
Детали упали на дно памяти и растворились в ее марианских глубинах, где обитают одни пучеглазые морские чудовища, фосфоресцирующие рачки и вялые люминесцентные каракатицы, и все, что еще шевелилось там, на дне, шевелилось и тускло мерцало, представляло собой интимный, припухший свет ночника, обволакивающий чьи-то женские ноги, очень стройные и достаточно длинные, закинутые на стол, кислую брагу чьих-то голосов, огни города, стоящие в черном, слезящемся окне, хрип пленочного магнитофона – динамик буквально разрывал на части фантастический голос Джанис Джоплин (и как эта полугениальная-полусумасшедшая девочка умещала в своем детском теле такой гигантский голос?), плошку с салатом "оливье" в окружении темных свечек "Старки".
Да, "Старка", прежний свирепый напиток, черный, терпкий.
Прелесть тогдашнего жанра состояла в отсутствии завязок и развязок; это было сплошное, вытянутое во времени и пространстве действие, сочная густая материя, сотканная из алкогольного пара, любовного пота и того особого блаженства, которое гарантировано при полном отсутствии мыслей, – так что повод той пьянки я теперь вряд ли вычерпаю со дна памяти. Зато отчетливо слышу во рту привкус: "Старка" и салат, салат и "Старка". Потом было шатание по улице, заползание в подъезд, трудное восхождение почти на четвереньках по лестнице, половичок у двери. Половичок и принял на себя извержение вулкана, его горячую лаву, состоящую из чистой "Старки" и салата "оливье". Кажется, я так и стоял – почти на четвереньках – пока дверь не отворилась. У порога возникли тапочки с опушкой, напоминающие собак болонок.
Пикантность ситуации состояла в том, что я, как потом выяснилось, не дополз до нужной мне квартиры и все случилось этажом ниже. Хозяйкой тапочек-болонок оказалась наша преподавательница древнерусской литературы, странная женщина, созданная из чрезвычайно хрупкого материала, из чего-то мимозного; она проросла откуда-то явно не из нашенской почвы и, скорее всего, отслоилась от порыжевших фотографий, где в позолоченных рамках стоят барышни на фоне парадных, мраморно-хрустальных, интерьеров женских гимназий... Она что-то говорила – не помню о чем, – но я чувствовал медленное увядание ее мимозного голоса.
Если когда-то в жизни я и испытывал чувство стыда, то это именно тогда, у ее двери. С тех пор я не выношу салат "оливье".
Мой визави повернул лампу.
– Здесь я командую, понял?..
Сначала я ничего не различал. Глаза привыкли, я опять увидел все то же: стол с лампой, два стула. Холодно, землей пахнет, могилой – я сразу, как только очнулся, догадался, что это погреб. Уютный пыточный погребок в каком-то загородном помещении.
Он встал, прошелся, размял суставы.
– Давай, колись! – в который уже раз повторил он. Рука нырнула за пазуху, в ней возник темный предмет. – Догадываешься?
Догадываюсь: газовый пистолет. Кажется, я уже испробовал на себе его действие.
Он приподнял дулом мой подбородок. Ствол холодный; неужели у него за пазухой – как в погребе?
– Слушай, ведь это мелочи, ерунда... Всего чуть-чуть информации по последним контрактам вашей лавочки. Всего-то...
– Я ж тебе говорил. Я к этому не имею отношения. Я вообще про эту контору впервые слышу.
– Ага! – засмеялся он. – Естественно! – и сунул мне под нос бумажный квадратик. – Тут про это написано на русском и английском языках.
У него моя визитка. И я в ней обозначен как консультант фирмы. Скверно. Надо как-то поменять тему разговора.
– Туг не видно хода светил... Сколько времени вы меня держите в этой яме? Сутки? Двое?
– Трое, – пояснил он. – И вообще, я с тобой затрахался, пора нам закругляться.
Значит, трое суток, если не врет.
Трое суток назад среди бела дня они сняли меня прямо на улице, неподалеку от метро "Красносельская". Я дожидался зеленого сигнала светофора, за спиной жужжала толкучка: тетки с авоськами, дамы, задумчиво закусывающие губу у ящиков с дорогостоящей хурмой, попугайская раскраска столиков с "колониальными товарами", ряды цветочников, шарканье сотен подошв, растерянное озирание по сторонам провинциала – меня аккуратно, без суеты, изъяли из этих шумов, запахов и движений.
На "зебре" притормозил стального оттенка "москвич", кто-то заломил мне сзади руки, впихнул в машину, в лицо ударила пушистая струя (газ? скорее всего...), в голове возникла качка – на этой плавной волне я и вынырнул из забытья здесь, в погребе, где мой тонкоротый собеседник желает получить конфиденциальную информацию. В противном случае он осуществит свои гастрономические фантазии, и мне в самом деле придется подыскивать должность евнуха.
А вообще-то он настроен серьезно *.[1]1
* К характеристике жанра. Все они серьезны до нельзя, но глупы. В толпе их вычислить нетрудно: костюм «найк», банка «Карлберга» в руке. Прежде на курортах особым шиком считалось ходить в полосатых пижамах... Ни черта не меняется в нашем отечестве: опять все в тех же «пижамах» – только теперь от «Найка».
[Закрыть]
– Мне надоело, – вздохнул он. – Ведешь ты себя кое-как... Жаль. А вроде неплохой парень... Сам-то я к тебе ничего не имею.
Я поерзал на стуле, пытаясь размять затекшие суставы. Он равнодушно следил за моими неловкими телодвижениями, вернее сказать, намеками на движения.
– В моем положении полагается последнее слово и последнее желание.
Он сплюнул, посмотрел на часы: "Ну? Быстрее, быстрее!" – прикурил, вставил сигарету мне в губы.
– Еще что-то?
– Да мелочь... Девушка, Алиса... Это что – тоже ваша "посылка"?
Он попробовал изобразить недоумение – неловко, слишком театрально, актер из него дрянной; впрочем, зачем ему? Ежели занят профессиональными заплечными делами, то актерский навык ни к чему, такие роли не играют на публике.
Значит, все-таки Алиса, эта милая "девушка с римских окраин" – их дела. Значит, я прав: для разведки неделю назад они послали ее мне для первичной, так сказать, проработки материала.
Надо отдать должное их вкусу – персонаж они подобрали очаровательный: формами она в самом деле ничуть не уступала тому типу женщин, какой принято называть "девушка с римских окраин" – и я сразу сделал ей комплимент*[2]2
* К характеристике жанра. Фундаментальный нравственный итог перестройки, по-моему, состоит в том, что мы наконец жопу стали называть просто жопой, и не утруждаемся отныне поисками эвфемизмов. Собственно, с этого и началось наше близкое знакомство. Я сказал ей: «У тебя очаровательная жопа!» Девушка римских окраин отреагировала сугубо деловым тоном:
– Я знаю.
[Закрыть].
Я приготовился в красках живописать, что у нас было после обмена впечатлениями, но его рука прочертила в воздухе плавный полукруг, в лицо ударил знакомый запах, и я отплыл куда-то на плавной волне.
2
Я отплывал из подземной гавани с легким сердцем и с надеждой: я выгребу, я обязательно выберусь, глотну свежего, пахнущего солью, водорослями и раскаленной галькой воздуха, я пообсохну на сухом горячем ветру, приду в себя, соберусь с силами и навещу Катерпиллера. Я навещу его в офисе: сперва набью ему морду, а потом мы за чашкой кофе побеседуем. Кое-что мне надо выяснить. Есть в перипетиях этого сюжета нечто такое, что мне выяснить необходимо.
Какое-то время я не смогу двигаться. Но мышцы отдохнут, я встану и выйду отсюда.
3
Трудно сказать, сколько времени я пролежал без сознания – важно то, что именно пролежал. Я нашел себя на холодном полу; я уже не был привязан к стулу, это само по себе отрадный факт.
Первое, что услышал, – шуршание в углу. Наверно, мышка ходит. Или сам мышиный король, толстый и важный, печальный от обилия монаршьих забот – пусть себе томится в подполье, а нам пора наружу.
Я поднялся по косой лестнице, нащупал крышку. Уперся в нее спиной – крышка подалась, сдвинулась.
Он не запер меня – значит, предчувствие не обмануло: что-то в этом сюжете не так.
Я выбрался на свет; меня пошатывало, мутило. Некоторое время я пролежал на полу.
Дом выстужен, пахнет нежильем, чуланом – так характерно пахнут дачи, не согретые человеческим теплом. Комната обставлена скудно, небрежно, пожилой, отставного вида мебелью: промятый диван, монументальный, каменно-тяжелый шкаф, круглый стол, крытый газетой, пыльные газетки на окнах – приколоты к раме ржавыми кнопками; и тексты в полосах, наверное, того же качества, ржавые. Точно: Горбачев, Рыжков – побитые ржавчиной рудименты какой-то прошлой жизни, которой, кажется, и не было вовсе.
Из комнаты виден коридор на веранду. Слева крохотная кухонька, там двухконфорочная плита и холодильник "Саратов" – скорее всего, внутри ничего нет, кроме затхлого сундучкового запаха.
Верно: сундуком пахнет, плесенью и старыми заскорузлыми носками. Однако в этих запахах томятся и другие ароматы, еще вполне живые. Плоская коньячная бутылка, что-то завернутое в газетку.
Кусок сыра, чеснок, сало. Вот это вы напрасно!
Если прежде еще оставались иллюзии относительно последних событий, то теперь они растаяли окончательно: Катерпиллер, сука такая, проверял меня – сболтну я что-нибудь про их дела или не сболтну. Я не сболтнул.
Пожалуй, теперь я разрешу себе короткий отдых.
И пусть возле этого стола встанут на часы покой и сладкое беззвучие таких старых, доживающих свой век домов, где царствуют пыль и древние запахи, где под низким потолком бродяг тени воспоминаний о прошлых людях и прошлой жизни: о вползании в распахнутое окошко сиреневой ветки, о сочной клубнике на грядке, варенье из крыжовника; тут ночью объявит свой голос сверчок, а в трубе ухнет домовой, полистывающий на паутинном чердаке старые "Огоньки", и будет постанывать от прикосновения теней сухое дерево пола – я люблю этот воздух, эти звуки, они согревают... Через полчаса я заставил себя уйти от них.
День уже прочно встал на ноги и распрямился – в уютной дачной тишине, в чистых запахах сосны, последнего снега, в покрикивании дальней электрички – на этот скользкий, как будто из слюды сделанный голос железной дороги и надо идти.
Это был старый дачный поселок, с довоенной, скорее всего, родословной: плотные заборы стерегут основательные дома с просторными верандами. Большие участки, захламленные, забитые сорным кустарником, облезлые клумбы под окнами; все, что тут когда-то стояло, цвело, спело, созревало, теперь потихоньку преет, крошится, врастает в землю и, наверное, скоро истлеет совсем.
Я двинулся мимо заборов – на крик электрички. В центре поселка чувствовалось присутствие жизни, пахнуло запахом дыма – это со стороны участка, охраняемого прочными железными воротами. В канаве валялся пластиковый ящик из-под бутылок, я подставил его к забору.
В глубине участка дом – вполне в современной манере: желтый кирпич, дымчатые стекла. Участок расчищен. Летом он, наверное, выглядит как аккуратно выбритый английский лужок, и по газону фланируют люди в бриджах, помахивая крикетными молоточками.
Пока же на их месте прогуливаются три черных чудовища.
Они метнулись к забору, из их раскаленных пастей вываливались тяжелые звуковые глыбы – если это и можно было принять за лай, то лай в самой нижней басовой октаве.
На грохот этих глыб из дома вышел среднего роста человек в дубленке и киргизской шапке-ушанке, он что-то крикнул псам – они ворча отошли к крыльцу, послушно сели к ноге.
– Вы неосторожны, – сказал он, приблизившись к забору.
Характерным качеством, сущностным признаком этого человека была плотность: плотно сбитая фигура, и в лице та особая гладкая плотность, какую обеспечивает отменное питание; такие лица бережно носят перед телекамерами чиновники высшего разряда.
– Что это у вас за звери?
– Это?.. Это мастифы.
– А к чему это вы – про осторожность? Они что, скачут через такие заборы?
– Нет, они не скачут... – прищурившись, он посмотрел в сторону соседнего участка.
Я проследил этот взгляд. В чердачном окне соседней дачи полыхнул солнечный зайчик. Особой породы зайчик, с голубым отливом: так может бликовать только качественная оптика: бинокль или подзорная труба.
– Вы в порядке? – спросил он.
– Я в порядке. Я туг занимаюсь спортом: бегаю на лыжах, тренируюсь, знаете ли, – разве не ясно?
– Значит, вы в порядке, – заключил он. – Это хорошо. Мне ни к чему, знаете ли, неприятности. У вас там, насколько я понимаю, были какие-то разборки в крайней даче. Я в чужие дела не вмешиваюсь, но я послал своих ребят сказать вашим ребятам, чтобы никаких чрезвычайных происшествий в ближайшей округе не было. Я рад, что все у вас обошлось тихо и интеллигентно.
Да-да, интеллигентно: три дня тебя держат в погребе, морят голодом и травят напоследок газом – все это очень мило.
– Приятно, – согласился я, – иметь дело с интеллигентными людьми.
– Бросьте вы, бросьте... Не паясничайте.
– Где мы? Он сказал, где*[3]3
* К характеристике жанра. Название поселка мне хорошо знакомо – старое, славное Подмосковье, километров пятьдесят от города. Значит, здесь теперь располагается одна из собачьих ферм – на таких фермах псов кормят вырезкой, а потом продают за бешеные деньги. Я и представить себе не могу, сколько по нынешним временам может стоить мастиф...
[Закрыть].
– А вы не опасаетесь, что...
Он усмехнулся и опять бросил взгляд на чердак соседней дачи, туда, где живет голубой солнечный зайчик.
Скорей всего, там дежурят ребята с подзорной трубой, а на случай недоразумений у них под рукой крупнокалиберный пулемет: теперь я оценил его пожелание в другой раз быть поосторожней.
– Ну, так я побежал тренироваться дальше? Такова спортивная жизнь...
Он пристально посмотрел мне прямо в глаза. Взгляд был тяжелый, с примесью ртути.
– Давайте, тренируйтесь... Вам, судя по всему, следует хорошо бегать... Очень хорошо. Вы, если не секрет, по образованию кто?
В какой-то из прошлых жизней – в какой именно, уже не помню – я по образованию был филолог.
– Опасная профессия, – без тени иронии заметил он и побрел к своим чудовищам; собаки лежали у крыльца каменными сфинксами.
4
Я давно не ездил в электричках. Поджидая поезд в высоком дощатом павильоне, – эти павильоны кое-где сохранились на подмосковных станциях и стоят часовыми, охраняя остатки прошлой жизни, ласковой и теплой, – я подумал, как хорошо это было, как славно: вламываться в вагон в толпе лыжников, шумных, несущих в мохнатых свитерах запахи мороза и снега, втискиваться в гладкую жесткую лавку, громко говорить, перекрикивая завывания дороги, слушать гитарные всплески и какую-нибудь песню про дорогу, разгоняющую тоску, и отогреваться в тепле возле этих нескучных людей в свитерах и лыжных шапочках.
Все они, должно быть, уже уехали отсюда, сидят у своих костров, поют про тягу к перемене мест и тоску и больше не появятся среди нас – уже не появятся никогда, я понял это, шагнув в вагон.
Степень его захламленности превосходила все мыслимые и немыслимые пределы. Тамбур заплеван, в самом вагоне мечутся сквозняки (пара стекол разбита), сидения через одно экзекутированы, их дерматиновые обшивки вспороты, поролоновые потроха вываливаются наружу – в таких случаях говорят: "тут пронеслась орда"*[4]4
* К слову. Наверное, все-таки татаро-монголы не заслуживают к себе подобного скверного отношения. Говорят, эти древние ордынцы были вполне опрятные и толковые люди и с ними можно было поладить.
[Закрыть].
Пассажиров мало – середина дня; основная орда пронеслась утром, рассыпав по следу своих эскадронов фантики, ошметки газет, комки жвачек, плевки, семечную шелуху, грязные следы стоптанных башмаков, и вагон переводит дух, остывает от вечных дорожных перебранок и готовится в вечернему нашествию.
Сквозняк оттеснил пассажиров ближе ко входу: преклонных лет мужчина с неподвижным солдатским лицом – скорее всего, отставной военный; хромовые сапоги, офицерский бушлат, серо-голубой собачий воротник поставлен в стойку "смирно". Он смотрит в одну точку, брови его сдвинуты, что, наверное, должно обозначать погруженность в неторопливую солдатскую думу.
Следующая лавка захвачена грузной женщиной лет сорока: зеленое пальто с искусственным воротником – продукция районного ателье, типичный уездный шарм, кисти рук аккуратно устроены на коленях, в лице выражение покорности. У женщин с такими лицами мужья, как правило, пьяницы; должно быть, вчера она, опрокинув бесчувственное тело супруга на кровать с поющей панцирной сеткой, вот так же сидела на полутемной кухне, грела ладонями колени, вспоминала его распахнутый, слизняком стекший на бок рот и вяло размышляла о непрерывности жизни, о том, что позавчера было с мужем вот так же, как вчера, и ничего не изменится завтра – это постоянство мучительно, но другого дома и другого мужа у нее нет.
Вагон споткнулся, дернулся, сбавил ход, в окна медленно всплыла какая-то станция, голая, унылая, безлюдная.
Впрочем, нет, не безлюдная.
Трогаясь, состав встряхнулся и втянул в себя странное существо в кургузом малахае. Из-под платка брызжет на лоб пегая сальная прядка – перечеркивает глаз... С ней девочка лет трех.
Женщина сильно кашляла.
Когда-то, когда над нами еще сияло наше старое доброе небо, я ехал с родителями на пикник, кажется, в Снегири. В вагон вкатился инвалид на деревянной тележке. Он пел протяжную, бесконечную песню, на унылый мотив, напоминавший безводную калмыцкую степь, он вплетал в нее сказ о горькой судьбе, присоединял к песне просьбу о подаянии – я не смог этого вынести и залез под лавку.
Они были всегда, но теперь их особенно много; они – посланники другого мира, его полпреды и его консулы; их не приглашают сюда, им не вручают верительных грамот, но они все равно приходят и приносят с собой запах душного барака, где стены поросли копотью, а одно единственное окошко почти не пропускает свет... Их теперь великое множество, женщин с девочкой или женщин с мальчиком, они странствуют по электричкам, попадаются в вагонах метро и на станциях, сидят у стен в подземных переходах, и песня у них на всех одна:
Войдите в положение, потеряла билет на поезд, пропадаем тут, надо насобирать на дорогу... кто сколько может... войдите в положение.
Женщина в зеленом пальто вошла – рублем; отставной воин – цыканьем зуба, тяжелым взглядом, от которого просительница шарахнулась; я вошел – за неимением никакой наличности – шарфом: когда-то это был мохер, пышный, как взбитые сливки, теперь же представлял собой нечто среднее между половой тряпкой и бумажным чулком. Я не очень уверенным движением повязал шарф девочке на шею, и она стала похожа на беспризорного котенка.
5
Тратить время на бритье и мытье я не собирался. С одной стороны, в трехдневной щетине есть свой шарм – одно время небритость даже была в моде – а с другой стороны, есть кое-какая выгода в том, чтобы явиться к Девушке с римских окраин именно в таком виде. Пусть я буду вонять землей, потом и дерьмом – это даже хорошо. Трехсуточное заточение в дачном погребе не может не наложить отпечаток на внешность; в глазах наверняка появился холодный волчий блеск – она должна испугаться.
Прямо с вокзала я направился на Сретенку.
Она меня не ждет, но я ее навещу и задам пару вопросов. Что она не просто случайная знакомая, а именно "посылка", ясно на сто процентов. Процентов на девяносто ясно, кто ее прислал. Осталось десять процентов неясности – их можно скинуть со счетов.
На Сухаревке, у выхода из метро, клокотала толкучка, блошиный рынок. Прежде жителя столицы можно было опознать по характерному выражению лица, теперь москвича можно вычислить по другой примете – он почесывается: в блошином рынке жить и блох не нахватать? Когда-то за здешней торговлей лениво присматривала известная башня, теперь не надзирает никто. Вот разве что плоские каменные люди, втиснутые в барельеф на той стороне Садового, – они шагают куда-то в сторону Маяковки с просветленными лицами, надеясь, что совсем уже недалеко, на Маяковке, где-то под ногами у каменного Владимира Владимировича, звенят медные оркестры будущего.
Но там ни черта нет. Был в Оружейном переулке популярный винный магазин, но и тот закрыли.
Садовое хватил паралич – мертвая, непроходимая пробка; тромб вспух прямо напротив Склифа: там накаляется вой клаксонов, и кто-то монотонно бубнит в мегафон.
В толпе я двинулся по наитию, и наитие привело куда надо: у кромки газона двое мужиков с влажными лицами торговали напитком в мутных, заляпанных чем-то сальным бутылках. Если бы не наклейка "Агдам", можно было бы предположить, что они торгуют сжиженным лондонским туманом.
– Чего там? – спросил я у влажнолицего виночерпия, в левом глазу которого свило гнездо пухлое бельмо.
В ответ он пошевелил студенистой, устричнотелой опухолью, и меня чуть не стошнило прямо в ящик с посудой.
– Так доктора бастуют! Вишь, кольцо перекрыли*[5]5
* К характеристике жанра. Значит, дошли до ручки. Если остановится сам Его величество Склиф – значит, всему наступит каюк. Склиф вечен, как вечен конвейер автокатастроф, пьяных потасовок, выпадений из окон, как неумолим упорный мотор суицида. Если Склиф перестанет принимать в свои реанимационные цеха беспрерывные потоки сырья – все эти разбитые головы, раскрошенные кости, вспоротые животы и отравленные дихлофосом желудки – значит, в самом деле конец.
[Закрыть].
Над кипением автомобильных звуков возрос чей-то спокойный, уверенный голос, слегка просеянный характерным мегафонным шипением; голос сообщил, что профессор медицины, возвращающий каждый день людей с того света, получает вдвое меньше тюремного охранника и что в таком случае говорить об остальных работниках реанимационного конвейера...
Нечего говорить, поскольку последняя шлюха на вокзале кует собственной задницей куда более приличную деньгу, чем профессор, это вполне в русле современного жанра.
Я сказал бельмоглазому, что давно мечтал об "Агдаме".
– "Агдам" я пью с детства, – признался я. – У мамы кончилось молоко, и она поила меня "Агдамом".
Потому я вырос такой большой и красивый. Вот только с деньгами у меня сегодня плоховато.
Он пошевелил бельмом: "Проходи, не отсвечивай".
Я закатал рукав и сунул ему под нос часы – дрянь, штамповка, такие часы в Гонконге продают на килограммы. Он выкинул в пальцах знак "Victory": значит, две.
– И отыграй сюда немного деньжат, – потребовал я. – Хорошее вино надо чем-то заесть.
Он нехотя отыграл, мы совершили выгодный бартер: два "Агдама" плюс немного деньжат – можно жить.
Возле одной из коммерческих лавок я обратил внимание на причудливый персонаж: драповое пальто, мелкие, острые черты лица, нервная, дерганая мимика – да мало ли их тут таких, нервных, – но чем-то он из общей массы выделялся. Да, болезненной сутулостью! Эти люди везде и всюду несут на себе примету – придавленности, наверное. Они рождаются на свет прямыми, сильными и здоровыми, но низкие потолки их темных бараков, сам тяжелый смрадный воздух их лачуг чугунно давит на плечи, давит и сгибает их спины.
Он швырял мелкие, коротенькие взгляды по сторонам, избегая опускать очи долу, где на газетке были разложены странные продукты, цветом и формой напоминавшие спелую сливу размером с кулак.
– Это съедобно?
Он испуганно зыркнул в мою сторону и закашлялся.
– Я говорю, это птица или рыба?
– А, кх-х-х, это... – кашлянул он. – Это, видите ли... голуби. Берите. Совсем недорого... Берите, пожалуйста.
Я заметил, что он дешевит: лесной голубь – это деликатес, запеченного в глине, его подают в парижских ресторанах.
– Они хоть не болели бруцеллезом? – спросил я, пока он заворачивал тушки в газету.
– Ну что-о-о-о-о вы! Я же в этом понимаю... Я преподаватель биологии. Что вы, что вы! Не лесной, конечно, обычный, городской, но ни боже мой, какой бруцеллез, что вы!
Вот и хорошо – есть с чем прийти в гости. Тут недалеко, в доме, где обувной магазин.
У входа в подземный переход я задержался – что-то меня остановило. Я обернулся.
Торговец голубями буквально переломился пополам – его сотрясал приступ сухого чахоточного кашля.
6
Если сегодня у нас двадцать первое, то, выходит, мы познакомились ровно неделю назад, шестнадцатого.
Она рухнула под колеса моего "жигуля".
Шестнадцатого, то есть на следующий же день после того, как я высказал Катерпиллеру просьбу познакомиться с документами его лавочки.
Сейчас она скажет: ах, ничего, не беспокойтесь, это я сама виновата! – примерно так я представлял себе дальнейшее развитие событий, когда сидел, упершись подбородком в баранку, следил, как ерзают дворники по стеклу, и чувствовал, что ладони у меня стали влажными.
Я ехал Даевым переулком в сторону Сретенки – слава богу, медленно! – и из подворотни наперерез мне метнулось нечто серо-коричневое, я успел вывернуть руль и ткнулся в высокий бордюрный камень. Кажется, я зацепил ее правым крылом – не сильно, вскользь.








