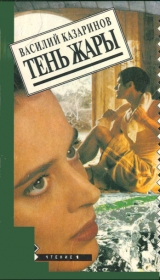
Текст книги "Тень жары"
Автор книги: Василий Казаринов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 28 страниц)
Я в одиночестве побродила по холлу; одиночество продлилось недолго; народ потянулся на выход – наверное, актеры уже отыграли сцену оргазма, а больше в туземном театре, как известно, смотреть не на что.
Прошла мимо преклонных лет и интеллигентной наружности пара; они смотрели себе под ноги и явно боялись поднять взгляд – так ведет себя человек, застигнутый врасплох за неприличным занятием. Следом за ними процокала еще парочка. Он – высокий, прямой, жгучий брюнет, одет с иголочки; она – крашеная блондинка в черной мини-юбке, размеры которой и плотность сидения на чреслах заставляли предположить, что это не юбка вовсе, а обычные дамские трусики; у нее были чудовищно толстые ноги в черных чулках, в тает походке она ритмично двигала слишком длинными руками – наверное, ее папа или, в крайнем случае, дедушка был чистокровный питекантроп. Далее следовали уже знакомые мне господа в смокингах, доставленные в театр на "кадиллаке". Холеный, вельможного вида человек лет пятидесяти... Будь я мастером художественного слова, сказала бы так; "Его виски осыпаны серебряным инеем" – однако поскольку я не отношу себя к мастерам этого цеха, то придется выразиться по-простому, по рабоче-крестьянски: седой красивый мужик.
Этот седой красивый мужик аккуратно вел под локоток, как бы прогуливая, великолепно сложенного молодого человека. Процессию замыкал Зина; это был прежний Зина – совсем не тот, что сидел в темном зале, напряженный, натянутый, как струна. В его лице стояло выражение беспомощности – такое отпечатывается в детских мордашках в моменты покаянные, когда ребенок немо просит простить его за шалость.
– Слишком большая концентрация сексуальных впечатлений за один день, – я кивнула на дверь зала. – Интересно, чем бы такой день мог закончиться, а, Зина?
В машине я рассказала ему о посещении дачной киностудии; он едко поморщился: знает он эти "пять звездочек", как-то в одной компании имел удовольствие видеть.
– И как впечатление?
– Пошел в туалет и засунул два пальца в рот.
– Видишь, какая могучая у искусства сила! Недаром классик говорил, что кино для нас – важнейшее из искусств.
Я закурила, постучала костяшкой пальца в стекло.
– Палочки-выручалочки! – сказала я на прощанье дому, где когда-то стояли на часах люди в военной форме времен гражданской войны и накалывали на штык твой маленький пропуск туда, под наше старое доброе небо.
4
«ЛАКИ СТРАЙК» – НАСТОЯЩАЯ АМЕРИКА!
...резко обернувшись, я пыталась рассмотреть, что же происходит у бетонной стены, которую мы только что миновали.
– Да уж... – согласился Зина. – Чикаго тридцатых годов.
Мы не спеша ехали темным переулком где-то в Марьиной Роще, далеко впереди вдруг вспыхнули стоп-сигналы какой-то машины. Когда мы поравнялись с ней, я почувствовала, что там творится неладное: дверца распахнута, водительское место пусто.
Зина резко затормозил, развернулся, включил дальний свет и на бешеной скорости понесся в обратном направлении. Я отдала должное его водительскому навыку: он придавил тормоз строго в тот момент, когда это было необходимо; нас протащило юзом и мы едва-едва не заехали бампером в лоб брошенному автомобилю.
Колесный визг стоял страшный.
В сочетании с мощным светом наш маневр выглядел очень эффектным.
У бетонной стены (интересно, есть ли на Огненной Земле хоть одна улица без подобного строительного ограждения?) двое били ногами третьего. Они его уже раздели до рубахи и теперь били.
Зина вышел из машины и медленно двинулся вперед. Я пошарила под сидением, нащупала что-то тяжелое и холодное (монтировка?) и ринулась следом.
Мое холодное оружие пустить в дело не пришлось: визг тормозов плюс яркий свет избавили меня от необходимости опять убеждаться в истинности народной мудрости, утверждающей, что против лома нет приема. Убивцы выпрямились, застыли и разинули рты. Это были совсем молодые ребята. Они тут же бросились наутек.
Я помогла человеку подняться. На вид ему было лет пятьдесят. У него была сильно рассечена бровь. Уперев руки в поясницу – точно его хватил приступ ревматизма – он сдавленно мычал и растерянно хлопал глазами.
– Видите ли... – тихо произнес человек. Если он присовокупит к сему слово "коллега", я побожусь, что передо мной стоит какой-нибудь старорежимный профессор Императорского Университета; профессура старой школы всегда обращалась к студенту подчеркнуто демократично – "Видите ли, коллега..." – и вот его какими-то ураганными ветрами выдуло из прошлого века, донесло через социализм опять до знакомого капитализма, однако он стоит туг, вымазанный в грязи, и ни черта не может узнать вокруг – ну ничегошеньки (ах, профессор, вас не в Россию закинуло, а на Огненную Землю!).
– Вы профессор? – строго спросила я. Он недоуменно округлил глаза, взгляд его соскользнул с моего лица и опустился к руке, сжимавшей монтировку, и опять к лицу вернулся.
– Видите ли... Да. Откуда вы знаете?
– А мы все знаем. Потому что мы работает в фирме "РЭМ":
КОГДА КРУГОМ РАЗДЕВАЮТ,
«РЭМ» ОДЕВАЕТ
...я протянула ему выпачканные в грязи плащ и пиджак.
– И приглашает! – добавил подошедший Зина. – Вам надо прийти в себя. Возможно – немного выпить.
Профессор стал медленно пятиться, с ужасом глядя на монтировку.
– Да не бойтесь вы, – успокоил его Зина. – Девушка прихватила инструмент на всякий случай: вдруг у вас что-то с машиной? Она у нас очень хороший автомеханик. – Зина кивнул мне: – Дорогу найдешь? Тут недалеко; два квартала и направо. Довези профессора.
– Что они от вас хотели? – спросила я, когда наша процессия тронулась.
Он пожал плечами. Ехал себе, никого не трогал; кто-то метнулся наперерез из темноты – он едва успел затормозить. Его вытащили из машины и тут же, без предварительных выяснений отношений, стали молча и сосредоточенно бить.
Значит, эти пареньки хотели, скорее всего, не плащ, а машину. Хорошая у профессора машина; интересно, какой марки.
– Это "СААБ", – пояснил он, промакивая платком разбитую бровь.
Мы поставили автомобиль на охрану и направились к подъезду, где нас дожидался Зина. Профессор передвигался с легким скрежетом, придерживая ладонью поясницу и как бы подталкивая себя вперед.
– Зина, – сказала я, – звони скорее мистеру Холмсу. Оказывается, мы поймали Мориарти. Только профессор каких-то очень крутых мафиозных наук может себе позволить кататься на "СААБе". И давай сейчас устроим шведский стол.
– А с вами не скучно, молодые люди, – кряхтя, заметил наш новый знакомый. – Я, правда, не совсем понял, при чем тут шведский стол... – он кашлянул, будто бы извиняясь неизвестно за что, и добавил: – Видите ли.
Я объяснила: сперва мы попадаем на шведа Стриндберга, потом берем на абордаж шведский "СААБ". По логике вещей закусить мы должны именно за шведским столом. А потом предадимся шведской любви.
– Вот какая у нас получилась шведская вечеринка!
– Знаете, – улыбнулся Зина, помогая нашему другу выйти из лифта, – чем прекрасна эта женщина?
– Догадываюсь... – ответил он столь же мягкой улыбкой.
– Эй, вы! – заорала я. – Если вам известен ответ, то это еще не значит, что известен мне!
Зина прислонил профессора к стене, подошел, поцеловал меня в висок.
– Тем, что у нее все не как у людей. А совсем даже наоборот.
При случае я ему замечу, что эти вошедшие у нас в традицию поцелуи в висок очень и очень опасны. Не знаю, как там у других девушек, а у меня именно в этом месте находятся не только мозги, но и кое-какие зоны, отвечающие за порывы, ничего общего с процессами мышления не имеющие.
5
Я помогла ему умыться. Свернув голову набок, он внимательно исследовал раненую бровь.
– Придется записываться на прием, видите ли... К самому себе... – он поморщился, двинув бровью. – Я вообще-то врач. И в самом деле профессор. Косметолог.
– А-а, понятно:
КОГДА ВАМ ТРУДНО, МЫ РЯДОМ С ВАМИ!
ФИРМА «ОРТАРТ» -
ЭТИ КРЕМЫ ПОДОЙДУТ ВАМ!
...вот уж не думала, что в косметических салонах работают мужчины, причем в ранге профессора. Хотя... На Огненной Земле профессура кем только ни трудится – даже дворниками трудится.
– Вы меня не совсем, видите ли, поняли. Речь идет не о косметических масках. Строго говоря, это называется репродукция. Изменение человека. Его внешности. У меня свой салон.
Тогда понятно, откуда "СААБ". А все-таки жаль профессора: принимать у себя всех этих чудовищно распухших теток в полтора центнера живого веса, а также всех этих патологически-худых плоскогрудых истеричек, которые заявляют, что они жены самых генеральных из всех генеральных директоров концернов, и потому – будь любезен, дружочек! – сделай из меня нечто среднее между Мерилин Монро и Барбарой Стрейзанд...
Будь я профессором репродукции, я делала бы из этих теток Чиччолину – до чего же все-таки противная, отвратительная баба; это с ее подачи мужики полагают, что у всех у нас вместо мозгов – детородный орган.
Бедный вы, бедный – щупать все эти сальные животы и коровьи ляжки, оттягивать из них жир, вставлять в груди упругие протезы – и все ради того, чтобы господ генеральных директоров не тошнило, когда они ложатся со своими благоверными в постель... И алхимничать с транссексуальными трансформациями, и "репродуцировать" ночных бабочек, крылья которых поизносились от порханий по интуристовским номерам...
Я прошлась по дому. У Зины милая двухкомнатная квартира, не отличающаяся ничем сверхъестественным, за исключением поразительной чистоты и опрятности...
И еще деталь – тут повсюду развешаны зеркала. К чему бы это?
В гостиной мы выпили вермута со льдом. Профессор пришел в себя. Он оказался говоруном. Рассказывал, что в узком смысле он специалист по, так называемой, эстетической хирургии, то есть, в принципе, занимается пластическими операциями. Я тут же попросила сделать из меня восточную женщину: по моим подсчетам где-то к концу года Огненную Землю окончательно поработит кавказская мафия – вот я и буду "своей среди своих". Профессор откланялся в третьем часу ночи. На прощанье он сунул мне визитку.
– Да я пошутила, профессор... Мне не нужно новое лицо, – и хотела сунуть визитку в карман его пиджака.
Он мягко отвел мою руку.
– Не зарекайтесь, девочка, не зарекайтесь... – шагнул за порог, обернулся. – Спасибо вам, ребята.
– Один совет, профессор...
– Да?
– Если вам опять кто-нибудь встанет поперек дороги – жмите на газ и давите.
Он тяжело вздохнул.
– Вы полагаете?
Это однозначно, милый мой профессор, иначе вам не выжить на Огненной Земле.
Заперев дверь, я вернулась в гостиную. Прошла в смежную комнату, совмещавшую в себе функции спальни и кабинета, выглянула в окно, дождалась, пока габариты "СААБа" скроются за поворотом на выезде из двора.
Пришел Зина. Он встал у стола и занялся сосредоточенным покусыванием губы.
Я погладила его по щеке:
– Не терзай губы, они нам еще пригодятся, – поднялась на цыпочки, поцеловала его в губы; потом пошла в ванную, приняла душ, обмоталась просторным махровым полотенцем, вернулась, сбросила полотенце и забралась под тощее солдатское одеяло.
Зина смотрелся в зеркало, висевшее в проеме между (окнами – долго смотрелся, никак не меньше минут пяти – в мужчинах такой повадки я прежде не встречала. Потом он испустил тяжелый вздох – очень горький – вышел, вернулся минут через пятнадцать в роскошном махровом халате – сине-бело-красном; цветовая гамма идеально точно воспроизводила национальный французский флаг. Он присел на край кровати, положил мне руку на плечо и неуверенно произнес:
– Ты мне нравишься...
Ах, не то, охотник, не то! Я спихнула его с кровати, скинула одеяло.
Вот интересно, что должен испытывать мужчина, когда голая девушка волочит его от постели, прислоняет к стене, отступает на три шага, становится по стойке смирно, берет под козырек и, задрав подбородок, во весь голос начинает петь "Марсельезу"?
Некоторое время он ошалело смотрел на меня, потом отслоился от стены, подошел к зеркалу и – догадался.
– А ч-ч-ч-ч-ерт! – сочно, азартно расхохотался Зина, ринулся ко мне, и что грянуло вслед за этим – не произошло, стряслось, случилось, свершилось, приключилось, сделалось – а именно грянуло, я плохо помню, вот разве что: высокий полет его халата, халат парит, нелепо размахивая руками под самым потолком, и падает, и, наверное, разбивается насмерть.
6
Я знала, что будет трудно; в каком-то отрезке ночи этот разговор неминуемо должен возникнуть. Я собралась с силами, сходила в комнату, налила немного вермута, выпила, покурила, вернулась в спальню-кабинет, перелезла через Зину, который лежал, забросив руки за голову и смотрел в потолок, устроилась на своем месте у стены.
Он ждал.
Я знаю, чего ты, охотник, ждешь; ну, так пойдем со мной, не отставай – белка шустрый зверек; ты следи за ее рыжим хвостом, знай-поспевай и прибавь шагу – из твоей разбойной Марьиной Рощи мы доберемся по холодному и безжизненному в этот поздний час проспекту до Савеловского вокзала; побежим, понесемся вдоль трамвайных путей в сторону центра, углубимся в переулки, размотаем их запутанный клубок и выпрыгнем прямо под наше старое доброе небо. Смотри, видишь; во дворе щуплый чернявый мальчик, он производит впечатление зажатого, затертого; в дворовых играх он остается в тени – слишком он застенчив и плохо координирован для подвижных забав мальчиков; да и чисто классово он им в какой-то степени чужд: живет в кооперативном доме, папа его певец, солист какого-то воинского ансамбля песни и пляски.
Он учится на три класса старше тебя, белка, и ты его совершенно не замечаешь... Потом будет случайная встреча – у нас там, в Агаповом тупике, неподалеку от булочной; ты бежала на заседание кафедры (первый год аспирантуры – прогуливать эти глупые никчемные ритуальные заседаловки было нельзя!), он окликнул тебя, и ты едва вспомнила, кто же это с тобой хочет заговорить на улице... Узнала, наконец; школа, славное было время, дети бегали в сквер целоваться под сиренью; как же, как же... но извини, Федя, я очень тороплюсь, позвони вечером, вот мой телефон...
Он сказал: не надо, я знаю твой телефон...
Да? Как это мило, ну, тогда до вечера. И он, конечно, позвонит; однажды, будто бы невзначай, зайдет в гости с пышным букетом и бутылкой коньяка – вид у него загнанный, под глазами лиловые круги. Налаживает кооператив, объяснит, страшная морока, все кругом всего боятся и палки суют в колеса, приходится вертеться по шестнадцать часов в сутки...
– Можно я закурю, Зина? Спички там, на тумбочке, осторожней впотьмах, там зеркало твое стоит....
Ты поспеваешь за мной, охотник? Это хорошо, ты опытный охотник, чуткий, внимательный, тренированный; умеешь ходить по нашей тайге, жить у костра, ну так слушай: его визиты продолжаются примерно полгода, а потом я впервые заявляю милому другу Сереже Панину, что не поеду с ним в горы. Почему? Потому что выхожу замуж... Будь ты не охотник, а охотница, ты б меня понял... Я жутко, нечеловечески устала от Панина; он милейший человек, лучше в жизни я не встречала, с ним очень легко, просто и весело; с ним хорошо пить, бывать в компаниях, кататься на лыжах, говорить про книжки, лежать в постели – собственно, из этого долгое время и складывались наши отношения – но жить с ним нельзя.
Я опытная белка, если какая-нибудь молодая белка придет ко мне и заявит, что собирается с Паниным вступить в законный брак, я посоветую ей: милая, видишь вон ту высоченную сосну? Полезай на самый верх, на шаткую макушку, и кидайся вниз, чтобы разбиться насмерть... А с Федором Ивановичем можно было главное – жить. Эту жизнь питала – жалость; знаешь, нам, белкам, иной раз бывает ужасно жаль вас, охотников: я знаю массу браков, которые стартуют с этой линии. Она очень невнятна, почти невидима, но она есть; момент жалости поначалу крохотен, он размером с булавочную головку, однако со временем энергия его растет, расширяется, и это клейкое вещество затекает во все углы твоего дома; ты незаметно прилипаешь: к грязным его воротничкам, идиотской привычке выдергивать волосинки из носа, манере в пылу полемики едко морщить нос и приподнимать верхнюю губу, отчего в лице прорастает выражение мелкого грызуна.
Помнится, Серега был тогда дома, в квартире кавардак, на полу: лыжные ботинки, свитеры, носки, пуховые жилеты, отвертки, крепления, очки, лыжи, палки, перчатки, много портвейна – и все в кучу; узнав, почему я даю отбой, Панин долго молчал, открыл любимый им "Агдам", влил в себя стакан, утер рот ладонью и заявил, что я сошла с ума. Я рехнулась, потому что Катерпиллер (таково дворовое прозвище моего мужа) – полный ноль, пустое место: "Ну-ка, давай, махни портвейну и беги домой паковать рюкзак, завтра мы стартуем первым рейсом в Минводы; менять Терскол на Катерпиллера – это совершенный идиотизм!" Панин улетел один, билет я так и не сдала, он до сих пор хранится у меня дома; иногда я достаю его из стола, подолгу разглядываю и думаю: а если б этот билет был использован? Нет, охотник, судьбу не обманешь, билет таким и должен оставаться – чистым, не тронутым пометкой аэропортовской контролерши.
– Я налью себе немного, а? Не бойся, Зина, я не алкоголичка... Ты думаешь, мне легко – все это?..
– Да что ты, конечно... – он поцеловал меня в щеку. – Налей. И мне тоже чуть-чуть принеси.
Вот и хорошо, охотник, белки любят сладенький вермут, он успокаивает... Нам надо успокоиться, потому что путь наш теперь лежит на Пироговку. Почему туда? Там в клинике у меня работала хорошая приятельница, устроила мне консультацию у какого-то профессора; консультация была необходима, потому что через какое-то время у нас должен был появиться бельчонок... Когда впервые об этом зашел разговор, Федя просто поджал губы.
Не удивляйся, милый, что я так нагружаю эти слова, надо знать человека; порой один его жест или какая-то ужимка означают гораздо больше, чем миллионы слов; нет, он не возражал, не пытался спорить, устраивать скандал – он просто поджал губы; я понимала, что означает этот плотно стиснутый рот: делай, как знаешь, однако – без меня. Потом мы долго стояли в сквере на Пироговке; было холодно, меня знобило; профессор перед этим долго меня смотрел, потом наорал на меня; где ты делала аборты, дура!
У повивальной бабки, что ли? И сказал: это твоя последняя возможность, странно, что ты вообще забеременела; но запомни: если не теперь, то значит вообще – никогда! А я уже была не в том возрасте, когда белка может целыми днями носиться по веткам, летать с дерева на дерево, парить, карабкаться по стволам; мне надо было что-то решать раз и навсегда... И еще профессор сказал; при твоей комплекции, скорее всего, никак не обойтись без Кесарева...
– Зина, дай руку, дай – чувствуешь? Это шрам почти уже изгладился, но на ощупь его можно различить, чувствуешь?
– Да, – сказал он, приподнялся на локте, навис надо мной. – Слушай, Белка, может, не надо? Потом как-нибудь, в другой раз...
Да нет, охотник, нам надо торопиться; возможно, другого раза у нас с тобой не будет... И все у нас вышло интеллигентно, без скандалов, Федор Иванович просто поджал губы и отошел в сторону – не только там, в сквере на Пироговке, – он вообще отошел в сторону; несколько раз я потом его видела, случайно, мельком, мы кивали друг другу, произносили пару каких-то необязательных слов и расходились в разные стороны; я плохо знаю, как у него складывалась жизнь, говорят, он очень много работал. А бельчонок был очень слабенький – очень многие "кесаревы" бельчата слабее своих нормальных собратьев; весил он всего ничего, маленький был, худой; на третий месяц у меня кончилось молоко, он почти весь год болел и все время кричал по ночам – странно, что я не сошла с ума от этого крика; заседаловки на кафедре, естественно, прогуливала, просто не было сил дотащиться туда через весь город, из отдела аспирантуры названивали: "Что ж это вы, милочка, у нас уже и "первогодичники" по паре глав представили, а вы? Нет-нет, милочка, академический отпуск продлить нет никакой возможности" – ну и оставили двух белок подыхать с голоду. Они и так-то питались скверно, как в лютую зиму, когда запасенные с осени орехи да грибы все вышли; на аспирантскую сотню рублей не сильно разгуляешься... Эй, охотник, охотник! Ты что?! Отпусти, отпусти, мне больно, ты мне плечо сломаешь!
– Где ребенок? – он буквально выдернул меня из постели, впечатал в стенку. – В детдом сдала? Подкинула? Завернула в одеяло и подбросила на чей-нибудь порог?
– Отпусти, Зина, мне больно...
Господи, что это с ним? Лицо мертвое, глаза дикие, а в руке железо – наверное, в самом деле сломал мне ключицу.
– Ну? Подкинула?
Никуда я его не подкинула; белка – существо природное, языческое, дикое – это да, но кукушечьи повадки ей не свойственны, она детенышей своих в чужие гнезда не кидает... Я же говорила тебе, охотник, бельчонок был слаб, а зима стояла в самом деле лютая, в гнезде нашем батареи взорвались, и вся стена была во льду – такое на Огненной Земле часто случается. На кухне с ним жили, газовой плитой отапливались – однако что это за тепло? Словом – пневмония. Стремительная какая-то, быстротекущая. За две ночи он и сгорел. А потом... Что потом? Из отдела аспирантуры еще пару раз звонили – я их в конце концов отослала, не стану говорить – куда. Случайно забрела в библиотеку у нас там, в Агаповом тупике, это оказалась профсоюзная библиотека, хранилище профсоюзной мудрости всех времен и народов. Ничего, привыкла. Там, на стенах, под самым потолком, портреты гигантов духа в лепных рамах: воспаленные чахоточные глаза Белинского, пухлые детские щечки Добролюбова и многих других. Мой стол был прямо под Сан Санычем Фадеевым; вечерами я его спрашивала: ну что, Сан Саныч, это и есть то светлое будущее, за которое ты насмерть с белой костью бился? – а он на меня в ответ глядел демонически и молчал. Что молчишь, охотник? Не сиди так, обхватив колени, не молчи, я не слышу твоего дыхания.
– Как ты выжила? – очень тихо спросил он наконец.
На то оно у нас и было, наше старое доброе небо, под ним можно было выжить. Прямо с кладбища меня за руку увел Панин. Или унес – не помню уже, очнулась я у него дома; усадил на стул, опустился передо мной на колени и сказал: постарайся понять...
Жизнь, сказал он, нечто большее, чем свод сентиментальных правил. Мне знаком один человек, который, узнав о смерти жены, провел ночь в публичном доме. Проститутки спасли его, а с попами ему было бы худо. Это можно понимать или не понимать. Объяснять тут нечего.
Наверное, он кого-то цитировал... Не знаю кого, знаю только, что очень по делу. Он взял меня за руку, и мы поехали к его другу Юре Бугельскому, куда-то в Замоскворечье, в маленький двухэтажный особняк в тихом переулке. Всех жильцов там уже выселили, жизнь теплилась в одной из четырех квартир – были прежде дома всего-то с четырьмя квартирами: две на первом этаже и две на втором. Хотя "теплилась" – не то слово, там все полыхало; мужиков я всех знала: терскольская компания – Илюшок Толстой, Ваня Куницын, Юра, хозяин дома, ну и Панин впридачу. Они купили пять ящиков "Рымникского" – было прежде такое винцо – и на четверых вызвонили себе по телефону ровно шестнадцать девушек. Я была ни в счет. Когда мы вошли, то застали очаровательную сцену: Илюшок пытался охватить вниманием сразу всю полагавшуюся ему долю женского общества; он сидел на диване, одна девушка висела у него на шее, две сидели по бокам, и он их обнимал, а четвертую девушку, расположившуюся на полу, Илюшок гладил босой ногой по ляжке. Со мной, наконец, случилась истерика; кое-как ребята меня успокоили, и, знаешь, охотник, позже я поняла, что эта развеселая квартира, где уже вовсю полыхал камин в голубых пасторальных изразцах, оказалась именно тем единственным местом, где можно было выжить. Мы провели там дней пять. Потом я ушла. По дороге домой встретила своего школьного учителя, Ивана Францевича Крица; он молча взял меня под локоть и отвёл в Дом с башенкой, с неделю я прожила у него под расписным потолком, а сам Иван Францевич перебрался на кухню; там у него стояла маленькая узкая лежанка. Он ни о чем меня не спрашивал. Иногда что-то читал вслух – как читал когда-то детям, собиравшимся за круглым столом...
– Он куда-то пропал.
– Как это? – не понял Зина.
Расскажу при случае. Не теперь, охотник, смотри, уже светлеет за окном; тебе скоро уходить, у нас так мало времени, и не заставляй меня опять вскакивать, брать под козырек и петь "Марсельезу", у меня совсем нет музыкального слуха.
– Да, – улыбнулся Зина. – Поешь ты, сказать по правде, отвратительно.
– Мерза-а-а-а-вец! – заорала я, повисла у него на шее, повалила на спину, уселась ему на грудь. – Сдавайся, охотник!
Сдавайся, сдавайся, тебе некуда деваться; этой ночью я завела тебя слишком далеко – в самую чащу, где нет ни просек, ни тропок; тебе отсюда уже не выбраться без моей помощи, а я пока не собираюсь выпрыгивать у тебя из-за пазухи; за пазухой у тебя тепло, покойно и слышно, как ритмично пульсирует сердечный механизм.
– Сдаюсь! – он широко раскинул руки и прикрыл глаза.
Глава шестая
1
С утра перечитала «Женитьбу Фигаро» – однако грусть не поборола.
Две недели без Зины бездарно отлетели за спину. Он уезжал в командировку, в Тверь, по своим экологическим делам. Где он работает, я узнала только в день отъезда, когда провожала его на вокзал – какая-то фирма, связанная с экологическими проблемами. Наверное, это иностранная фирма: на Огненной Земле никто и никогда всерьез о состоянии окружающей среды не задумывался... Вернувшись, Зина позвонил из дома – только за тем, чтобы в телеграфном стиле передать: он тут же уезжает опять, да, в командировку, едва успел принять душ, взять свежее белье и вот опять стоит в дверях. Надолго? Трудно сказать; все так неясно в этой жизни и туманно.
На днях я наведывалась в дом с башенкой, сделала влажную уборку, выкинула из холодильника испортившиеся продукты. Потом забежала в милицию. Красноглазый сыскарь с трудом узнал меня: а-а, это вы, девушка, нет, новостей никаких, да и кто сейчас станет заниматься подобными делами, когда тут...
– Что значит – тут! – вскинулась я. – Человек пропал!
– Де-вуш-ка, – четко, будто шаг печатал, отчеканил он. – Скажите, вы в самом деле немного... – и выразительно почесал висок, – не в себе? Или прикидываетесь? Не знаете, что у нас тут? На Баррикадной – что? В Белом доме – что?
– На Баррикадной? – пожала я плечами. – А как же, знаю. "Рабочий тащит пулемет, сейчас он вступит в бой". Я, кажется, читала про это в школьном учебнике. Первая русская революция. А потом должна наступить столыпинская реакция. Или я что-то путаю?
– Нет, не путаете... – он помассировал воспаленные глаза. – Так вы действительно не в курсе?
Я пожала плечами и глупо улыбнулась. Он медленно, со скрипом поднялся из-за стола, подошел ко мне.
– Девочка, можно я тебя поцелую?
– С какой это стати?! – я инстинктивно отшагнула назад.
Он невесело усмехнулся, посмотрел в окно, разлинованное стальными прутьями, и с отеческой теплотой в голосе произнес:
– Выходит, ты единственный нормальный человек в этом городе.
– А как с моим делом?
Он развел руки и сокрушенно покачал головой.
Ладно, черт с вами со всеми; "вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана" – раз уж мне выпало водить, то доиграю до конца... Последний, кто должен получить конверт с приглашением на НАШ день – это Митя. Митя, насколько я знаю, директор книжного магазина, у Мити крохотная жена с темными глубокими глазами, в которых стоит вся скорбь и печаль еврейского народа, и еще двое детей. Живем мы почти по соседству, пара остановок на трамвае, но видимся редко Надо бы съездить к нему в магазин; это в Замоскворечье; чудесный магазин, старый-старый, а в директорском сейфе хранятся "Книги жалоб и предложений" еще с тридцатых годов.
Вчера в платяном шкафу, в ящике, служащем складом для грязных колготок, я наткнулась на бумажный пакет: подарок Зины, шампанское.
Вот что значит плохо знать классику: я перепугала порядок действий.
Сперва – откупори шампанского бутылку, а уж потом – перечти "Женитьбу Фигаро" – подожди, брат Моцарт, не оставляй стараний и не убирай ладоней со лба, сейчас мы растворим нашу грусть. Прихватив шампанское, я отправилась к Панину. Я шла через двор и потому воспользовалась "черной лестницей".
Дверь в квартиру была нараспашку.
Панина я обнаружила в компании Музыки на кухне. Они мрачно сидели за столом друг напротив друга – как Карпов и Каспаров в матче за чемпионский лавровый венок – и время от времени делали прямолинейные ходы.
Фигур на столе было всего три: две стограммовые зеленые пешки и зеленого оттенка тура ("Ройял", естественно). Учитывая, что оба они играли белыми, зеленой туре приходилось туго: ее загнали в угол и давили.
– Вам не хватает ферзя! – я водрузила на игровое поле свою роскошную бутылку.
Панин молча поднялся, достал из мойки относительно чистый стакан, сунул мне в руку и вернулся на свое место. Они выпили.
Они выпили, не чокнувшись, это мне не понравилось.
Я постучала костяшкой пальца по дверному косяку:
– К вам можно? Или мне подождать в приемной?
Музыка поднял на меня влажные воспаленные глаза, Панин тем временем налил.
– Ломоносов... – хриплым, загнанным в чрево голосом произнес Музыка. – Садись, помянем.
– Господи! – я тяжело опустилась на табуретку и указала взглядом на зеленую бутыль. – Что, по этому делу?
– Нет, – отрицательно качнул головой Панин.
Музыка коротко рассказал: попал под поезд, где-то у черта на рогах, в Солнцево. Что Ломоносов там делал – последние лет двадцать он никуда за пределы Агапова тупика не удалялся, это всем известно – непонятно.
Бедняга... Жил один-одинешенек на этом свете, не стало человека – никто и не вспомнит. Кроме нас... Ладно, пусть ему земля будет пухом!
– В том-то и дело, – буркнул Панин.
– В чем, – переспросила я.
В том-то и дело, пояснил Панин, что, оказывается, были родственники. Уже появлялись в РЭУ оформлять какие-то документы, связанные с правами на жилплощадь.
– Да не было у него никого! – выкрикнул Музыка. – Я-то знаю! Ни племянников, ни деверей. Жена была – да, давно. – Ну так и умерла она три года назад, мне Ломоносов сам говорил.
Музыка заплакал – ни с того ни с сего, без подготовки; лицо его было неподвижно – наверное, именно так, без всхлипов и стонов, льют иногда с тоски большие каменные слезы гигантские серые изваяния на острове Пасхи. Панин отвел его в комнату, уложил и вернулся к шахматному полю; двинул вперед свою пешку, вопросительно посмотрел на меня.
– Нет... Я сегодня разыгрываю глухую сицилианскую защиту. А ты решил поставить себе мат?
Он повертел стопку в пальцах, вернул ее на стол.








