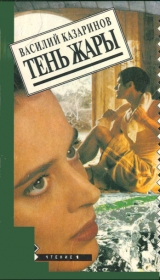
Текст книги "Тень жары"
Автор книги: Василий Казаринов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 28 страниц)
– Тут в предисловии есть одна занятная мысль...
– Да ну! – удивился я. – Хорошо, что хоть одна нашлась.
– Брось! – отмахнулся Катерпиллер. – Ты знаешь, о чем я.
– Нет, не знаю.
– О путанице... О том, что мы часто не разбираем, где кончается литература, а где начинается реальная жизнь. И наоборот. Вообще это, знаешь ли, повод... – он, кажется, собирался развивать эту мысль, и мне пришлось его прервать на самом старте глубокомыслия.
– Ради бога, не надо делать умное лицо, не надо... Мысль-то неоригинальная. Я ее просто позаимствовал из какого-то текста. На этом приеме, собственно, стоит вся наша гуманитарная наука, – я поудобней устроился в кресле и закурил, не обращая внимания на сдержанное покашливание Катерпиллера, намекавшего, кажется, что курить у них не принято.
Катерпиллер бросил взгляд на стенные часы, давая понять, что нам пора переходить к делу. Замечательные у него часы – они аккуратно вписаны в стену на уровне двух человеческих ростов. Цифр нет – их заменяют четыре тонкие хромированные занозы, впившиеся в стерильно-белое поле времени; острая секундная стрелка короткими толчками насекает суточный цикл на мелкие щепки секунд. Впрочем, это его время вот так аккуратно закруглено и заковано в рабский хромированный ошейник, мое пока – свободно.
– А что касается путаницы... Так ведь мысль вторична, она вторична в кубе уже тысячу лет – с тех пор, как существует наша словесность. Наверное, первым великим мистификатором в этом смысле был сам Даниил Заточник... А черту под этими гениальными мистификациями подвел Брюсов – по-моему, он очень толково объяснил корни всех наших несуразностей.
– И в чем же эти корни?
– "Быть может, все в жизни – лишь средство для сладко певучих стихов!" Все верно. Сама по себе жизнь имеет у нас значение лишь как материал для литературы.
– Ну это когда было! – усмехнулся Катерпиллер.
– Да как сказать, как сказать... Слушай, ты чего делал, когда у нас тут разворачивался августовский путч?
По-видимому, Катерпиллер не ожидал такого поворота в разговоре; он поднял глаза в потолок – наверняка соображал, как бы поживописней соврать: мол, был на баррикадах, у костров...
– Да я не о том! – успокоил я Катерпиллера. – Тебе не кажется, что история о том, как Борис Николаевич вызволял из Фороса Михаил Сергеича – она за пределами реальности? По-моему, это просто коллизия из какого-то романа.
Дверь плавно зевнула – в кабинет всплыло существо, сошедшее к нам прямо с потных подмостков конкурса красавиц. У нее было очень эффектное и очень глупое лицо, в котором стояла эстрадная улыбка; достаточно вольный для официальной конторы туалет – вырез в кофточке, расчерченной красно-белыми штрихами, стремится за грань нормы; подбородок приподнят, поднос в руке движется по идеальной прямой, не приседая в такт восхитительно раскаченной походке. Впрочем, рост немного не вписывается в выставочный канон – до стандарта не дотягивает.
– Кофе, разумеется? – осведомился Катерпиллер деловым тоном. Он даже не взглянул в сторону выреза, зато заглянул я и оценил все, что у этой дурехи хранится за пазухой.
– За что люблю буржуазию – так вот за это. В подборе и шлифовке кадров она знает толк: постная деловая девушка в приемной – селедка в твидовой чешуе – смоделирована очень точно. Равно как и эта, приносящая кофе. Если первый персонаж напрягает, то второй замечательно расслабляет. А где же третья девушка?
– Не понял! – нахмурился Катерпиллер.
– Быть принятым – раз. Выпить – это два. Кого-нибудь употребить – это три. Таков полный комплекс желаний, которые я испытываю, приходя в гости*[18]18
* К слову. Ей-богу – этот комплекс универсален и присущ любому нормальному мужику. Если посреди веселья кто-нибудь хватается за альбом Брейгеля или – того лучше – пускается в рассуждения об игровом начале в романах Картасара, я сразу сматываюсь. Когда хозяева в недоумении спрашивают, куда я бегу ни с того ни с сего, я отвечаю, что спешу до ближайшей поликлиники – мне хочется записать этого парня сразу к трем врачам: сексопатологу, психиатру и, на всякий случай, к терапевту.
[Закрыть].
– С молоком? – осведомился Катерпиллер.
– С коньяком...
Он повел глаза вверх и вбок, барышня поймала его взгляд и медленно двинулась к двери. Она так восхитительно раскачивала бедрами, что я даже предположил:
наверное, этот персонаж совмещает в фирме сразу два "гостевых" желания: второе и третье.
Через минуту к нашему столу причалил и отдал швартовые очередной поднос: грузинский, три звездочки, с голубой наклейкой (сто лет не видел...), шарообразные рюмки – свою я отодвинул.
– Стакан, дорогуша, стакан...
Эстрадная улыбка треснула.
– Это как раз в русле нашей беседы. Наверное, в конторе найти граненый стакан оказалось делом непростым – она отсутствовала минут пять, но все-таки нашла. Я налил до краев.
Мне начали надоедать наши разговоры, я прикинул про себя: выпью все, что тут есть в закромах, и смотаюсь.
Я осторожно поднял стакан и донышком аккуратно прикоснулся к краю Катерпиллеровой рюмки.
– Давай выпьем. За ошибки переводчиков!
Катерпиллер скуксился, изобразив поджатой губе разочарование. Коньяк был хорош: доза в двести весомых граммов вкатилась в меня, как шар в лузу.
– Ты меня не понял... Знаешь, откуда у нас взялась мода хлестать коньяк стаканами? Она проросла как раз-таки из литературы. Строго говоря, это следствие тривиальной переводческой ошибки. Некто такой Володя Высоцкий – бывают же такие совпадения в именах! – он был переводчик, еще в начале века. Чудный парень по свидетельству современников, веселый и красивый И вот, переводя как-то Пшибышевского, он оплошно поместил в русский текст слово "стакан". В оригинале – конечно же, "рюмка". И все общество, слабо разбирая, где кончается пространство литературы и где начинается сама по себе жизнь, приохотилось лакать крепкие напитки стаканами.
– И что?
– Он чуть было не сыграл в ящик.
– Кто? – не понял Катерпиллер.
– Да этот Высоцкий. Он так увлекся собственной ошибкой... Ему нельзя было. У него были слабые лег кие.
Катерпиллер оттопырил мизинец, приподнял рюмку.
– Это как раз то, что мне нужно.
Я поплыл – качественный напиток натощак дает с себе знать быстро – и уже слабо понимал, о чем у нас речь. Закурил, залпом выпил кофе; кофе немного привел в порядок строй мыслей.
Этот строй слегка покачнуло шальное предположение – если оно окажется верным, значит, я в Катерпиллере сильно ошибался: он гораздо умней, тоньше и изысканней, чем прикидывается... Я осторожно двинулся вперед, прощупывая почву под шальным предположением.
Он явно встревожен. Стало быть... Тебе, стало быть, надо обнаружить источник этого беспокойства, так? Тот нервный центр, откуда исходит импульс?
Ей-богу, меня это начало занимать! Если он в самом деле исходит из предположения о вечной перепутанности пространства жизни и пространства литературы, то, стало быть... Стало быть, он не настолько прост, как мне казалось. Стало быть, он что-то желает получить от меня. Что? Конечно, не квалифицированное прокурорское расследование. И не систему энергичных мер – в духе сыщиков из МУРа, И не схему охраны.
– Это что-то серьезное? Насколько это серьезно?
– Я давно чувствовал: что-то вокруг нас не так... А вчера ... – У него было лицо человека, испытавшего приступ острой зубной боли, – вчера пропал наш... Как бы это тебе объяснить? Знаешь, что такое ньюс-бокс?
– Ну, имею кое-какое представление... Ньюс-боксы существуют в газетах. Ящик, битком набитый новостями.
– Вот-вот! – заметил Катерпиллер. – Вместилище всего потока оперативной информации – обо всем, что происходит вокруг нас и может нас касаться.
– Это может быть компьютер...
– Естественно! – усмехнулся Катерпиллер. – При одном условии. У этого компьютера должен быть особый человек – с чутьем легавой и хваткой волка, понимаешь? Это и есть Борис Минеевич... И он пропал. А без него я – как без рук. Он крайне необходим. И чем быстрее он найдется, тем лучше. Он должен быть здесь, рядом. Всегда...
Я предположил: запой? Катерпиллер отмахнулся: исключено... Загул? Девицы? Любовница?
– Исключено, исключено... – Катерпиллер старательно разминал виски.
Устал, все надоело, сбежал в деревню к старушке матери, в глушь, в Саратов?
– В Вятку, – поправил Катерпиллер. – Но это тоже исключено.
Мы умолкли. Я курил, он рассеянно глядел, как стрелка наручных часов (очень скромные внешне, но, скорее всего, очень дорогие) щекочет пятки цифрам.
– Понимаешь, я чувствую – вокруг напряг...
– Кто-то из фирмы?
– Исключено.
– Компаньоны?
– Нет, вряд ли... Исключено.
– Женщина?
– Ай, брось!
Я, наконец, решил, что пора обнародовать мое предположение.
– Ты хочешь, чтобы я... сочинил этот персонаж? По законам, так сказать, современного жанра... – я намеренно провалил наш диалог в долгую паузу, дожидаясь, пока он расхохочется и скажет: ну ладно, посмеялись – и будет...
Он не сказал.
– Слушай, ты это серьезно? – спросил я.
– Да.
– В таком случае, кто-то из нас псих – либо ты, либо я.
– Если тебе так хочется, пусть буду я...
– То есть мне надо попробовать сконструировать некий текст? И текст нас вытащит на главного героя? Именно на того, кто тебе не дает спокойно спать? И всего-то?
– Но, кажется, ты ведь уже приступил? Ведь мы уже набросали первую страницу, ведь так?
Он допил, поставил рюмку на поднос, я подлил себе – чисто символически, чтобы собраться с мыслями.
– Тебе известно, что труд сочинителя – труд каторжный?
Он усмехнулся, да и я не удержался, прыснул *[19]19
* К слову. Без малого тысячу раз я встречал в статьях определение «каторжный», запряденное коренным в тройку, где присяжными выступают, с одной стороны, «труд», и с другой – «писатель». Посиживать себе где-нибудь на переделкинской даче, грызть карандаш, считать ворон в саду, вынашивая замысел, – это, конечно, каторга, тут никаких сомнений быть не может; каторга, лесоповал, махание кувалдой в руднике, таскание на горбу мешков с цементом – тяжкая, тяжкая переделкинская каторга...
[Закрыть].
– Сколько? – сухо осведомился Катерпиллер и снова промокнул платком влажный лоб.
– Да ерунда. Текущие расходы, кредит – в рамках разумного.
– Нет проблем.
– Ну там... Визитка от фирмы. Скажем, консультант, Консультант? Это хорошо, это нормально. Солидно, но ни к чему не обязывает.
– Нет проблем...
– Автомобиль...
– Нет проблем.
– Деловая документация, контракты, договоры, протоколы – текущие и потенциальные. Я понимаю, информация конфиденциальная, но...
Он напрягся, налил минералки, выпил.
– В таком случае, пока! – я встал, меня сильно пошатывало. – Мы не сговорились, – я двинулся к выходу.
– Ладно, черт с тобой.
Я вернулся, уселся в кресло, где уже освоился, присиделся. Закурил. Медленно прокрутил в памяти наш разговор – что-то здесь было не так.
– Слушай, Федя, давай не крути...
– Мы, кажется, все обсудили?
– Это понятно, сочинять так сочинять... Дело, сказать по правде, нехитрое, незатейливое – потому и сочинителей у нас пруд пруди. Но ты позвонил именно мне.
Он отпил глоток, промокнул платком потный висок. Взгляд у него был холодный, тяжелый.
– Ну, во-первых, мы в некотором роде свои люди, не так ли? – Он откинулся на спинку кресла, отвернулся к окну и тихо добавил: – Ко всему прочему, ты ведь хорошо стреляешь, если не ошибаюсь?
Ну ничего себе! Нет, он не ошибается, когда-то под нашим старым добрым небом я целыми днями пропадал на стрельбище; палил по летящим тарелкам и "дорос" до первого разряда. Однако Катерпиллер – персонаж современного жанра. Если у них возникает потребность в стрельбе, то вряд ли в качестве мишеней они выбирают тарелочки.
– А что, это сочинительство будет связано с пальбой по мишеням? По каким? По живым?
Он усмехнулся и покачал головой:
– Нет, конечно!.. Но мало ли что может случиться в нашем деле. Жизнь такая... Сам понимаешь.
Понимаю: не жизнь, а совершенный Хэммет.
Мне в самом деле нравится эта работа. За здорово живешь я получил деньги, машину, полную творческую свободу, возможность лежать на диване, глазеть в окно – то есть, как раз возможность вынашивать замысел и при этом не мучиться по утрам головной болью где бы раздобыть денег на жратву.
– Будем считать, мы с тобой оформили издательский договор! – Я допил коньяк и двинулся к выходу.
У двери я помедлил, оглянулся – он сидел на своем месте, утирал влажный лоб платком и обмахивал лицо газеткой.
– Хочешь, поделюсь с тобой одним профессиональным наблюдением? – спросил я. – Одно время я работал мойщиком трупов...
– Балбес! – Катерпиллер поперхнулся.
– Да нет, серьезно, – спокойно продолжал я. – Так вот. В твоем кабинете, строго говоря, стоит такой же колотун, как в покойницкой.
В ту же ночь я получил резиновой дубинкой по башке.
6
Это была именно резиновая дубинка.
Момент удара я не видел – меня стукнули по затылку – но прежде, чем ткнуться лицом в землю, я успел сообразить, чем именно воспользовались, чтобы уложить меня.
Когда-то под нашим старым добрым небом резиновой дубинкой владел один-единственный мальчик из всей дворовой шараги, его звали Хэха; ни имени его, ни фамилии никто не знал – Хэха и Хэха.
Хэха: плотное сложение, квадратный торс; он мог бы выглядеть атлетом, если бы не патологическая – на грани уродства – коротконогость и маленькая, вытянутая тыковкой головка.
Он был крайне неразговорчив; нормальные человеческие слова в нем не жили, а все отдаленно напоминавшие человеческую речь звуки, что квартировали в его хрипящей глотке, вся палитра чувств, знаний и эмоций размещалась в этом характерном, раздробленном хрипотцой возгласе:
– Х-х-х-э-э-э!
Скорее всего, потому его и звали Хэха.
Он жил возле железной дороги, в длинных дощатых бараках, заселенных барачными людьми, и был он прост, храбр, добродушен, готовился в первую "ходку". (А куда ему деваться?.. Все тамошние, барачные, либо уже сидели когда-то, либо сидели в тот момент, либо готовились сидеть; похоже, они и детей рожали с тайным умыслом пополнить каторжное племя, и эта устойчивая походка судьбы была отпечатана в их тяжелых квадратных лицах) и владел большой ценностью – тяжелой резиновой дубинкой, залитой свинцом..
Однажды – по ошибке – в суматохе рукопашного боя с кодлой из квартала строителей мне довелось испытать на себе действие этого снаряда; впечатление сногсшибательное, его я сохраню до конца своих дней. Зерно этого впечатления в том, что боль тяжела, тупа, ватна – ты погружаешься в вату и слышишь гул морского прибоя, как будто вместо ушей у тебя две огромные рапанные раковины.
Хэха так и не успел сходить в тюрьму, его убили на четырнадцатом году жизни – там, у них, неподалеку от железнодорожных путей. Его закололи ножом; он лежал на откосе, свернувшись уютным калачиком (мы видели – бегали глядеть издалека, пока не прибыли "воронок" и санитарная машина), а у входа в барак стояли распаренные, разваренные в чаду общей кухни женщины; они не кричали, не голосили и не перешептывались, они молча вытирали влажные руки о свои замызганные фартуки... Таковы уж женщины бараков; они давно разучились удивленно распахивать глаза на этот мир; они начинают увядать уже в тот момент, когда женщине самой природой положено цвести, распускаться и наливаться соком; годам к двадцати их талии теряют значение талий, их груди отвисают, а в лицах расплывается овечье безразличие ко всему тому, что составляет жизнь женщины, и потому по ночам они лениво плывут в потных потоках грубой любви и сонно, свернув голову на бок, отдаются угрюмой ярости мужей, жаждущих скорого, бессловесного совокупления. День за днем они медленно линяют внешне и ветшают душой, и потому даже чья-то смерть, встающая вдруг в полный рост перед ними, не способна разбудить в их груди крик горя или стон отчаянья – они привыкли сопровождать жизнь молчанием.
И они молчали, машинально вытирая влажные руки о фартуки, а Хэха лежал в колкой траве, иссушенной солнцем; он очень смирно лежал, свернувшись калачиком, и напоминал спящее дитя – скорее всего, и я вот так же лежал в грязи, прежде чем пришел в себя.
7
Я честно приступил к исполнению служебных обязанностей, едва ступил за порог конторы.
Скорее всего, секретарша по монитору следила, хорошо ли я веду себя в качестве консультанта фирмы.
Она мне действовала на нервы, эта селедка в твидовом костюме.
Отдалившись от кованого крылечка ровно настоль ко, чтобы не пропасть из поля зрения телеглаза, я смачно, с треском высморкался, не прибегая к помощи платка. И для порядка энергично повстряхивал кисть, как бы желая стрясти с пальцев насморочную влагу, как это делают все, привыкшие прочищать нос таким незатейливым способом.
По-моему, у меня получилось.
Я подумал, что если в этой конторе приживусь, то обязательно при первом же удобном случае ее трахну. Не оттого, что она произвела на меня впечатление, а просто из вредности: я употреблю ее грубо, агрессивно, зло и грязно – нечего строить из себя бог знает что.
Я обогнул особнячок, покручивая на пальце ключи.
Мне было предложено на выбор: "тойота", не новая, из той, скорее всего, породы, что привозят наши морячки, или – просто "жигуль".
Я выбрал то, что просто.
У "тойоты" правый руль; с таким рулем я ездил всего пару раз и всегда чувствовал себя не в своей тарелке. "Жигуль" невзрачного мышиного оттенка оказался в полном порядке, только в руле чувствовался небольшой люфт.
Я запустил двигатель, тронул, проехал метров двадцать и встал – забыл нацепить "дворники". Было что-то около восьми вечера; основной поток служивого народа схлынул, переулок опустел – вот только в дальнем конце его, по соседству со стройкой, белел кузов грузового "москвича".
У ближайшего метро я остановился прикупить винца*[20]20
* К характеристике жанра. Интересно, что бы подумали комсомольцы-добровольцы, строители метрополитена, привидься им в страшном сне метро сегодняшнего дня... Впрочем, до чего удобно: едва покинешь высокие мраморные своды старых станций и выходишь на улицу, как тут же оказываешься в оазисе, где цветет бутлегерство всех сортов и видов. Если это и есть то рыночное хозяйство, о котором так долго твердили наши яйцеголовые профессора, то мне такой рынок очень по душе. Ах ты, благодатная алкогольная поляна! Ах, аромат губ, именины сердца! Чего только тут нет: и цивилизованные «лимонные» с «кубанскими», и полевые «имбирные» и множество сорняковой флоры портвейна!
[Закрыть].
Дело секундное, но, на всякий случаи, я решил запереть машину: теперь собственность нельзя оставлять без присмотра или защиты даже ни на секунду.
Замок тугой, проворачивался плохо – это я еще на паркинге заметил – и я немного замешкался. Этого промедления было достаточно, чтобы какая-то машина, резко вильнувшая из крайнего правого ряда и просвистевшая буквально в полуметре, окатила меня грязью. Я уже собрался послать ей вдогонку что-нибудь ласковое, вроде: "козел", "хрен моржовый" или "мудила гороховый" – но почему-то осекся на полуслове.
Перелезая через железное ограждение тротуара, у которого громоздились пластиковые ящики, я подумал, что почему-то этот автомобиль, который я видел краем глаза, мне знаком.
Точно! Это был тот белый грузовой "москвич", который сторожил край переулка.
Торговал вином парень в китайской пуховке: гладкая рожа, в которой растворен осадок четырехклассного образования, а все, что плескалось поверх осадка, было настояно на прозрачных, без посторонних примесей, бандитских наклонностях. Он с интересом наблюдал, как я распечатываю "котлету" – банковскую упаковку ассигнаций, полученную в конторе, и посасывал сигарету.
Загадка, тайна природы: отчего это все бандиты у нас предпочитают американские сигареты? Они быстро тлеют, ими невозможно толком накуриться, и к тому же тонкие, изящные дымы выглядят на фоне бандитских рож чем-то совершенно эфемерным, сокрушительно потешным.
– У меня там еще много, – сказал я, уловив его интерес к "котлете". – Там, в тачке, в багажнике. Я только что грохнул казино в "Национале".
– Бог в помощь, – улыбнулся бутлегер.
– Крупье там померещилось, что я неправ... Пришлось его застрелить. Завтра об этом будет заметка в "Московском комсомольце".
– Почитаем, – пообещал бутлегер.
Он сказал "почитаем", но я не уверен, что он сохранил способность воспринимать печатное слово. Их интеллектуальный порог, как правило, не выше видеоролика... Я взял у него "фаустпатрон" портвейна.
Остаток дня я просидел за столом. Честно работал, осмысливая варианты будущего текста. Малыми дозами вынимал из памяти все, что хоть как-то могло быть связано с новой службой; прошелся под ручку с Эдгаром По, но мы быстро распрощались, и каждый двинулся своей дорогой; Честертону я рассеянно кивнул – он милый человек, но в его руке не хватает остроты, его патер ходит задом наперед; на Бейкер-стрит был смысл задержаться – тамошний скрипач-любитель старомоден, но он жесткий конструктивист, а это может пригодиться.
Нужен именно набор конструкций – унифицированных, скелетно-жестких, очищенных от беллетристических мягкостей, строго отсортированных и разложенных по ячейкам. Не зря же все наше бытие – всего лишь литературный сюжет! Где-то за спиной интеллигентно подкашлянул Уилки Коллинз, но я постарался его не заметить; Акутагаву я не звал вовсе, но он объявился. В его лице стояла немыслимая восточная улыбка, имеющая, на мой вкус, значение раскаленной сковороды, на которую плеснули воды: улыбка тянет губы, но в глазах – стальной холод... Восток дело тонкое, слишком тонкое; его гениальная Чаща могла вырасти только на влажной азиатской почве, для наших же нечерноземов это никак не подходит. Я с пристрастием допросил Хэммета, Чандлера, Кристи, Гарднера, Джеймса, Жапризо, естественно, Чейза, Буало и Нарсежака, Стаута, Брауна, Томаса и кое-кого из современных ребят, которые с потрясающей скорострельностью шарашат покет-буки про Джерри Коттона и так далее. Уже к вечеру я имел неплохой патронтаж конструкций.
Потом я порыскал по национальным квартирам. Американцы – те без затей, англичане нудноваты, скандинавы заторможены; у немцев вообще нет детективного жанра; поляки слишком часто отсылают героев за границу и почему-то по большей части в Данию или Швецию; болгары прямолинейны, много курят "при исполнении". Чехи? У чехов, если соседка стащила у соседа курицу, это уже повод для детективной коллизии. Латиноамериканцы? Это слишком сложно, слишком вязнет в национальной традиции. Африканцы – отдельная история; они же как дети, африканцы, – в сюжетном монтаже, в характеристиках, в стилистике; у них все просто, мило и сказочно. Мы, кстати, глубоко заблуждаемся, отодвигая африканцев куда-то за пределы классического вкуса только потому, что они черные и будто бы недавно слезли с дерева – это предубеждение. Мне как-то случайно попался роман Тотуолы "Путешествие в город мертвых", и я долго не мог прийти в себя – фантазии у этого африканца хватило бы на сотню европейских писателей.
Что касается наших, то их я отмел сразу. Наши с патологическим упорством населяют тексты странным типом милиционера. Это, как правило, утонченный, изысканный персонаж, способный с ходу растолковать теорию относительности, свободно ориентироваться в живописи эпохи Возрождения, а что касается его склонности к цитированию, то создается впечатление, что Кафку, Кьеркегора, Камю и Гамсуна у нас преподают преимущественно в полицейских школах.
Я досидел до самой ночи, выпил много кофе, искурил пачку "Пегаса" – во рту сделалось сухо и горько, как будто весь день жевал речной песок.
Ни к какому выводу я так и не пришел. Пока текст просто не из чего было конструировать. Ну, обволакивает Катерпиллера некая туманная тревога, ну, "ньюс-бокс" сгинул – и что?
Был первый час ночи, но заснуть мне вряд ли удалось бы. Я зашел к Музыке в надежде найти глоток горячительного.
Во дворе орал автоаларм.
Я не обратил на эти острые ритмичные повизгивания никакого внимания – привычка. Во дворе стоит с десяток машин, и практически каждую ночь надрываются алармы: пацаны снимают лобовые стекла, колеса, аккумуляторы, потрошат салоны, и ничего с этим не поделаешь – ничего.
На этих ребят просто надо ставить капканы – другого средства уберечь собственность в нашем городе нет. Или минировать подступы к паркингам.
Я зажег свет. Мой "фаустпатрон" стоял на столе, конечно же, разряженный. Худосочный свет от лампочки вяз в толстом, мутном бутылочном стекле, занавеска на окне болталась на сквознячке в такт вспышкам сигнального звука, и я вдруг понял, что это ударно трудится в ночи мой аларм.
Я проверял его, прежде чем поставить машину во двор, он был узнаваем – слегка подвывал на излете отрывистого сигнала: звук по-кошачьи выгибал спину.
Я вышел во двор. Мой "жигуль" смирно стоял у старой липы и орал.
Я обошел машину, в кармане нашарил ключ. Последнее, о чем успел подумать; "Это резиновая дубинка" – и еще на какую-то долю секунды мелькнуло перед глазами прежнее, оставшееся в другой жизни; дорожный откос, в сухой траве лежит, свернувшись калачиком, мальчишка, ему четырнадцать лет от роду, его зарезали, его зовут Хэха, он живет в дощатых бараках у железной дороги – и, кажется, успел крикнуть:
– Х-х-х-э-э-э-х!
8
8
Если меня кто-то и обнаружил в ночи, так это, скорее всего, Чуча.
Чуча – собака желто-табачной масти, ее родительница наверняка якшалась с волчьей стаей: внешне Чуча и есть самый настоящий волк, впрочем, волк особый, уникальный. Если бы все серые обладали Чучиным характером, то в тамбовских лесах царил бы мир и покой. Ни в одной собаке – пусть даже самых благородных, умных кровей – я не встречал подобного добросердечия.
У Чучи есть хозяйка, во дворе ее зовут баба Тоня – не совсем точно зовут. Баба есть нечто огромное, рыхлое с переваливающейся походкой, у бабы густой, низкий голос, бабы в оранжевых дорожных жилетах носят на себе рельсы, бабы орут в очередях и едят много мучного – баба Тоня фигурой напоминает двенадцатилетнюю девочку, с трудом тащит трехкилограммовую сетку с гнилой картошкой и почти ничего не ест.
У нее, кажется, какая-то пенсия, пенсию почти целиком съедает Чуча.
Если Антонину упрекают: какого черта кормит собаку мясом, а сама питается святым духом, – она неизменно отвечает:
– А мне зачем? Пусть ей будет.
Собака стоит рядом, уронив взор долу: она все понимает, и ей стыдно объедать тетю Тоню.
Гуляет она, как правило, по ночам – чтобы Чучу не упрекали и не стыдили.
Впрочем, последние полгода Чуче приходится подголадывать – хозяйка приютила в доме дочь с внучкой.
Тети Тони дочка –это бледное, изможденное существо неопределенного возраста, у нее малярийного цвета лицо, и вся она состоит из впалостей: впалые щеки, впалые глаза, впалая грудь... К матери она сбежала от мужа, который, по слухам, сильно закладывал и в припадках бешенства зверски колотил свое семейство: скоро его определенно посадят, но, пока не посадили, лучше от него держаться подальше. Она нанялась мыть перед закрытием полы в нашей булочной и продуктовом магазине; двери в торговых точках закрываются плохо. Тонина дочка, отжимая чудовищно грязную тряпку, истерически кричит – даже не на покупателей, у куда-то в подпотолочное пространство: "Ну что за люди, что за люди!" – и тут же начинает шумно рыдать... Ее шарахаются, подозревая, что у уборщицы не все дома.
Младшенькая в их семействе... Ну, что сказать? Бледный, худой ребенок лет восьми с глазами кролика; у кролика глаза глупы и покорны, но этого девочке, наверное, недостаточно, и она рассыпает в своих кроличьих глазах острые искры дикой животной перепутанности.
Собака шершаво лизнула меня в щеку, и я пришел в себя. Поодаль стояла баба Тоня.
Свернув голову на бок и спрятав лицо в воротник, она кашляла: тяжело, хрипло – странно, откуда в ее хрупком теле берутся настолько мощные свирепые хрипы? Впрочем... Скверное, скудное питание, ветхая одежда... Возможно, у бабы Тони чахотка, а это, как известно, болезнь бедности.
По логике вещей: если ты обнаружил во дворе человека без признаков жизни, следует поднять крик, звать на помощь, бежать к телефону и вызванивать "скорую", но баба Тоня – она ведь тоже из рода молчаливых барачных женщин – просто стояла и, покашливая, наблюдала, как я пробую встать на четвереньки.
Я дополз до старой липы, цепляясь за ствол, кое-как поднялся. Собака отошла, присела рядом с Тоней. Я отдышался, собрался с силами.
Теперь они в четыре глаза спокойно наблюдали, как я дергаю дверцу автомобиля, нахожу ее запертой и вообще нахожу, что ничего не похищено, даже "дворник", который я позабыл снять, потом баба Тоня повернулась ко мне спиной и побрела в сторону детской площадки, следом за ней двинулась собака.
9
Александру Александровичу Фадееву я послал воздушный привет, а рыжую поцеловал в щеку.
Сан Саныч был угрюм, молчалив, запылен и отвечал на приветствие демоническим взглядом.
Рыжая отвечала – братским поцелуем и упреком: я, скотина такая, совсем перестал показываться, живем же в пяти минутах ходьбы друг от друга, неужели так трудно зайти проведать...
Мы знакомы давным-давно – когда-то под нашим старым добрым небом учились в одной школе, правда, она тремя классами младше. Маленькая, рыженькая – она напоминала юркого, проворного зверька с пушистым хвостом, бесстрашно прыгающего с ветки на ветку, потому и звали ее у нас в Агаповом тупике Белкой. Последние пятнадцать лет мы вместе предавались трем полезным для здоровья занятиям: катались на лыжах в Терсколе, изредка попивали винцо и спали в одной постели.
Что касается постели, то года полтора назад мы начали потихоньку остывать к этому занятию. Наверное просто устали: она – от меня, а я – от нее.
– Как жизнь, рыжая? – спросил я, покосившись на Белинского; она в ответ рассеянно пожала плечами.
Значит, никак. Ну что ж, это понятно, все мы никакие люди в никаком городе.
Неистовый Виссарион смотрел на меня так, будто хотел испепелить взглядом.
Я всегда очень неуютно чувствую себя в этой библиотеке где на стенах под самым потолком в овальных лепных рамах стоят намалеванные масляной краской лица гигантов духа: на торцовых стенах – Белинский и Добролюбов, а с фронта на тебя гневно взирают Фадеев, Горький и Маяковский.
Немного странный подбор корифеев, учитывая, что библиотека относится к каким-то профсоюзам и хранит на своих стеллажах профсоюзную мудрость всех племен и народов.
Впрочем, забрёл я сюда не за тем, чтобы поболтать с революционными демократами и пролетарскими писателями.
– Ты своего благоверного давно не видела?
– Нет. – Белка покачала головой. – И видеть не хочу.
Понимаю: ей досталось в этой жизни в свое время...
Она была когда-то замужем за Катерпиллером. Что толкнуло ее на этот безумный, в голове моей до сих пор не укладывающийся, шаг, сказать трудно... Она всегда была очень умной и талантливой девочкой, это еще в школе было заметно, а уж на факультете нашем, куда она поступила сразу после школы, набрав на вступительных экзаменах одни пятерки, – и подавно... В аспирантуру потом прорвалась, писала что-то про Латинскую Америку.
Не знаю уж, как она тогда выжила.
У них должен был родиться ребенок. Катерпиллер этого не хотел. Расстались они мирно и интеллигентно, он просто отошел в сторону: делай как знаешь, однако – без меня. Она родила... Слабенький был пацанчик, "кесаревый". В полтора года подхватил пневмонию – жуткую какую-то, свирепую и быстротекущую. Словом, за двое суток он "сгорел".
Мы едва ее потом откачали.
Аспирантуру – пацанчик ее все время хворал – пришлось бросить. С тех пор сидит в хранилище профсоюзной мудрости, стол ее стоит прямо под Фадеевым.
Я не очень-то надеялся, что узнаю у Белки что-нибудь свеженькое про Катерпиллера. Так оно и оказалось. Нет, она своего бывшего благоверного давно уже не видела. И видеть не хочет.
Я ее понимаю.
– Ты с ним поосторожней, – посоветовала Белка узнав о моих делах. – Он человек сложный... – она задрала голову и пересеклась взглядом с Александром Александровичем, точно испрашивая у него подсказки. – Он, знаешь ли, человек молчаливых решений. И очень себе на уме.
Что-что, а это я хорошо понял.
– Ему передать что-нибудь?
– Передай – чтоб он сдох, – вяло откликнулась Белка.
Ценное пожелание. Обязательно при случае передам.
У выхода из зала я обернулся.
Белка сидела за столом, сдавив виски ладонями. Александр Александрович гневно смотрел мне в спину








