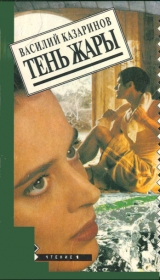
Текст книги "Тень жары"
Автор книги: Василий Казаринов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
– Мы поладим! – сказал я.
Она приоткрыла рот и – медленно, медленно, медленно – провела кончиком языка по верхней губе.
Этот характерный женский знак приглашения к быстрому развитию отношений мне слишком хорошо знаком. Когда они вот так проводят язычком по губе, у меня мутится в глазах – пришлось собраться с силами, чтобы тут же не опрокинуть ее на пол.
Глава третья
...Нет, Мы не кинемся на Них, Мы пришли не за тем, Мы просто молча, сталактитовыми столбами, встанем а круг у Их изысканно сервированных столов, Они почувствуют Наше присутствие и поймут, что все меры предосторожности тщетны, потому что Мы умеем проходить сквозь стены, этот дар воплощен в Нас одноухим нищим безумцем, Отцом Нашим. И значит Им никуда от Нас не деться.
1
Собака есть калька хозяина, оттиск его характера, продление его натуры. Ватикан признал право животного на обладание живой душой, но душа собаки несамостоятельна, потому что хозяину пространство собственной души представляется слишком узким, тесным -миниатюрную ее модель он селит в меньшого брата.
На пороге их квартиры меня встретил карликовый пинчер.
Эти несчастные декоративные костлявые собачки вывихнутой, дерганой пластикой, эти остро, тонко, словно "циркулярка" на полных оборотах, визжащие шавки вне сомнений, есть плод чьего-то изощренного изуверства. Наверное, этот сукин сын в долгих раздумьях и скрупулезных селекционных трудах вынашивал модель создать нечто идеально отталкивающее; слепить крохотную модель уродства, живой комок всех мыслимых и немыслимых пороков – и ему удалось точно воплотить свой извращенный вкус в этих маленьких; агрессивных существах.
Она бесновалась у моих ног, на ее губах пенилась ненависть ко всему, что живет и дышит вокруг; все коротышки – собачьего ли рода, человеческого ли – втайне желают стать властелинами мира, и эта Тэрри, конечно же, не исключение.
– Тэрри! Ну иди, иди, девочка, на место. Иди...
Занятый препирательством с этой визглявой крысой, я как– то не успел толком разглядеть хозяйку.
Борис Минеевич жил в центре, в глубоко эшелонированных тылах мощного, широкоплечего дома: этот бетонный монстр начинен высокопоставленными гаишниками – тут у них высшее, центральное гнездо, заправляющее всей гигантской стаей желто-голубых "канареек" с мигалками и спидганами.
На той стороне Садового кольца, растянувшись до мастерской по ремонту пишущих машинок, вмерзала в желтую стену огромная очередь, заметно припухавшая у стальных дверей магазина. Внутри этого облепленного черными ватниками и драпами старых пальто тромба пульсировала нервная энергия борьбы за место под солнечной вывеской "ВИНО" – катились с голов шапки, плескались руки в матерной пене, и время от времени на гребне волны мелькал чей-то кувыркающийся костыль... Я подумал: уж не Костыля ли это костыль?
Костыль*[21]21
* К характеристике жанра. Он – один из старожилов нашего Агапова тупика. В прошлом моряк, плавал по океанам матросом тралового флота. Где и при каких обстоятельствах потерял ногу, я не знаю – последние лет двадцать он получает пенсию по инвалидности. Если бы у нас на дворе был бы не Хэммет, а морожный соцреализм, то к нашей с Костылевым дружбе стоило бы присмотреться кому-нибудь из «инженеров человеческих душ»: мы являем собой то, что в рамках художественной доктрины формулируется как постулат о «типических характерах в типических обстоятельствах».
Костыль – прекрасный, душевный человек; беда состоит в том, что он слишком социально активен. Дело хозяйское... Что до меня, то я знаю одно: социальная активность приводит к импотенции. Меня это волнует, а Костыля, кажется, нет. Его социальная активность причудливо трансформирована в область чисто архитектурных реформаций. По его убеждению, мы так скверно живем именно потому, что своевременно не сравняли с землей тот или иной дом или даже целый квартал.
Помнится, лет шесть назад он меня убеждал в том, что достаточно сравнять с землей Старую Площадь, и всем сразу станет хорошо. Потом он положил глаз на Лубянку. За Лубянкой последовали Миусы, где необходимо было сравнять с землей гигантское здание Министерства среднего машиностроения, где окопался высший эшелон Военно-Промышленного Комплекса. Шестой год перестройки Костыль посвятил расчистке местности от разнообразных мелких контор, как то: ДОСААФ, Комитет советских женщин, ОСВОД, Красный Крест, Комитет защиты мира и еще, кажется, Общество борьбы за трезвость. Сказать по правде, его реконструкционные замыслы были мне по душе: приятно жить в чистом поле, где из свежевспаханной земли торчит одно-единственное здание – Белый Дом на Пресне.
Однако теперь Костылю не дает покоя именно Белый Дом. Он говорит, что единственная его мечта – это подвесить всех демократов за яйца. Однажды я его спросил: как в этом случае следует поступить с женской половиной демократического крыла?
Он с минуту пристально смотрел мне в глаза, и потом решительно заявил: "Всех за яйца!" – "И баб – тоже?" – переспросил я. – "Всех" – убежденно сказал Костыль.
Наша власть никогда не понимала, с кем имеет дело. На "одной шестой" обитают только два психологических типа: Я, которому на все наплевать с высокой колокольни, и Костыль. Всякий третий в нашей компании – ухе иностранец.
[Закрыть] – сердечный приятель моего соседа Музыки, они вместе толкутся на рынке. Правая его штанина заправлена за ремень, а на левой живой ноге он и скачет себе помаленьку. Целыми днями он стоит у магазине «Рыболов-спортсмен» и продает поплавки. Поплавки у него – не просто снасть, это – предмет искусства: они прикручены к картонке проволочками и похожи на разноцветных бабочек в коллекционном музейном планшете. Так он и стоит там, обрушив тяжесть разлинованного тельняшкой крупного матросского торса на приклады костылей... Если ему принести ящик и предложить присесть, он лягнет ящик резиновым копытом костыля: «Когда это... стоймя – берут товар лучше!». А если у него поинтересоваться – как коммерция? – он пожует потухшую папироску, сплюнет: «Япошки, б... косоглазые! Вся снасть теперь от них. Нашу, вон, хрен берут!».
"Мерседес" стального оттенка на всех парах катил по узкому притоку Садового кольца; как атакующий торпедный катер, он рассекал навозные потоки грязи, окатывал тротуар и рассеивал грязевую пыль по стенам домов – я едва успел отскочить.
Нужный дом я отыскал без труда. Вернее сказать, я его не искал: он сам выплыл навстречу из глубин квартала – здешние улочки текут плавными приливными волнами откуда-то со стороны гигантской морской звезды, в которой живет Театр Советской Армии. Дом высился на плоской, разровненной бульдозерами отмели: нестандартная архитектурная линия, застекленные лоджии, желтый облицовочный кирпич; Борис Минеевич должен был проживать именно в таком доме... В каком-то таком, в одном из таких.
Я поиграл на клавиатуре домофона – без какого бы то ни было успеха. Крошечная лампочка, застывшая на пульте каплей крови, не ожила, не задышал динамик в сетчатом хромированном наморднике. Я вспомнил: кажется, нужно набрать номер квартиры – его я знал.
Безуспешно... Подставил спереди ноль – домофон включился, что-то в его чреве зашевелилось, динамик шершаво зазвучал.
Готовясь к встрече с женой Бориса Минеевича, я успел набросать вчерне этот персонаж. Она, по логике вещей, должна представлять собой характерный тип заведующей овощной базой времен позднего застоя, то есть: никаких там ватников, резиновых сапог и холщовых рукавиц; нет, совсем наоборот: кожа, велюр, саламандра, мадам Роша; связи в райкомах и исполкомах, в Елисеевском гастрономе и на Ваганьковском кладбище, в мебельном магазине и Союзе кинематографистов; ухоженное лицо, прямая осанка, интонация человека властного и уверенного в себе.
Принять гостя она должна в домашнем. Но в каком-нибудь эдаком домашнем, скажем, в кимоно.
Эскиз смазался и поплыл.
Она встретила меня в тяжелой домотканой, бесформенно стекающей с узеньких плеч чуть ли не до колен шерстяной кофте и высоких грубой деревенской вязки черных шерстяных носках.
В ней угадывался деревенский корень: в жесте, в лице, в повадках – природное начало еще тлело в ее внешности; корень был не столько различим зрением, сколько осязаем: слышался отголосок давнего тепла. Городская жизнь стесывает с таких женщин незамысловатые приметы простоты, утончает черты лица, соскребает с речи коросту простецких словечек, полирует манеры и в целом вытачивает либо нечто тусклое и унылое, либо откровенно вульгарное.
Она вышла из мастерской этой жизни в первом варианте – воплощением унылости. Наверняка ей едва за сорок, но на вид можно дать все пятьдесят.
– Собака, знаете... Бузит.
Бузит – хорошее, живое, дышащее слово; значит, в ней еще что-то в самом деле тлеет – от той, прежней, деревенской.
– Борис Минеевич ее обожает... – она с тоской и недоумением смотрела на все еще нервничавшую у наших ног крысу. – А я так себе... Собака и собака. Сначала думала: ой, какая страшная! Потом привыкла.
Если жена величает мужа по имени-отчеству, значит, она состоит при супруге кем-то вроде секретарши.
– Вашему дому, – заметил я, оглядываясь, – больше подошел бы кто-нибудь посерьезней, бультерьер, что ли...
– Да?
Естественно. Загадочность натуры нуворишей, кроме всего прочего, состоит и в том, что из всего гигантского, многообразного собачьего мира они предпочитают не борзых и не легавых, не спаниелей или пуделей, эрделей или ньюфов, а как раз бультерьеров, – этих белых колченогих псов с крохотными красными глазками – сильных, свирепых, не чувствительных к боли.
– Вам кофе? Конечно, кофе, все наши гости пьют кофе. А я вот – чай. Вы проходите. Туда, в гостиную.
– Я, пожалуй, тоже чайку... Руки можно сполоснуть?
– Конечно, конечно, коридор на кухню, вторая дверь.
Я вошел в ванную, потянул носом и инстинктивно огляделся.
Либо я рехнулся, либо где-то здесь должен присутствовать сам маэстро Бальдини – старый и неподвижный, как колонна, в парике, обсыпанном серебряной пудрой, и благоухающий ароматами миндальной воды Франжипани...
Здесь царил именно тот немыслимый, неописуемый хаос запахов, который наполнял лавку серебряноволосого парижского парфюмера, алхимничающего в известном бестселлере Патрика Зюскинда*[22]22
* К характеристике жанра. В оценке того или иного факта литературы мы удержу не знаем – это точно (равно как и факта реальной жизни – эти сферы у нас, как известно, перепутались). «Парфюмер» – отличный роман, спору нет, точный, плотный, на совесть изготовленный с чисто немецкой тщательностью, – и очень гладкий: местами мне кажется, что он до блеска отполирован сапожной бархоткой. Однако надо в самом деле обладать слишком причудливым обонянием, чтобы унюхать в нем метафору такого масштаба, освоение которой было под силу разве что Томасу Манну, Герману Гессе или Булгакову...
[Закрыть].
Мешанина запахов стеной валила из правого угла облитого кремовым кафелем помещения, где, по соседству с биде, от самого пола вытягивался до высоты среднего человеческого роста вместительный стеллаж. Его открытые полки просто ломились от "парфюма" всех мыслимых и немыслимых сортов и фасонов. Что ж, "ньюс-бокс", сколько я понимаю, человек небедный, может себе позволить коллекционное хобби такого свойства. Я плотно прикрыл дверь в кунсткамеру летучих ароматов и направился в гостиную.
Мы ошибочно предполагаем в богатом человеке плоский вульгарный вкус: чтобы хрусталь горой и ковры в несколько слоев. Здесь, во всяком случае, чувствовалось стремление обставить жизнь настоящим: если береза – то карельская, если аппаратура – то никак не плебейская, японская; пепельница, конечно, малахитовая; а чай, конечно, из фарфора – старого, тонкого, отлитого из одной туманной полупрозрачности, – настоящего.
Мы с час сидели за столом, пили чай – ничего заслуживающего внимания я не выяснил.
Он пошел вечером гулять с собакой – и пропал.
Врач ей сказал: Борис Минеевич ничего не помнит. Он все время просит пить, выпивает огромное количество воды и умоляет прогнать тараканов.
У меня чуть было не соскочило с языка: свихнулся, значит! Но я вовремя язык прикусил.
– Так-таки ничего и не помнит?
– Да вспоминает что-то... Путаное, туманное. Говорит, когда гулял в сквере, слышал за спиной – будто кто-то подкашливает... Сухо так, чахоточно.
Стоп, милая хозяйка богатого дома, стоп! Мне надо сосредоточиться – водящему в этом запутанном игровом поле крайне необходима сосредоточенность... Что-то слишком часто у меня над ухом звучит этот кашель: он рассыпан, распылен в огромном пространстве нашего города, совсем как те двенадцать палочек, которые ты, ползая на коленях, старательно собирал; ты обязан был их найти все до единой, аккуратно сложить на место, на подкидную доску, и только тогда получал право подняться в полный рост, размять затекшие суставы и оглядеться... Играем в "двенадцать палочек"? Ладно, играем, нам не привыкать – играли же дети когда-то под нашим старым добрым небом.
Чахоточная побирушка из электрички? Глупо. Учитель биологии, торгующий на блошином рынке голубиными тушками? Нелепо... Ну, не баба же Тоня! И тем более – не полуживая, обездвиженная старуха в окне напротив квартиры Девушки с римских окраин! Тем более – не Музыка...
Однако что-то в этом есть.
У них у всех, похоже, одна группа крови и один на всех кашель.
На всякий случай, я эти "палочки", подобранные в поле наших игр, придержу в руке. Пока я не знаю, зачем это делаю. Наверное, сказывается инстинкт игрока, и не исключено, что именно он когда-нибудь выведет меня к цели, и я соберу-таки рассыпанный кем-то на равновеликие доли смысл...
Напоследок она показывала мне семейный фотоальбом.
Если кому-то из наших киношников потребуется человек на роль классического сукиного сына, то ему следует разыскать Бориса Минеевича. Борис Минеевич может выйти на съемочную площадку без грима.
У него лицо осторожного, опытного в жизни котяры: мягкие, плавно перетекающие друг в друга черты лица, интеллигентные щеки, благородные скулы, аккуратный разрез рта – его можно было бы принять за профессора... ну, скажем, лингвистики. Если бы не глаза – острые, холодные.
– А это вот я!
Узкая каменная лестница, сдавленная тяжелыми, ампирной пышности перилами, не спеша подползает к гигантской, дореволюционных форм двери; изломанные тени ветвей стынут в камне парадного подъезда и – кажется – шевелятся, а воздух – чувствуется – светлый, свежий, прозрачный – воздух позднего марта, совсем левитановский; и, наверное, там, у каменной лестницы, пахнет талым снегом; слышно, как ручей протачивает во льду русло, и птичий крик сыплется сверху – с ветвей большого, не захваченного объективом дерева; а посреди весны облокачивается на каменные перила сестрица милосердия: белый халат, белая докторская шапочка, лицо монашки.
– Вы были медсестрой?
– Да... Давно. В Вятке.
– Борис Минеевич тоже оттуда?
Она кивнула: оттуда.
– А это кто?
Сельская улица, забор, лавочка, на лавочке старуха; ладони на коленях, плечи напряжены, лицо сковано ожиданием птички, которая должна выпорхнуть из фотокамеры, – так сидели женщины в фотостудиях прошлого века, поддерживая плечом тяжелую мужнину ладонь, а на заднем плане плюшевая портьера мягко стекала из-под потолка, приоткрывая туманный пасторальный пейзаж на стене.
– Это баба Катя... Мама Бориса Минеевича. Баба Катя.
Я почувствовал: она напряглась.
– Она очень хороший человек, баба Катя! – ее голос заметно изменился, потяжелел.
Я поинтересовался:
– Она в доме престарелых?
Женщина кивнула.
– Я ей денег посылаю. Туда... – ей было трудно выговорить слово "приют". – Не говорите только Борису Минеевичу.
– Не скажу.
Сукины дети калечат все, что вокруг них дышит и шевелится: женщин, детей, старух и собак.
Напоследок я рассеянно поинтересовался парфюмерной коллекцией – в самом деле у Бориса Минеевича такое хобби?
Она смутилась.
– Да, знаете... – она смущалась очень трогательно – так умеют только простые деревенские девушки в советском кино, поджимая губы, пряча взгляд и не зная, куда подевать вдруг полыхнувшее румянцем лицо; я и не предполагал, что нечто подобное встречается в жизни. – Он что-то в последнее время... Примерно с год...
Я не торопил и не вмешивался. Захочет – скажет. Нет – так нет.
– Он стал сильно потеть.
Я уже выходил на лестничную площадку, однако что-то заставило меня скомандовать себе: "стоп!".
– Как вы сказали? Потел?
– Да, – просто сказала она. – Вот и покупал себе, – она бросила кивок в сторону ванной, – а это...
– Постойте, – перебил я. – Постойте. Ему что, жарко было? Казалось – душно?
Она распахнула глаза:
– Откуда вы знаете? Он вам говорил?
– Да... – соврал я. – Говорил.
Похоже, за ним тенью ходит жара...
И за Катерпиллером – тоже ходит: вон он как потеет в своем прохладном кабинете.
Прикорнувшая было на подстилке Тэрри вскочила, завертелась под ногами – дать бы ей хорошего пинка...
А хозяйку – жаль.
2
Страшно хотелось курить, но спичек в кармане не оказалось. Выйдя из подъезда, я поискал глазами потенциального курильщика. Аккуратный паркинг перед домом был почти пуст – середина дня, самое рабочее время. Один подраненный «мерседес» с мятым крылом, пара «жигулей» и раритетная кремовая «победа» с задранным капотом. «Старушка» была в очень приличном состоянии. Алчно распахнув пасть, она заглатывала какое-то вяло шевелящееся существо в крапленых масляными пятнами брезентовых штанах.
Скорее всего, с двигателем возится персонаж из породы старых автомобилей, хранящих верность первой любви: они сутками способны лежать под своими рыдванами, чинить, штопать, латать дыры, чутко вслушиваться в затухающий пульс изношенных одышливых движков, и нет такой силы, которая сподвигнет их на измену, заставит открыть сердце какой-нибудь вертлявой современной модели.
Согнутым пальцем я постучал по мощному крылу:
– К вам можно?
– Сейчас, сейчас...
Он оказался именно тем, о ком я подумал: старая шоферская кепочка с потемневшим от частых прикосновений промасляных пальцев козырьком, кожаная таксистская куртка на молнии, брезентовые штаны и тяжелые кирзовые башмаки с заклепками – в таких когда-то выступали воспитанники ремесленных училищ. На вид ему лет шестьдесят.
– Что с ней? – я ласково погладил крыло. – Инфаркт? Летальный исход?
– Да боже упаси! – он махнул рукой, отгоняя дурное предположение. – Стартер что-то барахлит. Это ничего, поправим. Мы еще побегаем.
Он не курил, но спички имел – в машине, на всякий случай.
Мы провели очень милую беседу размером в три выкуренных мной сигареты; владелец "Победы" много интересного рассказал про обитателей дома. Вообще-то говорил он исключительно о здешних автомобилях, но его комментарии были настолько самобытны и живописны, что вполне можно было составить представление о характере владельцев.
В порядке любезности я поддержал его философскую схему, согласно которой автомобиль выступал чем-то вроде Alter Ego того, кто сидит за рулем.
– А как же! – он энергично заглотил наживку. – Это уж точно... – сдвинув кепку на затылок, он сосредоточенно тер пальцем лоб, как будто разогревал трением слегка подостывшую память. – Вот один тут был. Заруливал во двор. Недельки три назад, что ли? Он еще когда вон там, из-за угла, выворачивал, я на слух определил: чахоточный...
Я инстинктивно напрягся.
– Кто?
– Так – двигатель... Он еще заглох потом. Прямо тут, у крайнего подъезда. А я ему прикурить давал.
– Он что, курит?
Он смотрел на меня сострадательно – такие взгляды кидают на тихо помешанных или убогих. Я вспомнил: "дать прикурить" – значит, помочь завестись от своего аккумулятора.
– И знаешь, водитель-то... Он сам вроде как чахоточный был, кашлял сильно.
– "Москвич"? Грузовой вариант? Белого цвета?
Поклонник автомобильной архаики мгновенно смыл со взгляда прежнее выражение – он разглядывал меня с искренним интересом. Он не понимал, как я догадался.
3
Психопат опасен для общества вовсе не тем, что эпатирует публику на улицах; и даже непредсказуемость его опрокинутого поведения можно на крайний случай перетерпеть. Он тем опасен, что трансформирует свой идиотизм в пространство, в окружающую среду, а психопатия заразительна. Я подумал об этом, когда прибыл на место, где нашли «ньюс-бокса» запертым в железный контейнер.
Его занесло аж за сто тридцать километров от Москвы, в крохотный дряхлый поселок, заброшенный, тронутый проказой тлена, облизанный мхами – мхи ползут по стенам гниющих изб; мхи – это щупальца земли, щупальца крепко держат деревушку и скоро втянут ее в землю.
Один из домов оказался обитаемым – я заглянул. На деревянной лавке у окна сидела старуха. Она поглядела на меня без тени удивления, испуга, радости – без тени какого бы то ни было чувства; поднялась, пошла встретить. Шаг ее был тяжел, нетвердые ноги слушались плохо и разучились держать легкое тело.
– Вы что, одна тут?
– Одна, одна... Боле не осталось никого. Дак ты ж видал, нету никого, вот я есть.
Она полезла в сервант, шарила маленькими руками по полкам, трогала посуду.
– Угостить-то мне тебя вот нечем, – смутилась она.
– Вы-то, мать, чем тут живете?
– Много ль мне надо, – сказала она.
Она ведь так и умрет, подумал я, просто однажды утром не сможет подняться; будет еще долго лежать на кровати с железными шариками на спинках, глядеть в потолок и думать: поскорей бы уж. Но жизнь будет уходить из нее неторопливо, и кто знает, сколько пролежит, пока сердце не устанет и, устав, избавит от хлопотных мыслей: "кто ж меня на кладбище снесет?"
– Так вы совсем одна на свете?
Старуха ожила, заулыбалась пустым ртом.
– Зачем одна? Дети, внуки у меня. Так ведь в городе они, квартиры у них там, работы, некогда им тут! – она выговаривала какую-то очень важную и естественную для себя истину, бесспорную: им – жить в самый раз, а мне с Богом разговаривать пора. И все бубнила что-то про детей: какие они у нее славные, как у них хорошо, и, значит, у нее тоже хорошо; и невозможно было оборвать обстоятельный рассказ, потому что это и было тем главным, тем единственным, что у нее оставалось и что задерживало пока на этом свете.
– Вот, ты говоришь! – вдруг по-стариковски основательно принялась она меня укорять неизвестно в чем. – Вот, говоришь! А ко мне тут сын приезжал! Крышу делал. Шифер вон положил...
Видел я этот шифер... Наверно, просто раздел крышу какого-то соседнего, давно обезлюдевшего дома.
Вряд ли она что-нибудь знает – барачные люди по природе своей нелюбопытны, тем более в таком возрасте.
К вящему моему изумлению, она что-то вспомнила: да, был тут человек...
– Возраст? Какой из себя?
Она рассеянно ласкала большим и указательным пальцами уголки губ – чисто старушечий жест, обозначает задумчивость и блуждание в потемках пустой, беззвучной памяти. Память стариков видится мне в форме огромного колхозного амбара, откуда давно вымели все до последнего зернышка: пусто, пыльно, скучно.
– Какой? Дак, какой?.. Никакой. Обычный, человек и человек.
Это уже существенно: никакой – значит, как все мы, никакие люди в никаком городе.
– Еще это... Кхэкал он.
– Кашлял?
– Ну... Кашлял.
– Где жил?
– Да тут где-то. Вроде б, в котельной.
– Какой котельной? Нет же тут ни черта никакой котельной...
– Там... – она повела взгляд в сторону окна. – Недалече тут. Машинный двор раньше был. Ну, и котельная при нем. Сын, когда приезжал, оттуда шифер брал, с котельной... – она испуганно покосилась в окно, потом на дверь и перешла на шепот. – Он ведь человека там нашел, Колька-то мой.
– Где?
– Как где, в котельной, где ж еще-то...
– Того, что кашлял?
– Да не-е-е! – она замахала на меня маленькими руками. – Другого. Больного совсем. В район еще его возил, в больницу сдавал – тот своими ногами ходить не мог. Сын и отвез. У него ж мотоцикл с коляской, у Кольки.
Я принес из автомобиля кулек с пирожками, купленными на всякий случай – конечно же, возле метро – положил на стол; старуха заплакала и пожелала на прощанье: Бог в помощь!
Котельная на машдворе – это в полутора километрах от деревни – представляла собой приземистое каменное строение без окон. Дверной проем чернел в облупившейся стене, а саму дверь я нашел внутри – ее сняли с петель, прислонили к стене. В дальнем углу – штабель сухих дров.
Я поднял голову. Крыша, в самом деле, наполовину разобрана.
Я вышел на улицу. Неподалеку от котельной чернела груда угля – поначалу я не обратил на нее внимания. Теперь пощупал, понюхал.
Свежий уголь. Его привезли сюда совсем недавно.
Я вернулся и обследовал котлоагрегат. Судя по всему, он еще вполне на ходу. К нему вплотную прислонен контейнер. Внизу, по всему периметру, контейнер густо зализан черной гарью. Груды головешек подпирают железные углы. Я покосился на поленницу, и мне стало не по себе. Я открыл дверцу и чуть было не опрокинулся навзничь: это был не просто дурной запах – меня едва не сшиб с ног настоящий залп зловонья.
В этом железном ящике кто-то жил, и жил затворником; возможно, он что-то ел и гадил там же, где ел.
Я попробовал себе представить все прелести этого времяпрепровождения: если котлоагрегат в рабочем состоянии, да еще если сам контейнер обложен костром, в железной конуре должно быть чудовищно душно.
Это, собственно говоря, была коптильня.
Но здесь коптили не рыбу и не мясо, а живого человека.
Его могли бы просто отправить на тот свет. Могли перерезать ему глотку. Кастрировать. Четвертовать. Пытать током. В конце концов из него могли бы сделать просто "корейскую собаку". Корейцы, возможно, и неплохие люди, но я не могу принять их живодерских обычаев: прежде, чем съесть собаку, они долго морят ее голодом, чтобы распухла печень, а затем бьют палками – собачий бифштекс хорош, по их понятиям, когда он сочен и кровит.
Ни то, ни другое, ни третье, ни десятое не выпало на долю затворника.
Его хотели именно закоптить в железной коптильне.
Я ехал обратно к деревне и думал о том, что мой чахоточный персонаж безумен. Он втаскивает в котельную металлическую клетку (интересно – как, с помощью крана, что ли?), потом сажает туда Бориса Минеевича – и потихоньку коптит.
Он сумасшедший, это не вызывает сомнений.
Я заехал к старухе, нашел ее на том же месте и в той же позе, в какой оставил. Кулек с пирожками она не тронула. Я пожелал ей счастливо оставаться – она тихо и ласково призвала ласкового Бога дать мне здоровья; отвернулась, уставилась в окно.
4
На обратном пути я тасовал в памяти образцы хрестоматийных текстов, в которых действуют психи. Но то ли колода от времени поистерлась, то ли все карты в ней были одного достоинства, но в трех мастях: либо физиологический очерк о черной бытовухе психического дома; либо та же бытовуха, но разжиженная намеком на иллюзорность стен психиатрического узилища и замкнутая в финале совершенно неоригинальной моралью (эти стены, собственно, очерчивают границы всего нашего сумасшедшего мира); третья масть сообщала представление о вывернутости наизнанку самой конструкции дурдома: там, внутри – пристанище людей нормальных, зато уж все мы, существующие снаружи,– конечно, со сдвигом.
Впрочем, вряд ли кто из классиков мог предположить, что наступит время, и на дворе у нас будет не весна и не осень, не зима или лето, а просто – "Большой налет" Хэммета. А в "зоне боевых действий", где половина населения таскает с собой боевое или нервно-паралитическое оружие, любая выходка помешанного смотрится чем-то вроде детской игры в куличики.
5
Я вернулся домой к середине дня. Сварил кофе. Чашка кофе и сигарета – вот что мне было нужно. Но сигарет не оказалось.
Делать нечего, придется прогуляться к метро*[23]23
* К характеристике жанра. Если б не дела, я устроился бы на жительство под открытым небом возле метро. Книги на лотках, масса всевозможных напитков, свежий румяный хлеб, соленые огурцы, вобла, пиво, парфюмерия, жвачки, цветы, овощи и фрукты – словом, все, что человеку надо. Девушками, правда, пока открыто не торгуют, зато можно на всю оставшуюся жизнь запастись презервативами всех цветов радуги. Интересно, кстати, как вообще в цивилизованных странах поставлено это дело. Наверное, на фирме есть специальный человек, отвечающий за оттенки и вообще за эстетику противозачаточного средства. Художник есть. Дизайнер... Дизайнер по презервативам – а что, милая профессия!
[Закрыть].
Перед спуском в подземный переход стояла гигантская автоцистерна. В таких емкостях перевозят мазут. Картонка на раскладном столике уведомляла, что в цистерне плещется вино "Карабах". Напиток разливал из шланга грязный человек с бурым, обветренным лицом, в засаленном ватнике.
– Это взрывоопасно?
Мне достался угрюмый взгляд исподлобья.
Я ничего не имел против вина как такового, но присваивать ему такое название сейчас... Если сам по себе Карабах – пороховая бочка, то одноименным вином, наверное, можно начинять бутылки и кидать их под танки: танки не пройдут.
– Или бери, или гуляй, – сказал человек в ватнике.
– Беру, беру...
Сорт, колер, вкус, запах и в целом букет вина из цистерны идеально точно ложились в понятие "портвеюга".
В желудке у меня вспыхнул конфликт.
Я спустился в переход и увидел неподалеку от лесенки старуху, сидящую на деревянном ящике. Тут церковь рядом; прежде они гнездились поближе к паперти, а теперь двинулись за чугунного литья церковные ворота и растеклись по городу; спины их согнуты вопросительным знаком, и эти вопросительные знаки есть знаки постоянства, вмороженности нашего бытия во время: так было четыреста лет назад, и сто, и вчера, и сегодня. А завтра?
Надо бы ей что-то дать, но мелких денег нет.
Купив пива и сигарет, я зашел в метро и попросил разменять крупные купюры мелочью.
– Мелкими? – огрызнулась грузная женщина, командующая обменом мятых бумажек на жетоны. – Зачем тебе мелкими!
– На растопку...
На обратном пути я положил в узкую, вытянутую лодочкой ладонь комок ассигнаций. Старуха кивнула и перекрестила меня – она тут всех крестит.
Телефонный звонок я услышал на лестнице.
Это были кукольники.
Кукольники – чрезвычайно милая, тихая супружеская пара. Это тот тип теплых, спокойных, интеллигентных людей, которые смотрятся в рамках нынешнего жанра рудиментом*[24]24
* К характеристике жанра. Судьба таких людей у нас развивается строго по Хармсу.
Художник выходит на. сцену. Художник: "Я – художник!"
Зритель из зала: "А мне кажется, что ты говно!"
Художник падает замертво, его уносят. Занавес.
Композитор выходит на сцену... Ну, и так далее.
Интеллигентный человек обречен на вымирание вовсе не потому, что – как в газетах лукавят – он "не востребован обществом". Он просто не способен сопротивляться хамству, вот и все.
[Закрыть]. Они изготовляют куклы для кукольных театров.
Впрочем, "изготовляют" – не то слово. Кажется, Пришвин заметил: большое дело – вырастить и написать книгу... В этом все кукольники – они как раз выращивают.
В своем деле они известные люди – их детки играют на театральных подмостках Германии и Австрии, в Америке и, кажется, даже в Австралии.
Сколько я их помню, они вечно слоняются без своего угла.
Последнее их пристанище напоминало помесь психбольницы с отделом внутренних дел. Какая-то приятельница, смотавшаяся в Израиль, сдала им квартиру. Сдала и сдала – спасибо ей. Но в первый же день выяснилось, что жилище она сдала вместе с мужем. Муж у нее алкаш. По соседству с домом пивнуха. Остальное нетрудно домыслить.
Не так давно они забегали ко мне в гости. Я пожелал этой стерве, загорающей под жарким небом Иерусалима, попасться в темном переулке шайке серьезных молодых людей из арафатовских террор-питомников – они были шокированы: "Да что ты, как можно! Она, в целом, неплохой человек..."
В конце концов их комнату обчистили. То ли сам муж, то ли его приятели. Если бы унесли только вещи, это можно было бы пережить.
Но эти ублюдки унесли куклу.
Куклу они растили почти целый год – пестовали характер, оттачивали темперамент, лепили образ. Когда я думаю, что алкашня толкнула ее в своей пивнухе за трояк, мне становится тошно.
Последние несколько лет их обстоятельства складывались относительно благополучно; театр арендовал в центре, в старом трехэтажном доме, помещение под мастерскую. Там они и жили, в мастерской.
Звонил кукольник, голос у него был потерянный. Учитывая карабахский конфликт в желудке, я решил обойтись без машины, пошел пешком.
Я давно не гулял по улицам, и потому не предполагал – насколько же их много: в подземных переходах, у дверей магазинов, просто на тротуарах; они стоят, сидят, стоят на коленях, лежат или валяются, дохают, кашляют; они безучастны к движениям текущей мимо жизни, и все, чем они с этим движением соединены, – это их протянутые руки... Эти руки – даже у женщин и у детей – корявы, тяжелы, грубы, они походят на окаменевшие корни погибшего дерева и вряд ли когда держали легкое гусиное перо над листом бумаги или хрупкий ветреный веер; их не грела никогда ласка пушистой муфты и не обтягивала лайка перчатки, ничьи губы не оставляли на них тепло поцелуя; их ладони жестки, шершавы и заляпаны гранитными кляксами мозолей – этот гранит до блеска отполирован черенком лопаты, рукоятью серпа и ручкой шахтерской тачки. Их лица уродливы, асимметричны, они скроены по одному образцу и выточены все из одного и того же материала: иссохшегося, растрескавшегося дерева – в таком сером, грубом, сухом материале выполнены корчи и конвульсии заброшенных, обглоданных ветрами и дождями плетней...
Знать бы – наменял больше мелочи... А "палочку", на всякий случай, прихвачу с собой.
В подъезде стоял особый, настоянный на пыли, запах. Из чего именно он составлен – кто ж его знает... Должно быть, это сдвинутые с привычного места половики, старые газеты, завалившаяся давным-давно за диван книжка, заскорузлые цветочные горшки с окаменевшей пепельной землей, репродукция или картина, от которой в обоях осталось темное клеймо, подточенные молью рукавицы из шкафа – словом, все, что веки вечные врастало в свое законное укромное место, и вот вдруг сдвинуто, вырвано, выломано из суверенной ячейки быта и свалено в кучу; да, это особый запах – переселения.
Я толкнул дверь в третьем этаже – не заперто – и понял, что обоняние меня не обмануло.
Тут была коммуналка образца двадцатых-тридцатых годов – обширная кухня, укромные уголки и закоулки в путаном, лабиринтно-шарахающемся то в одну, то в другую сторону коридоре. Жильцы отсюда разлетелись по новым районам; на их место слетелись художники, наполнили коридоры собой – своими бородами, туманными взглядами, путаными речами; в мастерских полумрак грелся у свечных огней; говорили, пили вино, работали.
Они, кукольники, сидели за круглым столом друг против друга посреди полного разгрома – впечатление было такое, что с мастерской заживо содрали кожу.
– Вот, – сказал он.
– Что вот? – спросил я с порога.
Пару дней назад к ним заявился деликатный подтянутый паренек и скорбно поведал, что ему очень, очень, очень жаль – но дом продан. Куца продан, кому продан? Меховой фирме. Тут будет после реконструкции меховой салон. А жильцы? Напротив в квартире три старухи, во втором этаже еще одна – вместе со старухами, что ли, продан? Выходит так, увы, увы... Словом, в трехдневный срок необходимо освободить помещение. А куда податься-то? С мастерской, с оборудованием, с пожитками? Он сказал: я все понимаю, но это уже не наш вопрос...








