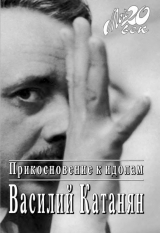
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 36 страниц)
Г.Ш. Ты огорчилась?
Долгая пауза.
Т.Я. Это было больше, чем огорчение. Это было ужасное горе… Давай больше не говорить.
Фаина Раневская с оружием в руках
«В жизни» Фаину Георгиевну Раневскую я увидел впервые осенью сорок шестого года. Это было в гостях и, хотя время было трудное, и еда была соответствующая, но стол был сервирован изысканно. Раневская хвалила красивую посуду и сказала, сокрушаясь:
– А я все растеряла во время войны, и из посуды у меня остался только ночной горшок.
– Вы счастливее меня, – ответила хозяйка. – Это теперь такая редкость, и его у меня нет.
Посмеялись, и Фаина Георгиевна рассказала, что маленькой дочери Вертинского нигде не могли купить горшок и с трудом выменяли его… на два билета на концерт маэстро.
Разговор переходил с одного на другое, заговорили что-то об эвакуации, которая еще у всех была в памяти. «Я жила в Алма-Ата, и Ромм сдавал там Большакову «Мечту». Война, гибнут люди, полстраны под немцем, казалось бы – уймись. Нет, у него были какие-то претензии к Розе Скороход. Но он побоялся со мной связываться: я распустила слух, что ношу с собою браунинг, так как боюсь темноты, и лучше вечером со мною не встречаться, не ровен час – могу выстрелить… Ромм сказал, что это спасло Розу. Выходит, что я защитила ее с оружием в руках».
Разговор зашел о Гельцер и хозяйка сказала: «Я с нею виделась в последний раз, по-моему, при царе Горохе, мы когда-то очень дружили. И вдруг на днях ночью, из тьмы веков как будто не было ни революции, ни войны – телефонный звонок, и, как ни в чем ни бывало: «Скажи, сколько лет было Онегину? Ты не знаешь? Я сейчас в него влюблена».
– Представляю себе, – сказала Фаина Георгиевна. – Верно села в кресло, зажгла свечи, окружила себя гравюрами и с томиком Пушкина предалась мечтам. Я ее так понимаю. Я тоже недавно влюбилась, решила устроить ужин, пошла к Елисееву купить рябчиков, салату… Взгромоздила новую шляпу, стою в очереди в кассу, мурлычу что-то под нос, чувствую себя такой девочкой-девочкой и вдруг слышу сзади: «Ну, бабушка, поворачивайся, заснула, что ли?» И сама же смеется.
В 1944 году в Театре Революции поставили «Лисички» Лилиан Хелман. У Раневской была там роль небольшая, но осталась в моей памяти навсегда. Она играла бедную родственницу, унижаемую мужем, которая пьет, заглушая тоску. Точно сегодня, вижу я беспомощную улыбку, когда тихо – словно в замедленной съемке – опускалась она на стул, потрясенная его жестокой пощечиной, и, не выдержав публичного оскорбления, вдруг раскрывалась перед всеми. Сидя за роялем, наигрывая пошлый вальсок, она раскачивалась в такт музыке, говорила страшные слова и улыбалась окружающим своей знаменитой улыбкой, а слезы текли, текли – и все это я не могу забыть уже полвека…
Тогда, в 46-м году, я, пользуясь случаем и волнуясь, сказал, как Раневская поразила нас, студентов.
– А меня изучают во ВГИКе?
– Конечно.
– Что же про меня говорят?
– Что вы гениальны.
– Какие у вас там сидят умницы!
Я попросил разрешения проводить ее, она тогда жила на площади Восстания. Во дворе стоял низенький желтый флигелек: «Это только на вид он романтичный. На самом же деле там мрак и холод. У меня комната – сущий колодец, и я чувствую себя ведром, которое туда опустили».
Время от времени судьба дарила мне встречи с нею, недолгие, и я запомнил несколько ее «мо» и рассказов:
Одно время она жила в высотном доме на Котельниках, под нею находились булочная и кинотеатр «Иллюзион». Круглые сутки не было покоя: днем из зала доносились фонограммы, ночью с грохотом разгружались фургоны. «Ничего не поделаешь – я живу над хлебом и зрелищем».
– Рина Зеленая заманила меня сниматься в «Подкидыше». Когда снимали на улице Горького, собралась толпа любопытных. У меня было ощущение, что я моюсь в бане, а туда вдруг привели экскурсию рабочих.
– Вчера Завадский опять ходил на рыдалку.
– Разве он рыбак?
– Не на рыбалку, а на рыдалку. Когда Уланова танцует «Жизель», он сидит в партере и всякий раз рыдает, рыдает.
Председатель ТВ Лапин пришел на спектакль «Дальше – тишина». После представления был у Раневской за кулисами, благодарил, говорил комплименты и спросил: в чем он ее увидит в следующий раз?
– В следующий раз вы меня увидите в гробу, – уверенно ответила Фаина Георгиевна.
Снимая фильм о Райкине, я включил в картину его рассказ о Раневской, который с тех пор стал широко известен: «Когда привезли в Москву «Сикстинскую мадонну», ее пришли смотреть чиновники из Министерства культуры. Один из них и скажи: «А, знаете, на меня она не производит такого уж впечатления…» Фаина Раневская, стоявшая неподалеку, заметила: «Эта дама в течение стольких веков на таких людей производила впечатление, что теперь она сама вправе выбирать, на кого ей производить впечатление, а на кого нет!»
Вот один из ее рассказов: «Как-то я обратилась к своему другу, драматургу Константину Тренёву, с просьбой, чтобы он написал мне с Абдуловым скетч (Осип Наумович Абдулов был замечательный актер, партнер и приятель Раневской, которого она не переставала оплакивать.).
– Понимаешь, Костя, нам нужно, чтобы мы могли приехать в любой клуб, я со своим чемоданчиком, где концертное платье, и сыграть скетч в сборном концерте. Как мы играем Чехова – стол, два стула и мы с Осипом. Но мне хочется что-то современное, грустное или смешное – это уже как ты решишь. Потом переоделись – и бегом на другой концерт.
– Понятно, – сказал Костя. – У меня даже есть идея.
Вскоре звонок: «Приходи». Купила торт, прибоярилась и поехала слушать скетч. Волнуюсь. После чая Костя раскрыл рукопись, откашлялся и начал: «Открывается занавес. На сцене спальня в стиле Людовика Четырнадцатого. Служанка зажигает свечи. Перед трюмо сидит Генриетта – это ты».
– Подожди, подожди. Где мы возьмем спальню в концерте? И откуда служанка, когда с Осипом вдвоем… с чемоданчиком… из клуба в клуб…
– А-а-а, понятно. Это другое дело. В следующий раз получишь то, что нужно!
Звонит. Я опять покупаю торт, приезжаю. Волнуюсь. После чая Костя раскрывает рукопись и, откашлявшись, читает: «Открывается занавес. На сцене – вестибюль замка, винтовая лестница, лакей смахивает пыль со статуи Людовика Четырнадцатого. Входит Сируа – это Осип».
– Подожди, подожди. Где мы возьмем в концерте винтовую лестницу и статую? И откуда лакей, ведь мы с Осипом вдвоем… с чемоданчиком… с концерта на концерт…
– А-а-а, понятно. Это другое дело. В следующий раз получишь то, что нужно!
Звонит. Упрямо покупаю торт. Приезжаю. Волнуюсь. После чаю Костя достает рукопись, откашливается и, вздев очки, читает: «Открывается занавес. На сцене столовая мореного дуба. Стол накрыт на 12 персон. Горничная вносит огромный торт. Появляется Жаннет – это ты»…
Так мы и продолжали с Абдуловым… с концерта на концерт… с чемоданчиком… играть Чехова.
Правда, Осип считал, что зрители были не в накладе».
Тамара Ханум, или шемаханская царица
Это имя гремело по стране еще с начала тридцатых годов. Она была так же знаменита, как Обухова и Утесов.
В то время чуть что – устраивались декады национального искусства, они шли с помпой, фанфарами, наградами, и Тамара Ханум приехала на узбекскую декаду в Москву как олицетворение сталинского лозунга, что жить стало лучше, и, главное, веселее. Но я ее видел только на фото и в стереокино, а на сцене – ни разу. И лишь в 1951 году я попал на ее сольный концерт, и он произвел на меня неизгладимое впечатление. Было это в Кисловодске, в провинциальном курзале. Публика – профсоюзные иностранцы, совершающие вояж по санаториям и здравницам и набирающиеся неизвестно какого опыта. Я снимаю о них фильм, а концерт входит в программу их увеселений.
Со скрипом раздвинулся пыльный плюшевый занавес, вышли пианистка и два узбека с бубнами. Они заиграли темпераментно, громко, страстно, и на сцену буквально вылетела молодая нарядная узбечка. Это был вихрь, и косы свистели, едва поспевая за головой, они неслись параллельно полу, а во время бешеных туров обвивали штопором ее стан. Это была стихия, которая ошарашивала. Вдруг она упала на колени, и мы, наконец, смогли ее рассмотреть. Теперь танцевало только ее лицо, глаза, улыбка, ресницы, все было лукавым и ослепительным. Внезапно она вспорхнула, блеснула, пленила и улетела…
Господи, что это было? Пока мы приходили в себя, ее пианистка Софья Каракаш объявила: «А сейчас Тамара Ханум исполнит старинную грузинскую песню «Мое сердце в горах» – девушка грустит о юноше, который объяснялся ей в любви и ушел с табуном в горы». Долго ли поведать эту, мягко говоря, нехитрую историю? А ведь за это время… Впрочем, не успели мы понять, кто ушел с табуном, а кто грустит, как Каракаш ударила по клавишам, и в ту же секунду появилась очаровательная грузинка в белом казакине, сверкая и искрясь серебром, и, танцуя, запела глуховатым, надтреснутым голоском нежную песню. На ней с ног до головы было все другое – платье, убор, туфли, другие кольца, браслеты, серьги, другой грим! Когда она это успела? Но главное – перед нами была самая настоящая грузинка, а не узбечка, которая только что нас ошеломила.
Полное внутреннее перевоплощение и совершенная внешняя трансформация поражали зрителей весь вечер. Зал был покорен и ее мастерством – пением, танцами, музыкальностью – и фокусом преображения, этим чисто цирковым трюком. Так покоряет Райкин своей трансформацией и Кио своей загадкой. Такой концерт могла бы дать целая бригада артистов – армяне, казахи, испанцы, японцы: пока одни пели, другие одевались бы и разогревались. Но весь смысл представления был в том, что на сцене творила только одна артистка, одна и та же непостижимо разная Тамара Ханум.
Бухарскую песню «Ери Дженим» она исполняла в темновишневом бархатном халате, расшитом жемчугами. Он ей достался после «закрытия» гарема эмира Бухарского. Я все время забывал ее спросить – каким образом? Халат этот кое-где потерт, облез, но она его очень любит. Еще бы! Недавно он вернулся с выставки театрального костюма в Брюсселе, где экспонировался рядом с костюмом Шаляпина из «Бориса Годунова».
«Я очень устала ждать тебя, – поет Тамара Ханум на диалекте бухарских евреев, – мои губы поблекли, а ты проходишь мимо, не глядя на мое окно!»
И еще не замолкли аплодисменты, как в глубине сцены стояла Тамара Ханум уже в афганских одеждах: из-под платья виднелись шелковые шаровары, ножки были обуты в ювелирно расшитые туфли, а на голове красовалась чалма с павлиньим пером. «Ты спросил меня – откуда ты, девушка? Я прошла мимо, не ответив, но ты опьянил меня, спалил, погубил меня». Когда она вышла с эстонским номером, то пела с настоящим эстонским акцентом, когда с украинским – по темпераменту не уступала артистам ансамбля Вирского.
И так весь вечер.
Как Игорь Моисеев, она брала народную основу танца, характер движений, стиль одежды и – делала искусство. Это фольклор, преображенный мастером. Дилетантство ее возмущало, а псевдоансамбли вызывали презрение. На мякине ее было не провести, и редкий национальный костюм, увиденный по телевизору, она одобряла, ибо досконально знала, где какая бейка должна быть пришита и где бахрома просто недопустима. Она оригинальна и неповторима в своем жанре, ею же созданном – танцевально-певческой миниатюре. Кто еще в нем работает? Никто. Как никто не может повторить Райкина или Рину Зеленую.
С детства она была для меня легендой, знаменитой восточной танцовщицей, экзотической женщиной, далекой от нашей повседневности. А в 1972 году я с нею познакомился и очень ее полюбил. Я снимал в Ташкенте телефильм о знаменитом драматическом актере Алиме Ходжаевом, и на съемке, где участвовала Тамара Артемовна, она пригласила меня в гости. Купил огромный букет роз, иду на встречу то ли с Шехерезадой, то ли с Шемаханской царицей, во всяком случае с женщиной в шароварах и, наверно, со звездой во лбу. В чем-то это так и оказалось, но одновременно я увидел современную живую, веселую, гостеприимную, любезную, элегантную даму. Смеется, угощает чаем с самодельными лепешками, расспрашивает, удивляется: «Зачем вы снимаете Алима, а не меня? Ведь он поражает тусклостью, как другие поражают талантом. У него даже нет врагов – правда, их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. И этот театр! Как можно у них что-то смотреть? Там постоянно решают кроссворды, которые все давно решили. И каждый вечер валяют дурака – ведут диалог на узбекском, а для современности вставляют во фразы по-русски «империализм» или «колхоз».
– Но он же играет и в «Маскараде».
– Он очень храбрый, раз выходит Арбениным со своим узбекским лицом. Я испугалась, когда его увидела. Играет он с деревянной непринужденностью, сами увидите.
Я пригорюнился – мне же его снимать!
– Сейчас у него премьера…
– Да, это пьеса о Турсунай, я ее хорошо знала. Мы в двадцатых годах вместе начинали, и ее убил родной брат за то, что она сняла паранджу и вышла на сцену. Он играет брата – вздутая осанка, увесистая страсть, и темно по смыслу.
– Гм… А что с настоящим братом?
– Недавно дали звание Народного артиста.
– Неужели?
– Вот вам и «неужели». Да еще сидит в ложе, смотрит спектакль и говорит: «Это было так, а это не так. Совсем не так».
Она все время исчезает и появляется то в других серьгах, то накинута другая шаль, то косы уложены так, то эдак, а прическу украшают то жемчуга, то розы из моего букета… Весь вечер она разная. Небольшая квартира похожа на гримуборную – всюду висят костюмы, платки, разбросаны туфли и сапожки, высятся горы чемоданов, из которых выглядывают расшитые яркие ткани, на подносах лежат груды бус, серег, браслетов, всевозможных восточных украшений. Все это сверкает и будоражит, а надо всем огромный портрет Тамары Ханум в танце – красивый, веселый, талантливый. Такой написал ее Таир Салахов, такой помнят ее те, кто видел.
Она рассказывает часами, – а она рассказчица блестящая, – о своих и чужих концертах, о сотрудниках, поездках, о костюмах и украшениях, о национальной еде – она массу знает и многое умеет: петь, танцевать, играть на национальных инструментах, готовить, учить танцам и песням, она говорит и поет на многих языках, знает культуру и обычаи всех восточных стран.
Всегда бывает так: пока сидишь у нее, разговариваешь, пьешь чай (она – всегда из стакана с подстаканником, а не из пиалы, как диктует стереотип), Тамара Ханум несколько раз успевает переодеться. Иначе ей неинтересно. Даже когда больна (а ничто человеческое ей не чуждо), то наденет один халат, то другой, то шаль, то укутается платком словно на сцену идти, диковинно завяжет больное горло и неузнаваемо подмажется.
В 1972 году ей было 66 лет, она почти не выступала, но все время рвалась на сцену. Она готова была танцевать где угодно – в школе, на колхозном току, в гостях – под любой аккомпанемент и даже без оного – ее распирала жажда творчества, и она устраивала театр для себя и для окружающих, хотя этих окружающих могло быть всего двое-трое. Однажды мы сидели в гостях у Л. Ю. Брик, которая любила ее и считала талантливейшей женщиной. Вдруг пришел никому не известный семнадцатилетний французский студент. Появился зритель! Тамара Ханум тут же встрепенулась, скрылась в ванной и тут же вышла, преображенная. Соорудив костюм из фуляра, полотенец и салфеток, она спела свою любимую еврейскую песню «Варенички», затем спародировала псевдоцыганок, тряся плечами, поводя очами и ударяя в бубен – коробку из-под торта, – что было очень смешно.
Про какую-то балерину говорили: «Как можно танцевать в 70 лет?!» – и отвечали: «Танцевать можно, смотреть нельзя». Но с Тамарой Ханум было по-другому – ее концерт в день семидесятилетия прошел в Москве с огромным успехом. Опять она завораживала зал, мгновенно преображалась, являясь то в одном, то в другом, пела на всех языках, вертела ослепительные туры и даже маршировала под духовой оркестр в военном мундире – оказывается, у нее звание капитана и полно наград.
Кто-то уговорил ее организовать музей из своих сценических вещей, чтобы еще при жизни она сама могла все объяснить. Я видел Тамару Ханум в окружении будущих экспонатов, это незабываемо. Это сокровища Алладина. Ее костюмы уникальны, а украшения собраны со всего света. Я их могу рассматривать часами и не могу налюбоваться.
Но узбекские власти несколько лет не разрешали открыть музей, хотя все было готово. Почему? «А ты разве не знаешь, что я по национальности армянка? И, наверно, мне придется прийти на вернисаж, надев крышку гроба на голову», – предполагала Тамара Артемовна. К счастью, многолетняя борьба закончилась ее победой, и на доме, где она провела последние годы, наконец появилась надпись «Музей Тамары Ханум». Если будете в Ташкенте, обязательно пойдите.
Нина Берберова, или возвращение из тьмы веков
Все началось в Париже летом 1986 года. Мой знакомый Геннадий Шмаков сказал:
– Я завтра иду к Нине, она остановилась в «Наполеоне». Хочешь пойти со мной?
– Что за Нина?
– Как – что? Берберова!
Я не поверил. И все же! Но на другой день мы пошли не в «Наполеон», а к Бахчиняну, художнику-карикатуристу, эмигранту, где собирались друзья Нины Николаевны. Вскоре мы с нею перешли в соседнюю комнату, где проговорили часа четыре, пока не позвали ужинать. О чем говорили? О советской (тогда еще) литературе; о Татьяне Яковлевой, ее приятельнице; о Триоле и Арагоне, о которых она отзывалась вполне прохладно; о том, как поживает Шкловский и о цензуре; о Валентине Ходасевич, о Ленинграде и еще о чем-то. Она расспрашивала о Зильберштейне и последних стихах Вознесенского. Умная и внимательная, она сразу же меняла разговор, если тема переставала ее интересовать. Ее суждения были убедительны, ничего приблизительного. Живая речь, чистый русский язык, у нас на таком почти никто не говорит, разве что Солженицын. Все, что она рассказывала, было интересно, никаких проходных фраз, тем более литературщины.
В компании она была непринужденна, на все реагировала, легко смеялась. А я все никак не мог побороть некоторого смущения от того, что сижу рядом с Берберовой, хотя она сама никакого повода к тому не давала. Мы условились встретиться через день, но не получилось по моей вине, чему я огорчался очень. А через год Инна позвонила ей из Нью-Йорка в Принстон, где она профессорствовала. Она пригласила Инну на пару дней, и они проговорили почти до утра – Берберова была «сова». Жила она в одноэтажном коттедже со скромной обстановкой. У окна – компьютер, который хозяйка отлично освоила в свои 80 с чем-то лет! Когда днем Нина Николаевна ушла на лекцию, она оставила Инне верстку своей последней книги, которая вот-вот должна была выйти «Люди и ложи». Инна, вернувшись в Москву, рассказывала о всех этих масонах. Тогда и подумать еще было нельзя, что книга станет печататься у нас.
Смотрю я на фотографию и не могу поверить, что Нине Николаевне 86 лет. Разве так выглядят женщины в таком возрасте? Она абсолютно молодая духом, энергичная и подвижная. Рядом с фотографией лежат ее письма – увы, их мало. Но от этого они еще дороже…
«Жить, между прочим, с каждым днем становится все интереснее, особенно грамотному человеку, – пишет она 23.2.87. – Время от времени посылайте мне открытку в две строки, это мне доставляет большую радость. Привет всем, кому хотите. «Огонек» читаю от доски до доски. Он интереснее Гёте и Расина. Обнимаю обоих. Нина».
…«Дела идут неплохо. Все время читаю советскую прессу – весьма интересно. Вообще жить очень интересно. С вами увидеться мечтаю часто. Целую обоих. Нина». (20.8.87)
Вскоре пришло еще одно письмо.
«Дорогая Инна, вчера получила Ваше письмо. Я была потрясена описанием концерта в пользу церкви у Никитских ворот! – писала она 8 октября 87-го года. – Этот вечер так взволновал меня, что я полночи думала о нем, и о тех, кто там выступал, и о тех, кто там присутствовал. Как я благодарна за то, что вы нашли время мне написать! Даже если предположить, что этот концерт будет единственным в своем роде (чего я не думаю), и то это останется в памяти людей, как событие!..
Я чувствую себя хорошо, работаю много, но за этот год появилась в моем сознании граница моей энергии. Этого раньше я не знала. Вероятно, это бывает у всех.
Простите за такое некрасивое письмо: на прошлой неделе с моим принтером (в компьютере) что-то случилось (захромал на левую ногу.) Но я решила написать не дожидаясь, когда он «выпишется из больницы».
Дела мои в полном порядке. Привет Вам и Васе. Я думаю о Вас (обоих) часто. Вы мне – из самых дорогих и близких в Москве. И как я счастлива, что встретила Вас и еще встречу…
Обнимаю Вас НБ».
И вот она в Москве и осенним вечером 1989 года приходит к нам в гости. Всем интересуется, замечательно рассказывает, шутит, просит поставить ей видеокассету с моим фильмом об Ахматовой и вспоминает, вспоминает… Собственно, слово «вспоминает» ей не очень подходит, она говорит о Зинаиде Гиппиус или Чайковском, словно только что вернулась от них. Даже не пойму, как это у нее получается.
Нас несколько человек. Пьем чай с пирогом, разговариваем, стараемся побольше задавать ей вопросов и видно, что ей приятно рассказывать о том, чего мы не знаем и не могли знать. Сегодня уже не важно, кто о чем спрашивал, интереснее – о чем говорила Нина Николаевна:
– Разве я могла когда-нибудь вообразить, что приеду в Россию, да еще меня и пригласят? Об этом можно было думать, как о полете на Марс. Ведь мое имя появлялось у вас в прессе всегда с отрицательным знаком – ренегатка, продажная писака и того хуже. И вдруг я читаю в томе о Блоке цитаты из «Курсива» и Зильберштейн пишет мое имя без ругательного эпитета. Это было еще до перестройки, и я была поражена и обрадована. Мне это было лестно еще и потому, что я с интересом следила за «Литературным наследством» и часто встречала там его имя и знала его по научным комментариям.
А потом, в перестройку, стали у вас упоминать Ходасевича, открыто говорить о нем, и друзья прислали мне «Огонек» с огромной статьей. А тут еще это письмо от Инны о благотворительном вечере, на котором читали «Реквием» Ахматовой и стихи Бродского. Выходило, что наступили новые времена. И я сильно призадумалась. А вскоре получила приглашение от Союза писателей – и вот я тут! И, говорят, что снова пригласят меня в связи с юбилеем Чайковского.
– А Вашу книгу о Чайковском у нас издадут?
– Не знаю, я никогда не задаю вопросов издательствам почему то или почему это? У вас наоборот, мне задают вопросы. Когда «Дружба народов» печатала «Курсив мой», нужно было сократить на одну шестую текст и напечатать в пяти номерах, а не в шести. Наверно, чтобы не надоесть читателю. Представляете, полгода подряд подписчик постоянно натыкается на мое имя. Про одного писателя говорили, что, рассказывая о себе, он интересен, но если бы его можно было захлопнуть, как надоевшую книгу, то он стал бы совершенен. Вот я и решила достичь совершенства, захлопнув один номер журнала. Меня спросили, что я хотела бы сократить? Я назвала одно место, где я ругаю большевиков. «Что вы, это очень интересно! Что угодно, только не это».
– «Чайковский» написан по-русски?
– Конечно, я всегда пишу по-русски. Кроме разве газетных репортажей. Вскоре после выхода книги по Европе и Америке прокатилась одна дама из СССР – с лекциями о Чайковском. И она плела, что Петр Ильич умер не от холеры, а покончил с собою. Будто бы бывшие его соученики из Консерватории устыдили его, что он позорит Россию своими вкусами в любви и что лучше, чтобы он отравился. Он немедленно согласился и пошел домой. Утром просыпается, ему дали пилюлю, он ее запил водой и умер. Я просто онемела. Как будто своими глазами не читала заключения доктора, акта вскрытия, воспоминания Долгорукова, как Петра Ильича на простыне носили в ванну, чтобы облегчить его страдания… Нас трое написали письмо в «Таймс» с просьбой оградить публику от этой ерунды, от сплетни, возводимой в ранг факта.
– Помогло?
– Да, поднялся шум и ее «лекции» бойкотировали. Ведь тогда еще были живы люди, лично знавшие композитора. Я со многими виделась и привела их рассказы в своей книге. Например, я написала Рахманинову, и он принял меня в отеле на авеню Клебер. Меня поразили его апартаменты и он сам – высокий, худой, элегантный, с огромными руками. Он был очень любезен, ответил на все мои вопросы, но ничего интересного не сказал. И все же меня очень волновало, когда я встречалась с его современниками.
Разговор зашел о личностях, об эпохе, о свидетельствах очевидцев.
– У вас смешно разводят путаницу вокруг моего имени и думают, что я знаю всех на свете, а жила лет двести. На одной встрече меня просили, чтобы я рассказала о Горьком на Капри. Но мне было всего шесть лет, когда он там жил! На другой встрече спросили, как я отношусь к возвращению Одоевцевой и что б я почитала ее стихи. Но я ее последний раз видела в 1939 году, мы никогда не бывали друг у друга и я не знаю наизусть ее стихов, как, уверена, и она не знает моих. Я помню лишь, что она была привлекательная, стройная блондинка – этого для воспоминаний мало.
Но все рекорды побил Александр Николаевич Бенуа, который в свое время спросил меня: «А помните, дорогая Нина, как на премьере «Пиковой дамы»… Понял, что это было за пятнадцать лет до моего рожденья, покраснел и что-то замурлыкал из оперы. Так что мне не привыкать стать.
Разговор коснулся поэтов-эмигрантов первой волны. Много говорили о В. Ходасевиче, муже Нины Николаевны. И почему он написал такой злой некролог о Маяковском?
– Он вообще не был человеком мягким, а с Маяковским у него поэтические принципы были «совсем наоборот» – Серебряный век, символизм… Он поначалу некролог назвал очень жестоко – «Декольтированная лошадь», но его не хотели печатать под таким названием. Роман Якобсон выступил резко против Ходасевича, защищая Маяковского, это известно. И мы с ним не раскланивались. Но на одном парадном обеде – это было в семидесятых годах, уже в Америке – его посадили рядом со мной, но он меня не заметил, так как один глаз у него смотрел вверх, а другой только прямо. Я к нему обратилась: «Вы все еще нас ненавидите?» – и он очень обрадовался: «Милая, это же был рай, молодость, борьба, споры! Что бы мы делали, если б этого не было? Мы живем этой памятью – ругались, дрались». Я не думала, что так его обрадую.
И с Вячеславом Ивановым у Ходасевича тоже были принципиальные расхождения, они постоянно спорили в печати, но могли выпить чашку кофе в кафе и разговаривать вполне мирно, я не понимала – о чем? Ведь Иванов постоянно говорил о вещах, его не касающихся и многое путал. Он вообще стремился в разговоре исчерпать тему, а кончалось тем, что он исчерпывал терпение собеседника.
Интересно и уважительно она говорила о Мережковском и Гиппиус, а рассказ о Горьком был наполнен красочными житейскими подробностями. Когда же мы спросили о масонах, а о них она знает все лучше чем кто-либо – она поинтересовалась, уж не собираются ли все тут заночевать, ибо она может говорить о масонах часами.
Дело в том, что у нас в столовой висел плакатик: «Принимаем до 23 часов» – из-за здоровья врачи велели мне рано ложиться. Придя в семь часов и увидев плакат, Нина Николаевна воскликнула: «Какая замечательная идея! Обязательно у себя заведу такую же надпись. Люди безбожно засиживаются, а просто выгнать их неудобно».
Она улыбнулась, показала на плакат и стала собираться.
Было два часа ночи.
Уходя, Нина Николаевна надписала нам книгу своих стихов:
«Васе и Инне на память о чудном вечере в Москве, о невероятно прекрасном фильме («Ахматова»), о той теплоте, которая распространялась в комнате, полной книг, и многом другом, о чем можно бы было рассказать потомкам.
Нина
9 сент. 89 Москва».
В конце апреля 93-го года была у нас Нина Шапиро из Принстона, которая много лет работала рядом с Берберовой. Рассказала, что Нина Николаевна в последнее время конфликтовала с администрацией Принстона, особенно с неким мистером Брауном, и ей пришлось переехать в Филадельфию. Она сняла небольшую квартирку на 17 этаже, и ее опекали два доцента.
Однажды они нашли ее на полу без сознания, с разбитым лицом, неизвестно, сколько она так пролежала. У нее была сломана шейка бедра. Сначала она пользовалась коляской, потом слегла.
Мы написали ей письмо, где, в частности, спрашивали согласия на публикацию ее писем Лиле Брик. Ответ получили от доктора Мэрла Баркера:
«Дорогие друзья Нины Николаевны!
Я друг и бывший студент Нины Николаевны Берберовой. С тех пор как она переехала сюда в Филадельфию из Принстона, я ухаживаю за ней. В этом году она физически ослабла: недавно она была в госпитале, и теперь, к сожалению, она лежит в доме для престарелых. Она понимает, кто я, и иногда ясно и точно отвечает на вопросы, но часто все, что она говорит, – непонятно. Очень печально видеть нашу любимую «железную женщину» в таком состоянии…
Ваше письмо я только что получил. Пожалуйста, скажите директорам ЦГАЛИ, чтобы они напечатали в сборнике письма Нины к Л. Брик. Я знаю, что Нина согласилась бы на это.
Я передам ей привет от Вас.
Ваш Мэрл Баркер 14 апреля 93».
Вскоре Берберовой не стало. Было ей 92 года.







