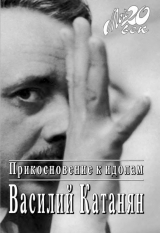
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 36 страниц)
На содержании у Папы Римского
В октябре 1981 года Сережу, который гостил у нас, разыскал Юрий Любимов. Мы всячески его конспирировали, Инна делала все, чтобы не пускать Сережу в Дом кино, где он приходил в возбуждение и городил небылицы на глазах у всех. Любимов пригласил его на генеральную репетицию спектакля о Высоцком, который хотели запретить – и запретили. Инна отговаривала Сережу, она была очень против того, чтобы он шел на этот прогон: «Ты нужен для шумихи, для рекламы, нужно твое имя, нужна скандальность…» Как в воду глядела. После просмотра было обсуждение. Вся художественная элита Москвы очень одобрила спектакль, все руководство было против. Сережа, которого я держал за полу пиджака, чтобы он не полез выступать, вдруг поднял руку. Черта с два его удержишь! Велась стенограмма, которую потом послали куда не надо, и вот под эту-то стенограмму Сережа и произнес крамолу. Очень точно разобрав спектакль и толково кое-что посоветовав, он, конечно, не удержался: «Юрий Петрович, я вижу, вы глотаете таблетки, не надо расстраиваться. Если вам придется покинуть театр, то вы проживете и так. Вот я столько лет не работаю, и ничего – не помираю. Папа Римский мне посылает алмазы, я их продаю и на эти деньги живу!» Никто не улыбнулся, все приняли это за чистую монету и проводили его аплодисментами.
– Сережа, побойся Бога, какие алмазы посылал тебе Папа Римский?
– А мог бы! – ответил он мне с упреком.
Позвонили из театра, чтобы он приехал выправить и подписать стенограмму. Мы его умоляли вычеркнуть дурацкие алмазы, вызвали такси, и он покатил. Но вовсе не в театр, как потом выяснилось, а навещать любимого племянника в подмосковном гарнизоне.
И вскоре разразилось – как гром среди ясного неба была для всех нас заметка в «Юманите»: «По сообщению агентства Франс-Пресс, советский режиссер Сергей Параджанов И февраля 1982 года арестован в Тбилиси за спекуляцию. Постановщик «Саят-Новы» однажды уже отбывал наказание с 1973 по 1977 год».
Потом, когда его друзья, Софико Чиаурели и братья Шенгелая, опять ходили хлопотать за него, им сказали, что толчком к аресту послужило злополучное выступление в Театре на Таганке и что изолировать его решила Москва.
Вот что рассказал Гаррик:
– Ему инкриминировалась «дача взятки» за мое поступление в театральный институт, где я в то время учился уже на четвертом курсе. Меня вызвали в МВД. Объяснили, что в сочинении, тщательно проверенном экспертами МВД через три года после вступительных экзаменов (!), насчитали 62 (!) ошибки. Я совершенно растерялся, впервые оказавшись в таком учреждении. К тому же только что умер мой отец. Они уговаривали, убеждали, требовали признать «факт взятки». И вдруг прямо дали понять, что за определенную мзду дело можно закрыть. Дядя Сережа тут же повез пятьсот рублей. Конечно, это была ловушка, провокация, его взяли на «месте преступления», и я невольно оказался виновником ареста».
Не будь Гаррика, нашли бы другую причину, например связь с иностранцами. Сколько их побывало у него! А в те годы с этим не шутили. Завели дело. И следователю он заявил вполне в своем духе, – что старый чемодан, который мы дали ему для его барахла, – это чемодан Маяковского, какой-то чугунок – кубок Хмельницкого, а палка, чтобы закрывать ставни, посох Ивана Грозного. Ни более ни менее. Иначе неинтересно. Но по существу все это было ужасно. Суд несколько раз откладывался: то не могли найти помещения, то не являлись свидетели, то сам Сережа болел. Из-за диабета у него что-то случилось с мочевым пузырем, потом он потерял зрение, но, к счастью, оно вскоре восстановилось. Беда за бедой…
На процессе был Атанесян: «Все залы суда были заняты, и заседание было выездное, в Доме работников искусств. Судьи сидели прямо на сцене, там же и Сережа, а по бокам два конвоира, которым он тут же дал роли. Они с ним уже дружили, звали «Батоно Саркис» (господин Сережа.) Одному он сказал: «Ты похож на Наполеона. А ну, сложи руки на груди, наклони голову. Молодец! Стой так!» Тот так и стоял все заседание. Прокурор и судья любили Сережу, но знали, что его нужно засудить, иначе самим несдобровать. Так вот, кто-то из судейской администрации – такой высокий, лоб с залысинами – спрашивает его в перерыве: «Батоно Саркис, а мне вы какую роль дадите?» Тот окинул его взглядом: «Принесешь завтра простыню и полкило лаврового листа, будешь Нероном».
Суд продолжался несколько дней. Помню, что пришло много друзей Сергея, хотя это и было несколько опасно. Он со всеми раскланивался, кидал реплики, переговаривался, судьи его одергивали, но без толку. Среди присутствующих был Додо Абашидзе, который никого, кроме Бога, не боялся, и он из зала выкрикивал какие-то обидные вещи в адрес судей. Сережа потом рассказывал, что Софико Чиаурели «приехала в здание суда прямо из Парижа с двумя чемоданами», поставила их в проходе, развернула трехметровый плакат «Саят-Новы» и крикнула: «Вы здесь судите Параджанова, а в Париже народ ломится на его фильмы!» Конечно, это было не так, но она действительно пришла на суд и фразу эту в его защиту сказала. Она смелая и честная женщина.
Помню в зале Левана Георгиевича Пежанова, старого друга Сережи, ему в ту пору было под восемьдесят. Это одинокий, очень преданный Сереже человек, которого тот мечтал поженить со своей старой школьной учительницей Ниной Иосифовной, но все было недосуг устроить их встречу. Они встретились на суде, даже не встретились, а просто сидели в одном зале. Когда Пежанову задали какой-то вопрос, Сережа воскликнул: «Зачем вы потревожили этого почтенного человека и задаете ему вопросы? Но хоть одно счастье, что здесь сидит и Нина Иосифовна и две души, которые должны были соединиться в радости, соединятся в печали». Наполеон с Нероном не успели опомниться, как Сережа прыгает в зал, сажает их вместе: «Живите в мире и в радости!» Еле навели порядок. А те покорно сидели и смотрели на Сережу, улыбаясь, двое таких красивых старичков… В один из дней его забыли отвезти из суда обратно. Друзья поехали с ним на такси, предварительно искупав в бане. Приезжают, стучатся: «Пустите в тюрьму, отворите темницу!»
За несколько дней до суда мне в Москве позвонила Белла Ахмадулина. Они с Борисом Мессерером собрались лететь в Тбилиси. Ее поэзию очень ценил Эдуард Шеварднадзе, тогда первый человек в Грузии, как, впрочем, и теперь, и Белла Ахатовна надеялась передать ему письмо в защиту Параджанова. Все мы прикидывали: что и как написать? Рассудив, что просто отпустить Сергея на все четыре стороны невозможно (честь мундира!), было решено просить, чтобы приговор вынесли условный. Что угодно – только условно.
«Я очень знаю этого несчастного человека, – писала Ахмадулина. – Тюрьма его не хочет, но он хочет в тюрьму. Нет, наверно, ни одной статьи Уголовного кодекса, по которой он сам себя не оговорил в моем присутствии, но если бы лишь в моем… Все его преступления условны. И срок наказания может быть условным. Это единственный юридический способ обойтись с ним без лишних осложнений, иначе это может привести его к неминуемой погибели».
Письмо было передано Эдуарду Амвросиевичу. Параджанову дали пять лет условно. Его освободили в зале суда, но он рвался обратно – чаплинская ситуация. Волновался: «Смотрите, сколько мне здесь насовали записок и денег для урок. Я им должен передать их в тюрьме, они меня ждут. Да и как же я не попрощаюсь с ними?» Так – после одиннадцати месяцев заключения – Сережа наконец очутился дома и лег спать хоть и в холодной, сырой, но в своей комнате, среди своих игрушек и драгоценной чепухи, столь милых его сердцу.
И снова его свободе способствовал большой поэт.
«Параджанов – это зло!»
Мне не довелось видеть Сережу на съемочной площадке. Но я разговаривал с несколькими его коллегами.
«Вскоре после тбилисского суда, – рассказал Александр Атанесян, – его пригласили в Госкино Грузии. «Мы готовы дать вам работу, снимайте что хотите, ищите сценарий. А пока, чтобы вы получали зарплату, мы назначим вас художественным руководителем на картину Манагадзе. (Манагадзе впервые увидел Сережу полгода спустя после сдачи своего фильма, и тот сказал со смехом: «Здравствуй, я у тебя худрук на картине!») Через несколько дней в кабинете министра Сергей что-то неуверенно предложил, сам колеблясь. Министр сказал, что хорошо бы поначалу ему сделать картину с кем-нибудь на пару, ведь он долго не стоял у аппарата… Министр желал ему добра и как мог деликатнее с ним говорил. В кабинете был знаменитый наш Додо Абашидзе, который тут же предложил Сереже сотрудничество, – он запускался с «Сурамской крепостью». Это было очень благородно, ведь Додо понимал, что в случае провала будет виноват он, если наоборот – решат, что это победа Параджанова.
Всю картину Сережа раскадровал своими руками, нарисовал каждый кадр – небольшой рисунок, чуть больше спичечного коробка. Он нарисует композицию и передает ее нам: «Вы такими каляками-маляками все окружите». Мы зачерчивали, подклеивали, вырезали – словом, делали всю черновую работу. Потом он сверху просто пальцем – помадой ли, маникюрным лаком, горчицей ли – давал тональность. Весь фильм предстал в последовательности. К началу съемок Параджанов был абсолютно готов. Он – да, но не мы. И вот почему. Сергей был совершенно непроизводственный человек, он знал, что хочет, но точно поставить нам задачу не мог. Мы не понимали, что от нас требует постановщик, и всегда опаздывали – ассистенты, помрежи, бутафоры. Мы не могли не опоздать, ибо не знали, что у него в голове. Он видит готовый кадр, каждый из нас должен сделать маленькую деталь, но Параджанов не объясняет какую именно, и получаются неувязки, нервная обстановка и крик. Для него ясность творческой цели, для нас – абсолютная неорганизованность. И съемки были сплошь и рядом мучительными. Он работал с сотрудниками по многу лет, хотя про одних говорил, что это разбойники, про других – что «их видели уходящими в горы с двумя мешками денег» и прочую чушь. И все же он сам никогда не расставался с работниками, это они уходили от него. Редко, но уходили, не выдерживая необузданности его характера, даже коварства. Одного человека спросили: «Вот вы проработали с ним картину. Так какой же он, Параджанов?» – «Вы видели когда-нибудь зло?» – «Нет, как же можно зло – видеть?» – «Можно. Зло – это Параджанов». (Так же как и многие, знавшие Сережу, нисколько не удивляюсь этому суждению. Я не знаю почти ни одного друга Параджанова, которого на определенное время не разделяла бы с ним вражда, порожденная Сережиным поведением. Что было, то было. Но и они сегодня не поминают его лихом – таков феномен Параджанова.)
Все костюмы Сережа делал своими руками. Шили их, конечно, портные, но он потом так драпировал, украшал и комбинировал, что получалось нечто ни на что не похожее. Больше вы нигде не увидите таких одежд, ни в одном фильме. В нем умер гениальный кутюрье. Впрочем, нет, не умер, поскольку костюмы, им сочиненные, остались навсегда в его фильмах. Только не надо искать в них исторической достоверности, школьники не будут по ним изучать эпоху. Достоверность его не интересовала, и курдский платок, повязанный на голове грузинской княжны, отлично уживался с туркменским тюльпеком, поверх которого была накинута узбекская паранджа задом наперед, а сбоку висела кисть, которой обычно подхватывают портьеры в буржуазных гостиных… По этим костюмам вы всегда узнаете его фильм, даже если это будет всего один кадр. Это не поэтический, не интеллектуальный, не абсурдистский и тем более не реалистический кинематограф, это – «кинематограф Параджанова».
Однажды в перерыве между съемками я спросил его, что им движет, есть ли какая-то закономерность в том, что он снимает этот эпизод так, а не эдак? Он ответил поразительно: «Мной всю жизнь движет зависть. В молодости я завидовал красивым – и стал обаятельным, я завидовал умным – и стал неожиданным». Конечно, это была зависть особого, параджановского толка.
Как он снимал? Определенного метода не было, и мы никогда не знали, что нас ждет. Вот случай на съемках «Легенды о Сурамской крепости», эпизод «Базар в Стамбуле». Сережа утверждал, что это XIV век, хотя совершенно непонятно, какой это век и Стамбул ли это вообще. Вся группа по различным причинам не разговаривает с Параджановым: сопостановщик Додо Абашидзе за то, что застал Сережу за поеданием осетрины в одиночестве. Директор потому, что Параджанов написал на него шесть доносов. Я – потому, что Сережа меня обвинил: «Ты не уследил, и агенты ЦРУ украли у меня паспорт!» Художник Алик Джаншиев – потому, что упал с декораций человек и Сережа потребовал: «Джаншиева надо честно посадить в тюрьму». Оператор Юрий Клименко с ним не разговаривал потому, что не понимал, как можно «честно посадить в тюрьму». Словом, все, кроме куратора студии Мананы Бараташвили, которая все Параджанову прощала и звала его «пупусь». Так вот, мы все с ним в ссоре, и нужно сделать так, чтобы он ни к чему не смог придраться. А мы готовим чудовищный по освоению объект. Нужно было одеть четыреста человек массовки, двенадцать героев, пригнать восемь белых и восемь черных лошадей, четырех верблюдов, шесть ишаков, двух мулов, обнаженных невольниц и подготовить весь реквизит. Труднее всего было с Додо Абашидзе, который играл эпизод. За его большой рост Сережа звал его Эльбрусом, на него ничего не налезало, и он снимался весь фильм в спортивных штанах с надписью «Adidas» (где-то в фильме это даже мелькает.) Сшить новые было нельзя, потому что Параджанов требовал штаны именно XIV века, а никто не знал, какие тогда были штаны. В том числе и сам Сережа. Историческая скрупулезность отнюдь не была сильной стороной его творчества, он мог нацепить на героя две серьги, и когда ему замечали, что мусульмане носят серьгу лишь в одном ухе, он парировал: «А я повешу ему вторую и возьму шестнадцать международных премий за красоту!» Так вот, Сережа заявил нам: «Я приду в два часа, и чтобы все было на месте!» Появляется за пятнадцать минут до начала, садится, как всегда, на стуле задом наперед:
– Ну что, бездари, объект готов?
– Готов.
– Где четыреста человек массовки?
– Вот. И еще резерв пятьдесят.
– Все одеты? А ну иди сюда, грим проверю!
– И грим есть!
– Где сто штук лимонов?
– Вот они.
– Где китайские вазы, ковры, оружие?
– Все на месте!
– Где Эльбрус?
– Здесь я!
И оператор Клименко говорит, что все готово. Это совершенно добило Сережу, но он не сдавался:
– А где лошади и верблюды?
– Вон они.
– А где фураж для скота?
– Вот сено, вот овес.
Он ехидно прищурился:
– А где человек, что будет за скотом убирать навоз?
Выходит усатый дворник:
– Я буду!
– Видишь, пупусь, все готово! Можно начинать.
– Так, значит, все сделали? Ну и снимайте сами, зачем я вам нужен?!
И ушел с площадки. Обиделся: мы не оставили ему процесса творчества. На другой день не было массовки, Эльбрус был не одет, операторы не готовы. Был час крику-визгу, но съемку провели, и все разошлись довольными. А если вспомнить, как он выбирал актеров, то я не знаю, найдется ли на земле еще такой режиссер. Только один пример – как он искал исполнителя роли волынщика для «Сурамской крепости». Сережа говорит мне: «На завтрашнюю съемку на роль волынщика надо пригласить Отара Мегвинетухуцеси». Я послал записку. Возвращается трясущийся от ужаса второй режиссер Хута Гогиладзе и говорит: «Шура, я не знаю, как сказать это Сереже… Отар попросил сценарий!!!» Я тоже не взялся говорить такое: Параджанов никогда в жизни не давал актерам читать сценарий. Хута продолжает: «Мало того. Отар спросил, как Параджанов видит эту роль». Тут я понял, что скандал неминуем: «Ладно, я скажу ему сам, но ты стой рядом, как гонец».
– Сережа, у нас накладка с Отаром.
– Он заболел?
– Хуже. Он спрашивает сценарий. И концепцию роли.
– Он что, идиот? Я его снимать не буду. Отбой. Вызови Тенгиза Оквадзе, я придумал, я же гений.
– Сережа, он был хорош в «Киевских фресках» – молодой, красивый. А сейчас… и потом… он выпивает…
– Ты, бездарь! У меня двадцать девять медалей за вкус, я лучше тебя знаю, кого снимать.
Он кричит, ходит возбужденный, все перевешивает и переставляет, все ему не так. Минут через двадцать заявляет:
– Слушай, я вспомнил. Этот Оквадзе какой-то кишмиш. Он что-то мне разонравился. Наверно, надо снимать Отара Маридзе, как ты думаешь?
– По-моему, Отар хороший актер, но декоративный, не для этой роли и вообще не твой актер. У нас крупные планы, а он манерный, зачем это тебе?
– Ты бездарь, у меня тридцать одна медаль за вкус! И ты будешь меня учить?
Скандал, Сережа орет, что-то ломает. И я смиряюсь:
– Ладно, снимай Отара, снимай кого хочешь. Что ты со мной советуешься?
Наутро говорит: «Я придумал гениальную вещь. Я снимаю Рамаза Чхиквадзе в костюме Аздака из спектакля Стуруа». А у Додо Абашидзе свои счеты с Театром Руставели. И он начинает нависать над Параджановым. Огромный человек в 160 килограммов, в прошлом «гремучий хулиган», как говорили в Тбилиси:
– Кого?! Да как можно искать актеров среди этих убийц грузинского театра?!
А я думаю, что у него сейчас будет инфаркт, у Сережи тоже, они оба диабетики и очень тучные шестидесятилетние люди. И Параджанов, спрятавшись за меня, спрашивает:
– А что, я тебя буду снимать, что ли?
– Лучше меня, чем этих негодяев!
– Да? А ну, сделай так!
И Сережа показал как. Додо сделал.
– А ну, скажи что-нибудь.
И Додо вдруг начал петь каким-то странным голосом старую грузинскую песню волынщика. Сережа вышел из-за моей спины и, присев, снизу взглянул на него. «Все! Никого не вызывать! Снимаем Додо Абашидзе!» Вот так был выбран актер. Анекдот?
Нет. Кто бы ни приехал завтра на съемочную площадку – вы, Инна, ваши соседи – уверяю вас, он всех одел бы и поставил в кадр».
Говорили с ним о кино
Время от времени мы, естественно, говорили с ним о кино, и в моих записях есть несколько его суждений: «После обеда смотрели на видео «Кабаре». Картина Сереже очень понравилась, но – странное дело – он внимательно следил за сюжетом, а все номера с Лайзой Минелли, все это кабаре его совершенно не заинтересовало. Он выходил, разговаривал и откровенно скучал. Вчера С. смотрел «Амадей» и вернулся злой. В целом он против версии Формана, считает картину слабой, легкомысленной. «Форман увлекается перерезанными венами Сальери и шляпами жены Моцарта». Вместо Моцарта Хлестаков, мол. Красивые интерьеры, шкафы, кареты и костюмы. Считает, что Пушкин вошел в нашу плоть и кровь и надо делать по Пушкину. Я возражал, но это было ни к чему: раз уж Форман его не убедил… Он, вообще, не спорит, а молчит.
– Знаешь, как надо было снять пролог к фильму? Моцарт и Сальери в детстве дружили, и однажды они…
– Но Моцарт еще не родился, когда Сальери был мальчиком!
– Кого это интересует? Слушай. Однажды они гуляли по парку и любовались лебедями. Рядом садовник подрезал кустарник. Вдруг он схватил лебедя и отрезал ему крылья. Мальчики были потрясены. А много лет спустя Сальери обрезал крылья Моцарту!»
«В Тбилиси Сережа смотрел «Царя Эдипа» Пазолини семь раз. Объяснил, почему: «Чтобы не повториться. И смотрел бы еще, но картину увезли».
«Амаркорд» и «Зеркало» им удалось снять потому, что их не сажали. Я тоже снял бы «Исповедь» в свое время. Но у меня было пятнадцать лет вынужденного простоя, из меня абортировали несколько задуманных картин. Если бы Феллини и Тарковский сидели в лагере, они сняли бы свои мемуары трагичнее»…
«Вечером никого не было, Сережа томился и мешал мне: «Брось ты своего Антониони, такая скучища, и никто его не смотрит». (Я читал «Антониони об Антониони».) Но если бы это был Чаплин, он ради красного словца сказал такое же и о нем, ибо в это время ему нужно было общение. Сегодня утром говорю: «Вот ты отмахиваешься от Антониони, а он работает как ты, только фильмы у вас получаются разные». И прочел ему: «Я всегда придавал особое значение объектам, окружающим человека вещам. Предмет, находящийся в кадре, может означать не меньше, чем персонаж. Мне было необходимо с самого начала заставить, научить зрителей относиться серьезно не только к героям, но и к окружающим их предметам». Или вот: «Актер это элемент изображения, и далеко не всегда самый важный. Совершенно очевидно, что его значение в каждой конкретной сцене зависит от того места, которое он занимает в кадре…» А это уж точно про тебя: «Когда я снимал «Крик», превосходная актриса Бэтси Блэр захотела пройтись со мной по всему сценарию, чтобы я объяснил ей каждую строчку. Те два часа, что я провел с ней над сценарием, были самыми ужасными в моей жизни, поскольку я был вынужден выдумывать значения, которых там вовсе не было». – «Повтори, кто это сказал?» – «Антониони». – «Нет. Это сказал я!»
Сказать не сказал, но поступал именно так. Вообще, Параджанов воспринимал необычно чужие идеи и находки. Если они ему нравились, он бессознательно, не замечая этого, их присваивал. Так, ему казалось, что рогожный занавес «Гамлета» на Таганке придумал именно он. И разорванную карту Британии, где происходит поединок в спектакле Стуруа, – тоже он. И ничтоже сумняшеся говорил об этом налево-направо. (Если бы он увидел «Служанок» у Романа Виктюка, то, несомненно, заявил бы, что красное «сорта де баль» – тоже его находка.) Но со мной эти номера не проходили, так как я неизменно спрашивал: «И танец булочек в «Золотой лихорадке» тоже ты придумал?»
Он видел мир по-своему. Не как мы с вами. В шестидесятых хотел поставить «Гамлета», о чем я узнал за обедом в ресторане «Европейской». Увидел рыжего официанта, который нас обслуживал, и сказал, что приглашает его на роль Лаэрта. Тот – ни сном ни духом. Сережа пытался пересказать сюжет, получалось задом наперед, официант удивленно слушал, забыв про заказ, а мы стали кричать, что хотим есть, пусть принесет суп. Так эта актерская карьера и отцвела, не успевши расцвесть. А уже потом он говорил, что хочет снимать в роли Гамлета Михаила Горбачева и в Кремле устроить Эльсинор. Уверен, что из Шекспира он тоже сделал бы Параджанова, как сделал из Коцюбинского и Лермонтова.
Он не терпел профессиональную массовку, любил снимать натурщиков, типажи. «Сойдутся дамы с маникюром, я одену их в гуцульские костюмы, а что толку? Они будут стоять на морозе и петь «Сильва, ты меня не любишь?» Нет, он просил только настоящих гуцулов, ему нужна была бытовая правда, которую он трансформировал в правду художественную. Он ненавидел «псевдеж», особенно украинский, который не уставал вышучивать.
Он хотел на роль Андерсена взять Юрия Никулина и говорил, что «Никулин и без грима Андерсан». Он говорил «Андерсан». Да, многого ему не дали сделать. Этот «Андерсан» лишь одна из могил на кладбище его неснятых вещей, или (выражение Параджанова) «тех вещей, которые из меня силой абортировали».
Я не считал его образованным, скорее – понимающим. Но очень. Он мог через себя пропустить любую культуру и удивительно воспринимал музыку, живопись, особенно фольклор. Он мог выдумать ритуал, например, ярмо на свадьбе в «Тенях». Никому и в голову не пришло, что это плод его фантазии, настолько это было убедительно. Он был настроен на волну правды искусства, а не исторической.
Обычно скандалы приберегают на старость, когда нужно подогреть к себе интерес, но Сережа был нетерпелив: говорили, что на съемочной площадке он был невыносим уже с молодых лет. Юрий Ильенко, оператор «Теней забытых предков» рассказывал: «Через неделю после начала съемок я ушел с картины и вызвал его на дуэль. Он вел себя ужасно, и терпеть его поведение было невозможно. Я хотел его убить, хотя это была ссора по творческим мотивам. У меня секундантом был директор студии Цвиркунов, у него – режиссерская группа. Шел дождь, Черемухи вздулся. Я шел по одному берегу, он по другому, на мосту мы должны были встретиться и стреляться. Из гуцульских боевых пистолетов. Уж я не промахнулся бы! Но Черемуш вздулся так, что мост снесло, а с тридцати метров я никак не мог стрелять. Но мы точно шли на дуэль, помешала только механическая причина. А вечером из Киева пришел первый материал. Мы пришли в зал, сели по разным углам. Посмотрели первую коробку, и я понял, что никуда не уеду. Мы обнялись, поцеловались – и начали опять биться». Результат известен.
Параджанов знал, что снимает кино, трудное для восприятия. «Зритель часто покидает меня во время просмотра, и я остаюсь один в зале. Но он привыкнет», – сказал Сережа в интервью австрийскому ТВ.
– Сергей Иосифович, как вы объясните, что в «Ашик-Керибе» караван верблюдов с невольницами проходит по берегу моря, где плывет современный корабль?
– В самом деле? Может быть…
– И почему одалиски держат автоматы Калашникова?
– Разве? Кто бы мог подумать?
На вопрос ТВ, как он работает с актерами (нашли, о чем спросить), он, помолчав, ответил: «Сижу ли я в кресле у камеры, или бегаю по площадке, поправляю ли грим, или сооружаю костюм – это все потом осмыслят киноведы». Сережа много раз возвращался к статье о нем замечательного филолога Юрия Лотмана. Она так ему нравилась, что он даже купил десять (больше в киоске не было) экземпляров пятого номера журнала «Искусство кино» за 1989 год, где была опубликована эта статья. «Я никогда не смог бы так сформулировать себя. Кто такой Лотман? Он гений», – говорил он и снова просил читать ему вслух.







