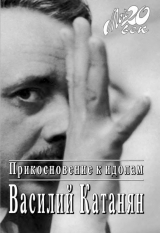
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц)
Три года (1961–1964) Эльза Триоле составляла и редактировала «Антологию русской поэзии» – толстенный том, где лучшие стихи от Ломоносова до Ахмадулиной собраны ею. И переводчики выбраны ею. И краткие биографии всех поэтов написаны ею. И Хлебников, Маяковский, Цветаева, Слуцкий, Вознесенский переведены ею. И презентация книги в огромном зале, куда были приглашены поэты из России, тоже устроена ею!
Но без помощи ЛЮ и моего отца издание вряд ли бы увидело свет. Дело в том, что они раз за разом посылали в Париж сборники поэтов – и новых и старых, – из которых Эльза черпала нужные стихи. Письма Эльзы полны просьб – пришли Кульчицкого, здесь его нет; позвони Асееву, чтоб прислал последние стихи; умоляю – достань Баратынского; отругай Кирсанова, что задерживает сборник, и тому подобное. Каждому поэту предшествовала краткая биография, факты которой часто бывали Эльзе недоступны, и надо было связываться с родными, выяснить даты и т. п.
Вот несколько отрывков из писем: «Перевела лакомый кусочек из Хлебникова. Прозу. Две странички. Так решают крестословицы!!! Но по сравнению с существующими переводами я – гений!»
Получив от сестры «Тарусские страницы», Эльза благодарит и пишет: «Замечательные стихи Цветаевой, яростные, отчаянные… В жизни она была другой. Понравился мне Булат Окуджава – кто он? Что написал? Случайно он написал это хорошо или он настоящий писатель?
Я купаюсь в поэзии, с любопытством открываю старые книги… Перелистываю, точно старые фотографии. Демьян Бедный это до того плохо, что мне не найти переводчика».
«Перевела два стиха Пастернака, Арагоша говорит, что получилось. Но от Слуцкого я принимала двойные порции веганина – не выходит! Прочла весь словарь, найти эквивалент «брезжит» и «брызжет» не удалось – что теперь делать?»
«Лиличка, не хватает Саши Черного, Северянина, Гумилева, Панкратова, Андрея Белого, Бальмонта. Может быть, что-нибудь найдется у Васи?»
Лиля Юрьевна и Василий Абгарович высылали все, что она просила, доставали любую справку и уточнение.
Я испытываю огромное уважение к Эльзе за ее сверхтрудолюбие. По письмам видно, что такое «ни дня без строчки»: не успевает сдать рукопись издателю, как делиться с ЛЮ планом нового романа; заканчивает перевод Чехова, и на другой же день предлагает Любовь Орловой играть «Милого лжеца»; сегодня открывает выставку, а завтра принимается за составление Антологии русской поэзии… И так изо дня в день – годами!
Лепить, писать, сниматься
Дилетант, как пишет толковый словарь, это «человек, занимающийся наукой или искусством без специальной подготовки». Таким талантливым дилетантом была Лиля Юрьевна.
В 1938 году она поставила у себя в комнате станок, завезла светло-голубую глину и начала лепить. Сначала это была голова Маяковского. Я не считаю первую работу очень удачной, однако голову поставили в его музее. Вслед за нею она сделала еще несколько портретов, как бы семейную галерею – Брик, Евгения Гавриловна, Катанян… Наиболее интересным получился ее автопортрет, она отлила два экземпляра в бронзе, в этом ей помогал Натан Альтман. Одна голова стояла у нее дома, вторую она подарила Эльзе, и та находилась в ее парижской квартире. Когда немцы оккупировали город, они пришли к ним с обыском, все разгромили, перевернули вверх дном, скульптура упала на кровать и уцелела. Теперь она в Музее Арагона−Триоле в Сен-Арну.
ЛЮ очень неплохо лепила, но кроме того, она обладала литературным даром и оставила интересные воспоминания; опубликованы ее литературоведческие статьи; в совершенстве зная французский и немецкий, перевела несколько пьес, которые были изданы и поставлены; в кино она и снималась и сама поставила фильм… Кинематограф ЛЮ очень любила, всегда им интересовалась, хорошо знала и отлично в нем разбиралась.
В 1918 году они с Маяковским снялись в картине «Закованная фильмой», фирмы «Гомон». На экране оживала история художника, который ищет настоящей любви. Он видит сердца женщин – в одном деньги, в другом – наряды, в третьем кастрюльки. Наконец он влюбляется в балерину из фильма «Сердце экрана». Он так неистово аплодирует ей, что она сходит к нему в зал. (Художника играл Маяковский, балерину – Лиля Брик.) Но балерина скучает без экрана и после разных приключений звезды кино – Чаплин, Мери Пикфорд, Аста Нильсен – завлекают ее из реального мира снова на пленку. В уголке плаката художник с трудом разбирает название фантастической киностраны, где живет та, которую он потерял, – «Любландия». Художник бросается на поиски киностраны…
Поиски должны были сниматься во второй серии, но она не состоялась. Да и первая – «Закованная фильмой» – вскоре сгорела, от нее остались лишь фотографии и большой плакат, где нарисована тоскующая ЛЮ, опутанная пленкой… К счастью, Маяковский, возвращаясь со студии, приносил Лиле Юрьевне срезки от монтажа, чтобы показать ей что и как получилось. Обычно эти срезки безжалостно выкидывают, но ЛЮ их сохранила – она с первых дней знакомства с ним понимала, с кем имеет дело. Из них сегодня удалось смонтировать эпизод картины. (Кстати, Эйзенштейн тоже приносил домой срезки от «Бежина луга» – картины, которую не дали ему доделать. И сегодня из них тоже смонтировали короткий фильм.) А шестьдесят лет спустя итальянский экспериментатор Джанни Тотти сделал часовой фильм из этих разрозненных кадров «Закованной фильмой». Он распечатал, укрупнил их, придал динамику движеньям, и на экране восьмидесятых годов снова появилась эта пара со своей неумирающей любовью.
В 1973 году к 80-летию поэта на «Мосфильм» пригласили Сергея Юткевича сделать телефильм «Маяковский и кино». Из Государственного музея Маяковского от его директора В. Макарова и парторга Б. Дорофеева на имя МЛ.Суслова (!) не замедлил поступить донос, где, в частности, сообщалось:
«Эта лента будет состоять из рассказа Народного артиста СССР Игоря Ильинского о своем творческом содружестве с Маяковским, затем будут показаны фрагменты ленты «Закованная фильмой», созданной частной фирмой «Нептун» (поэтому нельзя назвать это «лентой Маяковского»), и после этого – «Барышня и хулиган»…
Главное, чего хочет С. Юткевич, – это показать советскому зрителю, как «садилась на колени» Маяковскому Л. Ю. Брик и как «бешено» он ее любил. <…>
Таким образом, ко дню всенародных юбилейных торжеств глашатая революции, полпреда Ленинской партии в поэзии, С. И. Юткевич готовит «Юбилейную» ленту, в которой Маяковский выступает в роли хулигана и в роли «скучающего» художника, мечтающего о чудесной киностране «Любландии». Образ величайшего поэта, его монументальность, его страстность в деле служения революции, партии, народу – все это подменяется Маяковским-хулиганом, «Любландией».
Хотели наказать ЛЮ, а наказали зрителей: донос возымел действие и картину остановили. Ее показали только через девять лет, на седьмой день после смерти Суслова в 1982 году. И не целиком, а лишь «Барышню и хулигана». Видимо, из могилы он все еще грозил пальцем ослушникам, не допуская, чтобы ЛЮ – Боже, упаси – не села бы вдруг на колени Маяковского…
Небольшое отступление – один из первых русских футуристов Алексей Крученых всю жизнь до смерти в шестьдесят восьмом году был отвержен советской властью и умер в нищете. ЛЮ знала его очень давно и всегда признавала, всегда любила этого талантливого чудака, этого «героя практических никчемностей». Ей импонировало стремление Крученыха к царству «чистых», освобожденных от предметности звуков. Она видела в них параллели с супрематизмом Малевича и поисками Ильязда, особенно в его «Рассказах», где целые страницы были подобны рассыпанному типографскому набору.
В день его рожденья он всегда бывал приглашен к Либединским-Вечерке на праздничный обед, а ЛЮ устраивала завтрак в его честь и торжественно его потчевала. Крученых читал стихи, все разговаривали, вспоминали, отец включал магнитофон, и на пленке сохранился голос Крученыха. Однажды он рассказал:
«Вот вышла книжка Ашукина «Живое слово». Там только два советских поэта использованы – я и Михалков. У меня взято живое слово «заумь». У Михалкова афоризм: «Союз нерушимый республик свободных, сплотила навеки великая Русь». Правда, у меня интереснее?»
Они часто говорили по телефону и время от времени встречались, но ни он, ни она не дожили до «крученыховского бума» в европейском литературоведении, до выхода бесчисленных статей и фундаментальных исследований о нем.
Так вот, увидев в шестидесятых годах смонтированный из обрезков эпизод «Закованной фильмой» и вспомнив то далекое время и ЛЮ на экране, он написал стихотворение, которое сохранилось в домашней фонотеке. Историки литературы, внимание!
«Лилическое отступление
Волшебница кукол, повелительница вздохов,
Чаровательница взоров, врагам анчарная Лилиада,
Лейся, лелеемая песня, сквозь камни,
Упорно, подземно, глухо, до удушья…
В судорогах наворочены глыбы кинодрам,
Руины романов, пласты сновидений…
Ваше Лиличество, сердце экрана!
Взгляни на крепчайшую пирамиду.
Я задрожу и вспомню до косточки
Золотоногую приму-балерину
В криках плакатов, в цветах аншлагов –
Великолепного идола!»
В 1929 году ЛЮ и режиссер Виталий Жемчужный, как я уже писал, сделали сценарий и поставили фильм «Стеклянный глаз». Это была кинопародия на коммерческие фильмы, которых тогда тоже было не занимать стать на наших экранах. Буржуазно-мещанской мелодраме противопоставлялась чистой воды кинохроника, жизнь без прикрас, как она есть, – оживленные улицы Парижа, стада на горных пастбищах, африканские ритуальные танцы и счастливые покупательницы у прилавка в ГУМе… Хроники было много, она была подробная и по замыслу должна была поражать. Наверно, и поражала, с сегодняшней колокольни трудно судить, одурев от телевидения.
Но хроника была только частью фильма. Другая часть являла собою намеренно дурацкую историю из шикарной жизни, с ослепительной Вероникой Полонской, со всеми атрибутами красивой целлулоидной страсти, которую пародировали авторы фильма. Картина пользовалась известным успехом, во всяком случае пресса 29-го года писала: «Смотрится картина с интересом. Ее следует использовать на всех экранах, в особенности в клубе, для работы со зрителем по вопросу об оздоровлении и развитии советской кинематографии».
«Н-да, я бы не сказала, что мой вклад в «оздоровление советской кинематографии» сильно помог ей – судя по тому, что сейчас снимают», – иронически заметила ЛЮ, когда много лет спустя рецензия попалась ей на глаза.
После съемки «Стеклянного глаза» ЛЮ написала тоже пародийный сценарий «Любовь и долг». Первая часть фильма несла в себе весь сюжет, остальные части в результате перемонтажа, по смыслу противоречили друг другу. Только перемонтаж, ни одного доснятого кадра!
Часть первая: на одной заграничной кинофабрике закончен боевик под названием «Любовь и долг». Во второй части прокатная контора делает из него картину для юношества. В третьей части картину перемонтировали для Советского Союза. Четвертая часть – для Америки из нее сделали комедию. В пятой части кинопленка возмутилась и коробки покатились для смыва обратно на студию. Т. е. снова пародия на антихудожественную кинематографию.
В главной роли – апаша – хотел сняться Маяковский, но до съемки дело не дошло. Все застряло в дебрях бюрократии. Сопротивление преодолеть не сумели ни он, ни тем более ЛЮ – о чем впоследствии все очень жалели.
Много лет спустя, в 76-м году, итальянские знакомые написали ЛЮ, что Феллини прочел в переводе «Про это» и поэма его заинтересовала. Он говорил с этими знакомыми о возможности экранизации, о фигуре Маяковского, расспрашивал о Лиле Юрьевне и был удивлен, что она жива… Спросил, можно ли с нею связаться, но так и не связался. И знакомые эти порекомендовали ей написать Феллини, что она думает по этому поводу. «Я ничего не думала, но мне хотелось, чтобы Феллини сделал что-нибудь из Володиной поэмы. Или про Володю. И я написала ему – о чем жалею – т. к. ответа не получила. Жалею не из-за самолюбия, а просто мне трудно, физически трудно стало теперь писать… Но м.б. письмо мое (или его) не дошло? Словом – пустое».
Так эта история ничем и не кончилась, лишь сохранился в архиве черновик ее письма.
О вкусах спорят
В ней всегда удивительным образом сочетались известной степени буржуазность и социалистические взгляды. Она не чуралась ни того, ни другого. В дореволюционные годы – вращалась в среде золотой молодежи Петербурга и Москвы, среди ее знакомых были богатые банкиры, светские дамы, знаменитые артисты. «Меня приглашали потому, что я была элегантна и умела говорить об искусстве». С появлением Маяковского круг стал другим: поэты, литераторы, художники. Футуризм ей импонировал новаторством, интересным искусством и яркими людьми.
В юности сильно увлекалась «Что делать?» Чернышевского. Этот роман очень любили и Маяковский и Брик, жизнь ее героев в известной степени напоминала их отношения. ЛЮ всячески всем его рекомендовала, и те, кто его прочитывали, очень недоумевали. Сохранилась магнитофонная запись ее разговора с художником Кулаковым:
«– Лили Юрьевна, «Что делать?» вам нравилось с художественной стороны или… вот…
– Я не отделяю этого. Все говорят, что это художественно плохо написано, а я так не считаю. Это достаточно хорошо написано, чтобы читать с восторгом. Во всяком случае мне это ближе, чем Тургенев.
– А Рахметов? Как вы к нему относились тогда?
– Я к нему вообще хорошо отношусь, он мне нравится. Прочтите этот роман сейчас. Интересно. Не слишком придирайтесь к тому, как это написано. И вообще надо держать в уме, что все это написано в тюрьме. Что он никогда не жаловался, ни в чем не покривил душой. Что его боготворила молодежь, чуть не на коленях стоя читала его вслух. И на студенческих вечеринках пели: «Выпьем мы за того, кто «Что делать?» писал, за героев его, за его идеал».
– У Ольги Сократовны есть воспоминания, где она предстает очень легкомысленной особой по отношению к Чернышевскому.
– Он же всю жизнь сидел в тюрьме. Ясно, что она с кем-то жила. Она была самостоятельна, он ей давал эту свободу, он ее очень любил.
– Она вспоминает, как он сидит, пишет, а она в нише, где-то там в алькове с кем-то…
– Целовались? Делов-то!
– Да нет, не целовались…
– Жили? Может, и жили. Это ничего не значит. Это не значит, что она его не любила. Нет, это сложно, так нельзя по какому-то воспоминанию… Ну целовались, ну и что?
(Прекращает разговор, который ей неприятен.)
– ЛЮ, вы читали роман Набокова… этот…
– Знаю, знаю. Это где он о Чернышевском плохо пишет? Я за это Набокова терпеть не могу. Читала и эту идиотскую гимназическую дребедень «Лолиту», что это за эротика? Ну, любит он эту маленькую девочку, ну, нравится ему ее щупать… Дело какое.
– Он вам не нравится как писатель?
– Нет, нет, он мне не нравится».
Вообще, в ней все было неоднозначно. И ее образ никак не укладывался ни в какие конструкции. Ратовала за «Моссельпром»? Да, но с удовольствием покупала и там, и у богатых нэпманов. С восторгом относилась к рекламе «Резинотреста», но предпочитала носить обувь от Bally. Радовалась, что открываются новые парфюмерные магазины «Теже», но душилась парижскими «Джикки» (а позднее «Бандит».) Тогда, в двадцатые годы, знаменитый и ныне Герлен представил новые духи «Джикки». Названные мужским именем, они соблазняли своим резким запахом шипра. Это был аромат новый, интригующий и дерзкий…
Одно не мешало другому – так же, как авангард и традиционное искусство. Она не была прямолинейна. Окна РОСТА и Третьяковская галерея. Коллажи Варвары Степановой и – Эль Греко. Томик Маяковского переплетался ею в шевро с золотым тиснением, и она же восторгалась книгой, отпечатанной по бедности на клочках обоев. Не это ли называется «единством противоположностей»? Критерий был один – талант. Она даже закрывала глаза на некоторые неблаговидные поступки, для нее личное поведение талантливого человека было на втором месте. Правда, если это не касалось важных принципиальных идей.
Контраст ее пристрастий отражался на ее доме, на том, что ее окружало. И если ЛЮ жила среди самых неожиданных вещей, то с ее вкусом они никогда не выглядели нелепыми. Даже китч она умела возвести в ранг искусства. Будучи поклонницей левого фронта, она тем не менее всю жизнь любила коврик, который никак нельзя было отнести к этому направлению. В 1916 году он был ей подарен Маяковским – расшитый бисером и цветной шерстью, с выпуклыми уточками, которые пялили перламутровые глаза. Это была насмешка молодого футуриста над мещанством, «красивостью». «Володя рассчитывал, что мы посмеемся над шуткой и забудем о коврике. А мне он понравился, мне было приятно, что это подарок Володи, я его повесила над кроватью, и, ко всеобщему удивлению, он провисел у меня всю жизнь». Думаю, что элемент эпатажа здесь тоже присутствовал.
Она собирала расписные подносы и старинные фарфоровые масленки. В конце сороковых я увидел у нее керосиновые лампы, которые все давно уже выбросили. Их мой отец переделывал в электрические. Вскоре ими стали увлекаться. «Я их ввела в моду», – сказала ЛЮ. Она уловила то, что витало в воздухе.
Во время войны, когда ничего не было и пара чулок превращалась в неразрешимую проблему, ей понадобилась занавеска на окно. Она собрала старые тряпочки, какие-то лоскутки, что-то ей давали знакомые – и в стиле деревенского одеяла сшила замечательной красоты лоскутную занавеску. Она висела у нее лет тридцать. А рядом стоял фикус, она не видела в нем ничего мещанского – растение с красивыми листьями.
Стены ее квартиры говорили о ее пристрастиях, о разнообразии ее склонностей. Кубистический автопортрет Маяковского отлично соседствовал с эфиопским лубком, а птицы Брака летали рядом с космическими спутниками Натальи Гончаровой… Она любила определенных художников, самых разных – это были ее знакомые, друзья, а дружила и приятельствовала она с теми, чьи взгляды она разделяла, кого считала талантом или гениальной и интересной личностью. Часто эти люди дарили ей свои работы. Вот так и сложилось ее собрание.
Весной 1925 года в Париже она познакомилась с Фернаном Леже, он еще не был знаменит. Молодые, они ходили в дешевые дансинги, а гулять он ее приглашал по рабочим окраинам. «У него были руки, как у рабочего, и кепка, какую носили шоферы, – вспоминала она. – Он сказал – бери любые мои картины! Но в ЛЕФе тогда придерживались теории, что картины – это дыры в стене и что они должны висеть в музеях, а не в квартирах. Чтобы не обидеть Фернана, я взяла небольшую гуашь, а могла бы унести всю мастерскую. Когда я вернулась в Москву, он прислал статью для журнала «ЛЕФ», свой доклад в Сорбонне на философском факультете – о свете и цвете на театре. Статью он посвятил мне, я ее перевела, но она не была напечатана (не помню уже почему) и лежит у меня в архиве.
Когда тридцать лет спустя меня выпустили в Париж, то первого, кого я увидела в аэропорту, был Леже, он мало изменился. Мы стали снова встречаться, и он затеял писать двойной портрет – Маяковский и я. Но закончить его не успел, заболел смертельно. Когда к нему уже никого не пускали, он захотел меня видеть. Я села к нему на кровать и когда сказала, что эскиз чудесный, он обрадовался. Спросил, какого мы были цвета, была ли я розовая? Я ответила – мне кажется, что Володя был коричневый, а я белая. Он сказал – это хорошо. Больше я его живого не видела. А эскиз картины стоял на панихиде у его фоба. Это было последнее, к чему он прикасался как художник».
С Марком Шагалом она была знакома еще до его эмиграции. Когда же подняли железный занавес, они встретились так, будто и не расставались.
«Марк, вот ты всегда говоришь, что любишь Маяковского, а сам не сделал ни одной фантазии на тему его стихов.
– Ах, Лиля, я уже старый и ничего не могу.
– Отлично можешь. Попробуй!
– Ну, я постараюсь… Но я хочу, чтобы ты посмотрела и посоветовала, а моя мастерская высоко и ты не сможешь подняться из-за твоего больного сердца, – продолжал он отнекиваться.
– Ты нарисуй, а я уж поднимусь. Не беспокойся».
Так появилась графическая серия о Маяковском, вызванная к жизни ею. Она даже подобрала с пола и сохранила наброски, как некогда сохранила обрезки пленки от картины «Закованная фильмой». Несколько листов этой серии Шагал подарил ЛЮ, несколько листов – Государственному музею изобразительных искусств им. Пушкина в Москве.
Они виделись во Франции, когда ЛЮ туда приезжала. Шагал подарил ей и отцу свою огромную монографию, где от руки на фронтисписе сделал рисунок фломастером и дарственную надпись. ЛЮ при каждой возможности посылала ему «Мишки» – конфеты, которые Шагал очень любил. (Один раз я отвозил в отель «Москва» Симоне Синьоре для него посылку – кило «Мишек» и книгу фотографий Наппельбаума.) В ее архиве лежат открытки-репродукции его картин, которые он отправлял ей и Василию Абгаровичу по праздникам. И последнее письмо, датированное 12-8-1978:
«Дорогой Вася!
Как мне выразить нашу грусть и как мне передать все наши чувства о потере Лили. Вы знаете, как давно мы были с ней дружны. Мы помним Вас. Я и моя жена жмем сердечно Вашу руку.
Марк Шагал».
Из классики она отдавала предпочтение Федотову и Венецианову, а передвижники оставляли ее совершенно равнодушной. Насчет же современных русских мастеров… Пожалуй, больше всех были близки ей по своим устремлениям Наталья Гончарова и Михаил Ларионов. В России они не встречались, а подружились лишь в Париже в пятидесятые годы. Гончарова подарила ЛЮ несколько работ. «Моей дорогой подружке Лиле», – надписала она каталог своей последней выставки в Париже.
Одна из картин Гончаровой «Сфера» написана в 1959 году. Запуск спутника произвел на нее такое сильное впечатление, что художница сделала на эту тему несколько вещей. «Она ведь очень не молода, но как свежо чувствует, как современна!» – заметила ЛЮ.
ЛЮ рассказывала, как навестила Михаила Ларионова в его мастерской, пробираясь к постели больного художника по тропинке между гор бесчисленных полотен, картонов, рулонов и книг, книг… Они встретились так, будто были знакомы сто лет, много говорили о жизни, стихах, живописи, о том, как ему трудно и что он ничего не может найти среди этого, как он выразился, хлама… На прощание он все же нашел и подарил ей несколько рисунков, которые ЛЮ в Москве заботливо окантовала. И время от времени вешала то «Дягилева», то «Аполлинера», то профиль Маяковского в канотье, которого Ларионов нарисовал в 1922 году.
В 1956 году он писал:
«Дорогие Лиля и Вася (разрешите мне так вас называть мне так проще и я уже стар.) Очень рад был получить весточку, так же и Наташа – вы нам также очень понравились. <…> Я все время рылся в своих грудах хламу, но даже не нашел статей, которые написал Володя в первый свой приезд, но это было, как Вы говорите, напечатано. <…> О Володе, первой его поездке в Париж и перед поездкой в Америку я помню довольно много.
Сейчас у Наташи театральная работа, довольно спешная, для Монте-Карло, куда придется поехать на последние две недели января – очень жалко, что Вы с Васей уже не будете на юге. Я и Наташа шлем Вам пожелания самые наилучшие к Новому году и просим передать это же Арагонам, если они с Вами.
Обнимаем крепко и целуем
М. Ларионов и Н. Гончарова
23.12.956».
Рядом с ее креслом в столовой на Кутузовском висели две небольшие работы Давида Бурлюка. Про одну он говорил, что она навеяна Маяковским. ЛЮ любила ее, хотя считала, что «навеяна Маяковским» – это громко сказано. А про вторую он ничего не говорил, но ЛЮ решила, что вот она-то точно навеяна Есениным, и прочла из его «Исповеди хулигана»:
…Я нарочно аду нечесаным,
С головой, как керосиновая лампа на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потемках освещать.
Они с Бурлюком встретились после тридцати лет разлуки и не чаяли души друг в друге. В моем дневнике от 28 апреля 1956 года записано: «Сегодня приехал в Москву Давид Бурлюк. Ему 74 года. История его приезда такова: ЛЮ послала ему в Америку «Хронику» отца о Маяковском и свой адрес – после войны они потеряли друг друга. Он написал, что очень хочет побывать в России, но деньги у него есть на дорогу только в один конец. Тогда по инициативе ЛЮ его пригласили за счет Союза писателей. ЛЮ мне сказала: «Никакими тысячами нельзя отплатить Давиду за те полтинники, которые он давал нищему Володе, чтобы тот мог писать стихи, не голодая».
И вот они прилетели.
Бурлюк высокий, сгорбленный, почти лысый, один глаз вставной. Он очень симпатичный. Вошел и сказал: «Я Бурлюк, а вы кто?» Жена его похожа на рисунки в «Сатириконе»: высокая, старомодная, медлительная, с тоненьким голоском. У них абсолютно ясные головы, они помнят все на свете, говорят умно, говор украинский. Маруся живописец и музыкантша, она что-то напевала в уголке, а потом вдруг сказала: «Володя у нас был своим человеком. Я всегда собирала в баню троих – Давида, Володю и Хлебникова. Последнего с трудом. Потом долго пили чай из самовара. Это было на Бронной, я вчера видела этот дом. Он уцелел». А Давид Давидович сказал, что давал Маяковскому рубль в день, чтобы тот не голодал. «Как рубль? Володя писал, что полтинник». – «Нет. Он сам же подтвердил делом, что рубль. Во время приезда в Америку он дал Марусе серебряный рубль на память о тех рублях. Вот он у нее на одной цепочке с солдатским номерком сына».
Бурлюк с Марией Никифоровной каждый день приходили к ЛЮ, обедали у нее, подолгу разговаривали, листали книги. Бурлюк на каких-то счетах, листочках и бумажных салфетках оставлял стихи:
«ЗАЛ СТАРОСТИ»
Высыхает сердца озеро
И ручьи, что в озеро текут,
И душою мерзнут на морозе
Розы в час, когда цветут.
Это – сердца жизни истощенье,
Это – блеск, что вдруг увял,
Это – край, где царствуют лишенья,
Это – старости холодный, скушный зал.
Они ездили по городу, много раз были в Третьяковке, где этот ниспровергатель, «отец русского футуризма» замирал в восторге перед Крамским и Левитаном. А потом в столовой у ЛЮ он писал ее портрет на фоне пруда и красной лошади… «Он написал мой портрет, совершенно непохожий, но чудесный по живописи», – говорила она.
15 мая 1956 года ЛЮ мне писала: «…На дачу ехать еще холодно. Третьего дня были там с Бурлюками, покормили их обедом, позябли и пошли к Асеевым пить чай и греться. Увязался с нами и Михалков. Все три поэта и Мария Никифоровна читали стихи. Мария Синякова очень здорово нарисовала обоих Бурлюков».
ЛЮ была с Бурлюком в переписке в годы, когда писать эмигранту было опасно. Кипы подробнейших его писем хранятся в Литературном музее.
В январе 1941 г. Бурлюк просил ЛЮ похлопотать, чтобы всю их семью пустили обратно в СССР, они хотят быть «полезными своей Родине».
Нетрудно представить, чем бы кончилась вся эта затея, если б она увенчалась успехом. Но ЛЮ даже и не начала хлопотать – это было немыслимо со всех точек зрения.
Но вернемся к рассказу о художниках. Она ценила Михаила Кулакова, Краснопевцева, у нее были их работы. Однажды где-то увидела картины Зверева и сказала, что это замечательно. Глазунова один раз посмотрела, первую выставку в ЦДРИ, – и тут же перестала им интересоваться, хотя та, первая его выставка, была свежая и свернула со столбовой дороги социалистического реализма.
Художники, которых она ценила, были из числа гонимых формалистов, то есть тех, кого не выставляли, не признавали, кто жил трудно, но не сдавался. Всегда любила Давида Штеренберга, Натана Альтмана и особенно Александра Тышлера. Из всех мастеров она ценила этого художника более других. Любила в его работах весь этот сплав фантастики и реальности, его выдумку. Рисунок «Хорошее отношение к лошадям» переезжал с нею с квартиры на квартиру, и она мечтала, чтобы Маяковскому поставили бы такой памятник. Куда там!
Когда Тышлер бывал у нее, она подкладывала ему листы бумаги и за разговором он рисовал. А потом она эти рисунки окантовывала или дарила друзьям. Ее портрет, который он написал в 1946 году, – самый любимый ею. Из своих портретов она еще любила полотно Штеренберга, 35-го года. И, конечно, портрет работы Маяковского, про который она рассказала:
«Однажды мы играли в карты, это было в 1916 году, и прервались, чтобы поужинать. Я сидела и ждала, пока закипит самовар. Володя схватил какую-то картонку, которая лежала среди старых газет, и начал рисовать на обороте. Я не успела опомниться, как портрет был готов. Мне он показался удачным и я попросила его подписать. Вообще, в 15-м – 18-м годах вечерами, когда у нас собирался народ, он часто рисовал пером, карандашом или спичкой, обмакнутой в чернила. Портреты вручались оригиналам. В ту пору он был уже всероссийской знаменитостью и его подарками дорожили, их берегли. Где они теперь? В каких запасниках или частных собраниях покоится эта галерея его современников? Мне удалось разыскать несколько рисунков, в том числе портрет Хлебникова 1916 года и набросок В. А. Катаняна. Он сделан в 1929 году в редакции «Известий».
В 1938–1939 году Надежда Давидовна Штеренберг, жена художника, пришла в гости к своей знакомой. Квартира была коммунальная, и, проходя по коридору, она увидела в соседней комнате на стене картину явно кубистического духа. Какая-то женщина мыла пол и ничего не могла объяснить, хозяйки не было. Надежда Давыдовна подошла поближе, разглядела подпись и тут же позвонила ЛЮ, которая моментально примчалась и выяснила, что владелица картины, старушка, не прочь с нею расстаться за 200 рублей. Она дала ей 300 и стала владелицей автопортрета Маяковского! Он написал его в 1918 году. ЛЮ его помнила и тут же узнала. Картина затерялась где-то в хаосе революции, но все же нашлась. Поэт изобразил себя в правом углу в цилиндре и желтой полосатой кофте. Он нахмурился – на него валится город. Это как бы визуальное продолжение его ранних урбанистических стихов.
Поскольку от автопортрета веет кубизмом, то его конечно нигде не выставляли до последнего времени и увидеть его можно было лишь дома у ЛЮ. В 1983 году – еще до перестройки – Литературный музей взял его на юбилейную выставку в Политехнический и поместил как украшение экспозиции. Но комиссия МК КПСС, которая принимала выставку, ужаснулась и велела перевесить портрет высоко под потолок и снять этикетку – так, висит что-то цветное, ну и пусть себе висит. Никто на на него не обратил внимания – что и требовалось МК КПСС. А вот западногерманские немцы, еще раз напомнив нам, что нет пророка в своем отечестве, выставили этого пророка у себя, в самом центре выставки футуристов в самом центре Берлина. Центрее нельзя. Успех был огромный.
Для нашего официоза в этом автопортрете была та же крамола, что и в полотнах Малевича, Любовь Поповой или Пикассо, но для ЛЮ эти мастера были бесспорны. Картин Малевича у нее не было, но когда-то они были знакомы. Супрематизм как течение ей нравился умеренно и скорее в прикладном виде. Я помню у нее сервиз по рисунку Малевича, такие продавались в Мосторге. А работы Любовь Поповой она любила, у нее одно время висел в рамке клочок ситца по ее эскизу. Это была художница талантливая и в духе ЛЮ.







