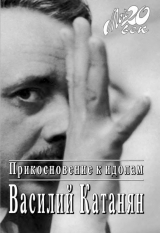
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц)
Столь разные люди
Курорты ЛЮ не любила, да и здоровье не позволяло злоупотреблять солнцем. Летом она всегда стремилась жить под Москвой. Своей дачи никогда не было, и в пятидесятых годах ее снимали на Николиной Горе. Жили напротив Михалкова и часто общались с Сергеем Владимировичем и Натальей Кончаловской. Сыновья были маленькие, и слава им только еще «венки плела».
Однажды я провожал ЛЮ к Книппер-Чеховой, которая пригласила ее на пятичасовый чай. ЛЮ принесла ей «Вишню в шоколаде», и мы чаевничали на балконе. Ольга Леонардовна была с перманентом, ухоженные руки. Одета она была в стеганую китайскую шелковую кофту.
Из разговора я запомнил, как Книппер-Чехова сказала, что МХАТ в теперешнем его виде изжил себя, что его нужно закрыть и в его помещении открыть другой театр, с другой программой и другими принципами. Нужны другие пьесы, другая режиссура, но актеров можно оставить. «Не всех, правда», заметила ЛЮ. Ольга Леонардовна засмеялась.
В другой раз на той же Николиной Горе, мы, гуляя, встретили Утесова, который приехал к кому-то в гости и прохаживался с хозяевами. С ним был его зять Альберт Гендельштейн. Оба они буквально бросились на ЛЮ, словно не видели ее сто лет, что, вероятно, так и было. Долго восклицали, а потом решили, что увяжутся за нею, а хозяева пойдут готовить ужин. «И повкуснее!» – крикнул им вслед Утесов.
Альберт говорил ЛЮ, как давно он ее любит, но Леонид Осипович заметил, что все же в два раза меньше, чем он, ибо Альберт в два раза моложе его:
– Я же увивался вокруг вас еще в Одессе в двадцатых годах. Помните?
– Не помню, ибо никогда не была в Одессе.
– Были! Были! Вы же приезжали туда с этим – как его? – у вас с ним был роман и останавливались вы в «Лондонской». Об этом говорил весь город!
– Да, действительно. И «Лондонскую» помню, и пляж, и как у вас сидели до утра, тоже вспомнила, а вот поклонника не помню.
Все засмеялись. Подошли к дому ЛЮ, и она пригласила всех зайти поесть ягод. За столом она сказала, что Кирсанов подарил ей пластинку с песней Утесова на слова Семы (так они звали Кирсанова) «Есть город, который я вижу во сне».
– Я прослушала ее три раза, так она мне понравилась.
– Спасибо. Но больше этот босяк ничего для меня не пишет, сколько я его ни прошу. А когда он только приехал в Москву, то все время торчал у меня – ведь мы одесситы, – его папа написал мне, чтобы я не дал сбиться с пути его чаду. Сын добропорядочного портного – и вдруг эта московская богема…
– Ну, он попал в хорошие руки, за ним смотрели и вы, и Маяковский.
– А что вы думаете? Конечно, ему повезло.
– Вы должны помнить, как Сема картавил, когда приехал в Москву, и его чудовищный акцент. Но все время рвался читать стихи на эстраде. Володя сказал ему, что он должен любой ценой избавиться от этих недостатков, ибо его пафос неумолимо превращается в гротеск. Я отвела его к моему дальнему родственнику, логопеду, который лечил от заикания и попросила его наладить Семину речь. И он стал давать ему уроки дикции.
– А вышло как в анекдоте с попом и евреем?
– Вовсе нет. Сема перестал картавить, акцент исчез и он стал выступать публично. Правда, читал он похоже на Есенина…
Он поэт талантливый, а некоторые его стихи я считаю блестящими. Его жену Клаву вы помните?
– Смутно.
– Я-то ее помню хорошо. Она была из деревни, но очень быстро цивилизовалась, заразилась Семиным снобизмом, была умница, симпатичная, очень хорошенькая и даже элегантная. Страстно хотела ребенка и умерла от родов. А Вова, их сын, вырос толковым парнем, занимается наукой.
Уходя, Утесов и Гендельштейн прощались с Лилей Юрьевной так, будто они опять не увидятся в ближайшие сто лет.
Что, в сущности, и произошло.
Последние годы ЛЮ жила на даче в Переделкино, в писательском поселке. Но людей из города не останавливало расстояние, и поток желающих повидаться с нею не иссякал.
Вообще, человек, которого она привечала и одаривала своим вниманием, хотел увидеть ее еще, хотел понравиться ей, рассказать что-то интересное, чем-то поразить. Она умела располагать к себе, улыбаясь, и делала это не специально, это всегда было в ее натуре.
Не последнюю роль в ее притягательстве играло хлебосольство. Нарядно накрытый стол, вкусное угощение – подавалось все, что было в доме, даже в трудные карточные времена. Пришедшего (если он не был специально приглашен) она всегда спрашивала, не голоден ли? И, если была заминка, тут же ставили чайник и делали глазунью. Она очень любила угощать и помнила, годами помнила, кто любит докторскую колбасу, а кто цветную капусту, одному клала укроп в суп, а другому нет, ибо не любит… И люди ценили такое внимание и, я видел, подражали ее поведению.
ЛЮ до последних дней старалась двигаться, гулять, и в Переделкине к этому были все возможности – хорошая тенистая дорога, мимо дачи Пастернака, дальше, мимо Андроникова к дому Чуковского и обратно. Когда здоровье не позволяло, то шли до «Башни Тамары» – так называлась в честь Тамары Владимировны Ивановой трансформаторная будка. Прогулки были с отцом, всех приезжих тоже выводили пройтись, часто с нею ходил и я, с женой Инной.
Когда в 1968 году вышел двухтомник Мейерхольда, я привез его на дачу. ЛЮ взволновали эти книги, она их внимательно прочла и через несколько дней во время прогулки заговорила о Мейерхольде. В моем дневнике сохранилась запись:
«Впервые мы встретились с ним на репетиции «Мистерии-буфф». В 1918 году в Петрограде. Он, как известно, ставил, а меня наняли учить актеров читать хором стихи. Артисты были набраны откуда попало, многие из императорской Александринки. Они не понимали новых стихов, были настроены антисоветски и саботировали постановку, подпиливая сук, на котором сидели. Мейерхольд выбивался из сил, репетируя с разношерстной труппой, а Маяковский злился, кричал и отчаивался.
Для работы дали помещение музыкальной драмы или консерватории, не помню. Помню, что много было роялей и я сидела, зажатая двумя арфами, струны которых напоминали мне прутья клетки. Отчаявшись добиться толку от хихикающих артистов, я вылезла из клетки и пошла жаловаться Всеволоду Эмильевичу. Он вспылил и побежал в залу, где мы репетировали, с каким-то посохом в руках. Он был похож на Ивана Грозного, который вот-вот убьет своего сына. От одного его вида все притихли и перепугались, я в первую очередь. Помогло. Потом мы сидели в буфете, пили, наверно, морковный чай, другого тогда не было, и я восхитилась, как он быстро всех укротил. Он же, усмехнувшись, ответил, что у него большой опыт, приобретенный на репетициях с Идой Рубинштейн… «Ну и ну», подумала я.
Потом мы дружили домами, ведь он ставил «Клопа» и «Баню». Он обожал Владимира Владимировича, как и тот Мейерхольда. На мой взгляд, это немного мешало делу, так как Всеволод Эмильевич беспрекословно принимал все, что предлагал Володя, а тот подчас предлагал не все одинаково хорошо, и ломать, исправлять недостатки, которые обнажала сцена, было иногда трудно и поздно. Такие же промахи бывали и у Мейерхольда, но Маяковский из-за своей влюбленности в него их не замечал.
Мейерхольд с Зинаидой Николаевной приехали в Гендриков на юбилей Маяковского с целым сундуком костюмов и париков. Все переодевались, многие стали неузнаваемы, и это в какой-то степени скрасило вечер, который был для юбилея не очень веселым. Но об этом много написано.
В тридцатых годах я бывала на всех премьерах в его театре и очень любила «Пиковую даму», которую он поставил в Малом оперном в Ленинграде. Я не пропускала ни одного спектакля, когда мы жили там с Примаковым в 1935 году. Это был первый оперный спектакль, где чувствовалась режиссура и было решение. Я всегда вспоминаю Эйзенштейна, который лет через пять ставил в Большом «Валькирию». Он мучился с певцами, привыкшими петь, уставившись на дирижера, и не могли выполнить ни одного указания Сергея Михайловича. Он с ними бился-бился, пока Небольсин ему не сказал: «Да какие мизансцены? Не старайтесь. Разведите их по сцене, чтобы они не натыкались друг на друга, – и дело с концом!» Так было испокон веку, но Мейерхольд именно поставил оперу, а не перепоставил. Да иначе и быть не могло. Он заказал новое либретто, вернулся к Пушкину… Сцена в казарме, когда Германн сходит с ума, была сделана гениально, у меня до сих пор при воспоминании – мороз по коже. Свеча отбрасывала огромную его тень, и он принимал ее за призрак графини. Никакого белого савана с чепцом в оборках, которого все жаждали. Какие-то вещи врезались в память, хотя – сколько лет прошло! Например, в игорном доме среди понтирующих незаметно возникала графиня в желтом платье, и именно она, а не Елецкий, восклицала «Ваша дама бита» и откидывалась назад так же, как в спальне под дулом пистолета Германна. Кстати, графиня в спектакле не была Бабой-Ягой, как обычно, – она одевалась, как молодая…
С Зинаидой Николаевной мы были в хороших отношениях. Правда, она меня почему-то немного стеснялась. Я знала ее еще до Мейерхольда, когда она жила с Есениным. У нее была запоминающаяся красота. Но мы тогда не общались, просто были знакомы. При Всеволоде Эмильевиче – другое дело. Мы бывали у них, они у нас, раз мы ездили к ним на дачу. У них всегда вкусно кормили и очень изысканная была сервировка.
Когда приближалось шестидесятилетие Мейерхольда, я спросила Зинаиду Николаевну, какой подарок мог бы его порадовать? «Любой предмет, к которому прикасался Маяковский», – ответила она. Я подарила ему Володин портсигар, и он был очень тронут. Он им пользовался, и я видела его у него в руках несколько раз.
Я помню Райх в «Даме с камелиями». Это был первый спектакль, по-моему, когда актеры не орали, а говорили нормальными голосами. Зинаида Николаевна была очень эффектна и декоративна. У нее в это время был роман с Царевым, и все любовные сцены они играли вполне убедительно. Когда она выходила, не смотрели ни на кого. Это была заслуга ювелира Мейерхольда – он ставил ей каждый взмах ресниц, учил с голоса каждой интонации, он заставлял актеров не дышать, чтобы все слышали шуршанье ее трена.
За всю жизнь я один раз потеряла сознанье – когда узнала об ее ужасном убийстве».
Итак, 60–70-е годы в Переделкине… Дачка там была небольшая – треть дома, где жила семья писателя Вс. Иванова, – однако очень обжитая, обставленная случайной мебелью, но со вкусом и удобно. В центре стоял огромный стол, за которым вечно сидели друзья или люди, приехавшие по делу.
Да, этот постоянный людской поток отнимал у нее много времени и, порой, здоровья, но в одиночестве она грустнела, скучнела и рука ее невольно тянулась к телефону…
Листая телефонные книги ЛЮ, не перестаешь поражаться количеству людей, с которыми она общалась, людей разных эпох и возрастов. На моем веку они приходили и уходили, а ЛЮ оставалась.
…А. Родченко, С. Эйзенштейн, Вс. Мейерхольд, В. Качалов, Ната Вачнадзе, Е. С. Булгакова, Фаина Раневская, А. Фадеев, М. Кольцов, Я. Агранов, Е. Гельцер, А. Алиханян, Дм. Шостакович…
Продолжать? Л. Орлова и Г. Александров, Гр. Козинцев, Маргарита Алигер, Рина Зеленая, И. Зильберштейн…
Человеческие отношения не вечны – люди раззнакомливаются, уезжают, исчезают, умирают или забывают друг о друге, теряют интерес, перестают звонить… Но на смену одним приходят другие, появляются новые фамилии, вписанные свежими чернилами: Ю. Любимов, М. Таривердиев, Татьяна Самойлова, Андрей Миронов, С. Ростропович…
В конце сороковых в записной книжке ЛЮ появился ленинградский номер телефона Николая Константиновича Черкасова. Знакомство сразу стало дружбой, которая продолжалась до самой его смерти. Он был приглашен на роль Маяковского в фильме «Они знали Маяковского» по сценарию Василия Абгаровича, который должны были ставить Зархи и Хейфиц на «Ленфильме». Затея эта не состоялась, хотя сценарий был написан и принят к постановке, – то ли потому, что режиссеров заставили делать какой-то фильм о борьбе за мир, то ли из-за того, что Зархи и Хейфиц распались, то ли из-за того и другого вместе. Центром, вокруг которого все вращалось, была ЛЮ. Она со всеми разговаривала, давала советы, сводила людей, звонила в Ленинград – все шло через нее.
Черкасов был очень увлечен этой затеей, он полюбил и ЛЮ и Василия Абгаровича, ежедневно общался с ними, каждый день звонил из Ленинграда. Пока суть да дело, он начал читать по радио «Рассказы о Маяковском», у отца в 1940 году вышла такая книга. Когда затея с фильмом не состоялась, то Василий Абгарович сделал из сценария пьесу «Они знали Маяковского» и ее поставили на сцене Академического театра им. Пушкина в Ленинграде, в 1953 году. В заглавной роли – Николай Черкасов.
ЛЮ была душой этой затеи, принимала участие в выборе режиссера. Кого-то отмели и взяли Николая Петрова. Она надоумила пригласить Тышлера и посоветовала взять композитора Щедрина, тогда еще студента. Его музыку они где-то с Василием Абгаровичем уже слышали, и это решило дело. Она много разговаривала с Черкасовым, рассказывала ему о Маяковском, о его характере, повадках. При мне как-то сказала: «Володя никогда громко не хохотал, он смеялся». Говорила, что Маяковский был элегантен, смотрела материи, которые хотели купить на пиджак для спектакля, все забраковала и дала собственный отрез из твида: «Нельзя, чтобы Володя выглядел пугалом».
Во время репетиций ЛЮ и Василий Абгарович жили в Ленинграде. Театр снял им апартаменты в «Европейской», зима была суровая, и в отеле было холодно. «Я, наверно, замерзну под какой-нибудь из ваз, которыми утыкан номер», – писала мне ЛЮ.
ЛЮ пригласила меня на премьеру 6.XI.53. Я ехал в одном купе с Щедриным, где с ним и познакомился. Премьера прошла с большим успехом, спектакль играли долго, он был снят на ТВ.
Банкет устроили в «Европейской». В центре стола сидели ЛЮ и Черкасов, потом все остальные. Главной была Лиля Юрьевна. Почти все тосты были в ее честь.
Черкасов был блестящий рассказчик, ЛЮ любила его истории, которые он представлял, любила с ним беседовать, вообще его общество. «Ему все время дают не те роли. Он не должен скакать на коне из картины в картину и размахивать мечом. Его амплуа – герой-неврастеник, человек тонкий, ранимый. Он мог бы блестяще играть Ибсена, Чехова, в современных западных пьесах»… Я всегда вспоминал ее слова, когда видел его царевича Алексея или генерала Хлудова в «Беге», которого он играл потрясающе.
Когда Черкасов приезжал в Москву, ЛЮ всегда звала его с женой обедать и ужинать. Он буквально объедался горчицей, которую ЛЮ собственноручно готовила в его честь. Накануне его приезда она начинала в большой миске растирать горчицу с медом и оливковым маслом – гигантскую порцию. Что оставалось, давали ему в банке с собой в Ленинград.
151-72-87 – Симоновы.
С Константином Михайловичем у Лили Брик на протяжении тридцати с лишним лет отношения были полярно контрастные. Как молодого поэта она его не ценила, ей, видимо, не импонировала его громкая литературная любовь к Валентине Серовой, и, наверно, где-то подсознательно она ревновала к тому, что вот снова поэт и муза, повсюду о ней его стихи… Вроде бы история повторяется, много шума и славы вокруг, но не вокруг нее. И сами стихи – по стилю, образности, поэтике – были не ее вкуса. Ей нравилась в то время другая поэзия – Кульчицкий, Кирсанов, Глазков, Слуцкий…
Домами они не встречались, виделись то у Кирсанова, то на банкетах по поводу Арагона и Эльзы или на литературных вечерах… Однажды она сказала мне, году в пятидесятом:
– Как я могла так неосторожно отозваться о его стихах, когда он был на вершине писательской власти!
– Как именно?
– Когда меня на банкете в «Арагви» посадили с ним рядом, я ему негромко сказала: «Зачем вы печатаете эти стихи? Неужели, мол, считаете их хорошими?» Что-то в этом роде. Это было очень неосторожно, интуиция мне изменила. И мы нажили в его лице опасного врага.
Константин Михайлович в те годы занимал руководящие литературные посты – в Союзе писателей, в «Литературке», в «Новом мире». Он никогда не вел антимаяковской политики, но поскольку был фигурой сложной, то занимал позицию официозную (Маяковский – поэт революции!), и эта позиция не устраивала ЛЮ и Василия Абгаровича. Отношения были натянуто-неприязненные.
Но в конце пятидесятых они словно бы познакомились заново, словно впервые увидели друг друга. Изменилось время, изменились в какой-то степени они и их взгляды. Симонов ушел от Серовой, и Лариса Жадова была симпатична Лиле Юрьевне. Она говорила, что Лариса сильно повлияла на Симонова, сделала его мягче, человечнее, «левее». Что после «ссылки» в Узбекистан он сильно изменился в лучшую сторону. С Триоле он в это время работал над сценарием фильма «Нормандия – Неман». Но не только это явилось причиной сближения. Когда они лучше узнали друг друга, они подружились домами. И последние лет двадцать это была самая настоящая дружба – верная и искренняя. Им было интересно общаться, переписываться, разговаривать – о войне, о Франции, о жизни, об искусстве, о Маяковском… ЛЮ рассказывала о нем вещи очень личные, которые Симонов не мог узнать ни от кого, кроме как от нее. Много говорила о Брике – таком, каким она его считала. Она снимала хрестоматийный глянец с личности Маяковского, рассказывала много интересного о друзьях и врагах поэта, об Арагоне и Эльзе – «со своей колокольни». («Зачем же мне спускаться со своей и залезать на чужую?» – сказала она мне однажды.)
Летом 1978 года в разговоре с Константином Михайловичем я сказал, что вот, мол, какие две потери для вас в один год – смерть Романа Кармена и Лили Юрьевны. (С Карменом он дружил и много работал.) Симонов, помолчав, ответил: «Нет. Кармен, конечно, это тяжело. Но уход Лили Юрьевны потеря для меня незаменимая. Она была самым большим моим другом».
И я уверен, что развеять свой прах он решил под влиянием завещания ЛЮ. Вскоре после ее похорон он слег в больницу и, безнадежно больной, звонил моему отцу и расспрашивал, как это было, кто выполнил ее волю. Потом долго молчал. Вскоре его не стало…
Много сделал Симонов, освобождая живую фигуру Маяковского от бронзы многопудья, а ЛЮ от наветов. Он писал о поэте – как поэт. После него я видел такое благородное отношение к Маяковскому только у Евгения Евтушенко.
Французские встречи
В какой-то вздорной статье последних лет, полной небылиц, я прочел, что Франция была «второй родиной» ЛЮ и она ездила туда, когда вздумается. Чепуха! Ездила она к сестре лишь тогда, когда советская власть ее выпускала, а не когда ей хотелось повидаться с родными. Более тридцати лет ЛЮ не выезжала во Францию, а была у сестры несколько раз лишь после 1955 года, когда приподняли железный занавес.
Останавливались они с отцом в квартире Эльзы, пока она была жива, а летом жили на ее даче под Парижем, на знаменитой «Мельнице».
С общительным характером Лили Юрьевны у нее образовался там круг друзей, с которыми она встречалась потом и в Москве, и переписывалась с ними. Рассказать обо всех – места не хватит, назову лишь нескольких…
Году в 58-м Эльза прислала сестре пластинку – «Человеческий голос» Жана Кокто на музыку Пуленка. Опера настолько понравилась ЛЮ, что она перевела текст. И раздала нам экземпляры, чтобы мы, не понимающие французского, могли бы слушать не только музыку, но и понимать смысл. Это была история покинутой женщины, которая пытается удержать любовника, разговаривая с ним по телефону. В драме эту роль играла Мария Казарес, в кино снялась Анна Маньяни, а в опере пела Дениз Дюваль. У нас в Большом поставили эту одноактную оперу, дирижировал Ростропович, а пела Вишневская. Она была, как всегда, злая, неулыбчатая, и казалось естественным, что ее таки бросили. «Человеческий голос» меня вообще заинтересовал, и я заговорил с ЛЮ о Кокто, которого в те пятидесятые у нас совершенно не знали – как будто его и не было. ЛЮ рассказала о нем и, в частности, вспомнила:
«В прошлом году в Париже мы сидели в «Куполь», ужинали. Вошел Кокто с двумя дамами и сразу обратил на себя внимание, хотя был тщедушен и некрасив – темносиняя пелерина на меху с золотой цепью-застежкой, белые лайковые перчатки. Небрежно скинув все прямо на ковер (лакей замешкался), он оказался в пиджаке с подвернутыми рукавами – это он ввел их в моду. Атласная подкладка была ярко-красной, очень эффектно и красиво. Увидев Эльзу и Арагона, он подошел к столику, познакомился со мною и Василием Абгаровичем, мы перекинулись парой слов, и он ушел к своим дамам. Они сидели недолго, а когда мы спросили счет, метрдотель ответил: «Заплачено. Мсье Кокто угощает». Арагон с некоторой долей досады воскликнул: «Эти вечные его штучки!», а я удивилась и нашла «эти штучки» очень любезными. О чем и сказала Кокто, когда он на другой день позвонил. В ответ он разразился монологом, в результате чего мы были приглашены к нему смотреть скульптуры одного молодого гения. Скульптуры оказались чепуховые, сплошь подражательные, а молодой гений – симпатичный неуч. Но сам Жан – умница и сноб снобович, веселый, утонченный, любезный. Варил кофе, а гениального скульптора погнал в лавку за печеньем. Говорили о чьей-то постановке «Кориолана» с декорациями Кокто, он показывал наброски, очень красивые. Особенно костюмы, эскизы которых были коллажированы золотой парчой и засушенными цветами.
Когда мы уходили, то уже в дверях столкнулись с Монтаном и Синьоре. Нас познакомили, и, узнав, что мы недавно из Москвы, они захотели с нами поговорить, но мы торопились и уговорились созвониться. Я знала, в чем дело».
И ЛЮ рассказала то, о чем молчали наши газеты.
«Жорж Сориа должен был их везти в СССР с концертами в начале ноября 1956 года, когда наши танки вошли в Будапешт. Монтаны, как вся левая интеллигенция, настроенная прокоммунистически, были в сильном шоке, рвали и метали. Они были резко настроены против этой нашей акции. Французские газеты писали, что, если они поедут к нам на гастроли, значит, они одобряют политику СССР, и называли их предателями. Не поехать они не могли, у них не было денег заплатить Госконцерту огромную неустойку. Француз-продюсер грозил в случае поездки не подписывать контракт с ними на какой-то фильм. Обстановка была сложная, в это время Москва отменила все зарубежные гастроли наших артистов, так как за рубежом им устраивали обструкцию. На прием 7 ноября в наше посольство в Париже в знак протеста почти никто не пришел. Арагон и Эльза были подавлены и мрачны, они тоже осуждали нашу политику, но в печати пока не выступали, это будет позднее. Симона просила Арагона поговорить с послом Виноградовым, объяснить их положение и сделать все возможное, чтобы русские под любым предлогом отменили контракт. Тогда Монтан не будет платить неустойку, не поедет в Москву и не будет выглядеть предателем. Но у Арагона отношения с Виноградовым из-за той же Венгрии уже были на грани разрыва, он не мог его ни о чем просить, зная, что посол на это не пойдет. Я видела, что у Симоны буквально кровь отлила от щек. Она чуть не плакала, она так надеялась на Арагона.
Мне хотелось ее утешить, я позвонила ей на другой день, и она пригласила меня к себе.
Что я там выслушала! «Если б мы знали, что СССР такая страшная держава, то ни за что не согласились бы на гастроли» – это было самое безобидное. Я просто не знала, куда девать глаза, хотя – сам понимаешь – была не при чем. Они подписали протест деятелей французской культуры против нашего вмешательства и теперь опасались, что наша публика устроит им обструкцию и освищет Монтана. Я им сказала – чем, мол, виновата наша публика? Вечно нас за что-то наказывают – то лишают Шаляпина, то Рахманинова. «Вы хотите, чтобы теперь мы и вас не услышали?» Просила их не путать публику с вождями, что их очень ждут, что Монтана знают по записям Образцова, что Синьоре любят за ее фильмы, что их будут носить на руках и успех будет огромный. Словом – старалась. Да так оно и вышло.
– Выходит, это вы уговорили их приехать?
– Я, не я, но они немного успокоились. Думаю, что кое-что им, стало яснее после нашего разговора. В Москве она пригласила нас на концерт, и на следующий день Монтан прислал мне целую… копну цветов, другого слова не подберу. Наверно, большую половину того, что ему накидали на сцену.
Мне он крайне понравился. И симпатичный. И она очень талантливая. Умная».
Когда ЛЮ после войны прилетела в Париж, Фернан Леже познакомил ее со своей новой женой. Она увидела огромную женщину с улыбающимся круглым лицом. Надя Леже-Ходасевич по происхождению была белоруска, из села Замбино. Молодой девчонкой, почувствовав тягу к рисованию, она бежала в Польшу, а оттуда в Париж – учиться живописи. Добралась до Леже, стала его ученицей, а со временем ассистировала ему. Я видел фото, где в классе среди учеников сидит Сутин, а Надя что-то подправляет на его холсте…
Она вышла замуж за ученика Леже, Жоржа Бокье, потом стала любовницей Фернана и, когда Леже овдовел, вышла за него замуж. После смерти Леже Надя (унаследовав его миллионы и картины) вернулась к Бокье, и они стали жить-поживать, Леже прославлять. Построили музей, возили выставки по всему миру, снимали фильмы, издавали монографии и репродукции.
Так вот, познакомившись в Париже в 1957 году с Надей, ЛЮ очень к ней расположилась, а Надя так просто была ею очарована. Они подолгу разговаривали, ездили по Парижу и окрестностям, Надя присылала целые корзины снеди – черешни из своего сада, вино, окорока, сыры… Каждый день говорили по телефону. Эльза и Арагон тоже дружили с четой Леже, хотя Арагон больше с Фернаном.
Вернувшись, ЛЮ наладила отношения Нади с ее родственниками в Замбине. Родня – простые труженики – слыхом не слыхали о левой живописи, о Леже или Пикассо и боялись одного имени Нади, из-за которой репрессировали родных. ЛЮ с трудом втолковала им, что Сталин умер, что времена несколько изменились, Надя знаменита и бесконечно богата, что она жаждет всех видеть, приехать в родное задрипанное Замбино и выписать их всех в Париж, благо никто из них никогда дальше Минска не выезжал. Поначалу же Надя решила одарить их всех с ног до головы: «Она велела спросить, о чем вы мечтаете, требуйте всего – вплоть до кадиллака!»
Родственники уехали в Замбино держать совет и в одно прекрасное утро, явившись без предупреждения ни свет ни заря, они попросили передать Наде, что в виде примирения они готовы принять от нее охотничье ружье и воротник из чернобурки сестре на пальто.
ЛЮ «подружила» Надю с Черкасовыми, Симоновыми, Плисецкой и Щедриным, Юткевичем и Ильющенко, со своими приятелями. И все очень весело клубились в двух странах, приглашали друг друга в гости, присылали подарки, платья, книги и картины. Вместе ходили в театры – не пропускали спектаклей с Плисецкой и концертов с Щедриным, летали на кинофестивали в Москву и в Канны… Когда закончилось строительство музея Леже в Биоте, Надя пригласила ЛЮ с отцом на вернисаж. Словом – все на широкую ногу.
Их вкусы в живописи, в литературе и искусстве абсолютно совпадали. Но Надя была партийным ортодоксом и от всего решительно, что творилось у нас, приходила в восторг. Ее не охладила даже репрессия родных, а доклад Хрущева возмутил и ни в чем не убедил. Она так и осталась оголтелой коммунисткой худшего образца.
С годами все три семьи – Леже-Бокье, Брик-Катанян, Арагон-Триоле – изменились, время и возраст сыграли свою роль, все стали нетерпимее, резче, чаще стали раздражаться, отношения с Надей стали холоднее. Невыносимо было слышать от нее вечные панегирики Сталину и коммунизму, оправдание наших безобразий и беззаконий, ее нетерпимость ко всему заграничному, несмотря на миллионы в банках, виллы, лимузины и открытый счет у «Ланвен». Разговоры и споры стали принимать характер скандала. Отношения обострились до предела. Другие Надины друзья, зная о ее взглядах, пропускали все мимо ушей. Слишком велик был соблазн «сладкой жизни», которую Надя оплачивала знаменитым (при ее тщеславии) и нужным ей людям. Вообще же она была человеком широким и щедрым, а художницей небесталанной.
В один прекрасный вечер Надя и Фурцева пришли в Большой театр на «Дон Кихот» с Плисецкой. Сидя в первом ряду, Надя в своей громкой и безаппеляционной манере возмущенно говорила Фурцевой, что «Арагонам и Брик нельзя доверять, что они отпетые антисоветчики и относиться к ним надо соответственно». Все это слышали окружающие – Надя и не считала нужным понижать голос. А в то время прослыть антисоветчиком нашим гражданам не сулило ничего хорошего.
Этого было достаточно, чтобы ЛЮ, Василий Абгарович, Эльза и Арагон прервали с Надей всякие отношения. Умерли они в глубокой вражде с нею.
Вернувшись в октябре 1975 года из Франции, куда она летала на две недели, ЛЮ смеясь сказала нам: «Вы не поверите, но у меня в Париже был настоящий роман, трудно даже представить!»
Лиля Юрьевна и Василий Абгарович были приглашены туда на выставку Маяковского. Они консультировали экспозицию, давали интервью, снимались на ТВ и встречались со студентами.
Молодой литератор Франсуа-Мари Банье взял у нее интервью для газеты «Монд». Она долго с ним говорила, получился целый подвал – про Маяковского, про его женщин, какой он был игрок и как любил красное вино, и про антисемитизм, и про железный занавес – словом, что хотела, то и сказала. Правда, попросила, чтобы ей показали корректуру, но сделано это не было, и, увидев статью напечатанной, она взволновалась. Но все обошлось – культур-атташе советского посольства сказал: «Что можно ждать от этой продажной газеты?» «Конечно», – согласилась ЛЮ.
Так вот, «герой романа» – этот самый интервьюер, юноша «с лицом ангела и сердцем поэта», о котором мечтала мадам Бовари. Нежное лицо, белокурые локоны, стройная фигура. Он пишет романы и пьесы, их издают и ставят. Он дарит ЛЮ свои книги с нежными надписями, присылает цветы, звонит каждый час и приходит ежедневно. Они беседуют, ездят в Булонский лес, на бульвары, в бутик Сен-Лорана, сидят в кафе и снова долго беседуют… Ему 29 лет, ей – 84.
«У него есть друг, декоратор – красавец Жак Гранж. Мы с ним тоже подружились, – рассказывает ЛЮ. – Это компания молодых интеллектуалов, они водятся с прелестным актером Паскалем Грегори, он много снимается и играет в театре. С ними дружит Ив Сен-Лоран и глава его фирмы Пьер Берже, миллионер, он самый главный в этой империи «Ив Сен-Лоран». Они в нас души не чают, и я не понимаю – отчего? Но все это очень приятно.
Это не ореол Маяковского, они понятия о нем не имеют. Где он – где они… Франсуа-Мари – это золотая молодежь, прожигатель жизни, его имя все время в светской хронике, он щеголь… Арагон сказал, что они видят во мне советскую женщину, которая всю жизнь была лишена роскоши и поэтому осыпают меня подарками. Меня это ничуть не убедило, разве я похожа на такую женщину?»







