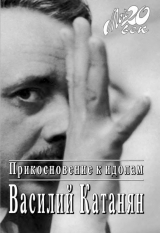
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 36 страниц)
Шляпа для пуделя
В начале восьмидесятых годов он увлекся шляпами. Самыми настоящими – огромными, цветастыми, которые пришли ему в голову из начала века. Впервые я увидел их на его выставке, у стенда «В память несыгранных ролей Наты Вачнадзе». Это было буйство цветов, кружев и птиц вокруг портрета кинозвезды с жемчужной слезой, которую Сережа исторг из ее глаз при помощи старой серьги. Это были шляпы, сочиненные непонятно для каких ролей, но ясно, что для несыгранных. Посетительницы азартно хватали шляпы, надевали их, преображались, фотографировались и, вздыхая, клали на место. После выставки шляпы переехали в его берлогу и образовали живописную клумбу рядом с огромной свалкой на кухонном столе. В своем короткометражном фильме о Пиросмани он снял эти шляпы и так и эдак – не менее любовно и изысканно, чем картины художника. «Пиросмани мешает мне, а я ему», – сокрушался Сережа. В данном случае это было верно.
Он брал соломенную шляпу с полями (иной раз притащив со свалки), обтягивал тюлем, кружевами, еще чем-то неведомым или просто красил тушью. Затем украшал ее цветами, перьями, птицами, блестками, обломками веера или обрывками перчаток, бахромой от занавески, лоскутком рыболовной сети, осколками елочных украшений и пуговицами. Все галантерейное барахло, которое валялось по углам комодов у старых кекелок, начинало сверкать и поражать в его волшебных пальцах, коротких и толстых. «Узнай у Аллы Демидовой, какая ей нужна шляпа, вернее, какого цвета у нее платье в «Вишневом саде», – я ей пришлю для спектакля». Алла Сергеевна ответила, что платье белое и она полностью доверяет его вкусу. И что ему шлют приветы Чурикова, Смоктуновский и я, которые в это время сидели у нее.
Вскоре получаю известие, что шляпы для Демидовой готовы, а для Чуриковой сооружаются, хотя никто его об этом не просил. Но уж такой он. (Нам же со Смоктуновским, видимо, предстояло ходить с непокрытыми головами.)
А через несколько дней, поздно ночью, в проливной дождь звонит из отеля «Украина» молодой дьякон Георгий. Он привез посылку, просит ее забрать и принести ему переодеться во что-нибудь сухое: он только что прилетел из Тбилиси, попал под ливень и промок насквозь. Елки-палки! Второй час ночи, мне завтра вставать в шесть, лететь в Будапешт, но я хватаю какую-то одежду, зонт и иду за шляпами, благо отель напротив. В вестибюле меня встречает отец Георгий, одетый, как модный рокер: ничего «святого». И ничего сухого. Но то, что у него в руках, описать невозможно. Запоздалые постояльцы и швейцар с милиционером разглядывают красочное, маскарадное нечто, более подобающее ассистенту Кио, чем священнослужителю. Это две настоящие шляпные картонки, в которых дамы возили головные уборы, а посыльные доставляли их от модисток. Они перевиты лентами, кружевами, тесьмой, украшены цветами и еще чем-то неведомым. На одной крышке из белых перьев сделана чайка, бока картонок обклеены старыми открытками, фотографиями Плисецкой в ролях и Крупской, слушающей граммофон. Дно коробки украшено изображением рыбы, выложенной – черт-те что! – из дамских полукруглых гребенок, и называется «Воспоминание о черной икре». Все, вместе взятое, – произведение искусства, помноженное на неуемную выдумку.
Алла Демидова: «В посылке была черная шляпа для Раневской, украшенная черными же и темно-зелеными с серебром розами. Тулья из черных перьев. Потом, когда Параджанов жаловался на исколотые от шитья пальцы, он сказал: «Обратите внимание, Алла, это тулья от шляпы моей мамы». На что Катанян невозмутимо заметил: «Не ври, никакой не мамы. Где-нибудь подобрал на помойке». Сережа не спорил. Когда я показала шляпы и шарфы Эфросу, он мне не разрешил в них играть. Он сказал, что это китч. Я не согласна, что это китч. Китч – всегда несоответствие. Хотя, если вдуматься, шляпы Параджанова действительно не соответствовали спектаклю Эфроса, очень легкому и прозрачному. Эти шляпы утяжелили бы рисунок спектакля. Но сами по себе они – произведения искусства. Сегодня они висят у меня на стене рядом с любимыми картинами».
Зимой 1985 года, узнав, что нас с женой пригласили выступить в тбилисском Доме кино, Сережа страшно загорелся и возбудился. Как в результате прошел этот вечер, я описал в письме Эльдару Рязанову и привожу его лишь потому, что оно имеет прямое отношение к Сереже.
«Дорогой Эльдар! Мы улетели, не позвонив, ибо сначала все было неизвестно с билетами, а потом все сломя голову. Мы уже четвертый день в Тбилиси, вчера прошло наше выступление в Доме кино, и было так: поскольку всю организацию поручили Сереже, то мы, естественно, никак не могли его найти и узнать, что же нам делать? Наконец, вечером пришел его любимый ассистент Шурик Атанесян и сказал, что Сережа очень занят: он шьет шляпу для собаки, которая будет участвовать в нашем вечере… Он весь день провел на студии, где выбрал из шестидесяти приведенных собак одного пуделя. Я похолодел. Пудель в шляпе? Что он надумал? В полном недоумении отправились мь! утром на репетицию, как велел Сережа. Там был полный раскардаш. В первом ряду сидел и дрожал от недоумения и холода коричневый пуделек, завернутый в чью-то черно-бурую лису. По сцене неторопливо ходили высокие черноглазые красавицы в вечерних платьях и Сережиных шляпах, обходя стороной стол для президиума, на котором стояли бутылки с боржоми без открывалок. Принесли неудобные кресла, от которых сразу повеяло тоской. Увидев убранство, Сережа не своим голосом начал кричать на дирекцию: «Надо устроить революцию в вашем тухлом Доме кино! Так дальше невозможно! Сделали же революцию в 17-м году – и сколько радости!» На это никто не возразил, и руководство тихо растаяло. Вечером на сцене – стараниями Сережи – стоял гарнитур стиля рококо, обитый золотой парчой, и декадентские вазы (окрещенные Ильфом и Петровым «берцовая кость»), а в них цветы, ветки и перья. Красиво и необычно. Затем Параджанов выпустил актера во фраке и с кружевным жабо, который рассказал, какой я замечательный и необыкновенный, и которого мы выслушали с большим недоумением… Закончил он словами: «А теперь полистаем семейный альбом». Тут прибежали два мальчика-близнеца в канотье и накидках от телевизора, которые Сережа трактовал, как матросские воротнички. За ними чинно шла гувернантка в немыслимой Сережиной шляпе. Близнецы сели за рояль, гувернантка дала знак, они заиграли гаммы и польки, выступая в роли таперов. На экране появился дом, где я родился, папа и мама, я в младенчестве, затем школьником – и пошло! Сережка каким-то образом все собрал, снял и смонтировал. Когда же я рассказывал о его выставке, то в зал вошли несколько дам в Сережиных шляпах, поднялись на сцену и уселись в креслах, приняв томные позы. Для меня это было полным сюрпризом, как и для Инны: когда она говорила о новинках японского кино, на сцену внесли большой букет в стиле икебана, который назывался «В честь Тосиро Мифунэ».
Таким образом, нам пришлось выступать в атмосфере импровизации, что придало вечеру непосредственность и принесло успех. Потом мы отправились к Сереже. Одна его поклонница принесла ему в Дом кино три кило настоящих сосисок, но по дороге домой он таки успел два из них раздать детям (где он их откопал в позднее время?), и на ужин было по полсосиски на человека. Но, конечно, не в этом дело, раз за столом сидел Сережа. Он подарил Инне красивую шляпу, в которой она и красовалась весь вечер, а тебе почему-то решил послать пестрые трусы чудовищного размера, на Гаргантюа. Жди. Сережа шлет привет тебе с Ниной, а мы вас целуем. Вася.
P.S. Пуделек же в вечере не участвовал. Он очень нанервничался на репетиции, и его решили уберечь от вторичного потрясения. Так мы и не знаем, какая роль была ему уготована Сережкой. А жаль!»
Ниловна и Гагарин
В семидесятых началось их содружество с Виктором Шкловским. Когда Сережа еще не родился, Шкловский был уже очень знаменит, и вот полвека спустя два этих ярких чудака и выдумщика находят друг друга, чтобы оставить нам – увы! – лишь контуры некоего несостоявшегося чуда. Сегодня никакой проблемы (кроме материальной) для их замысла не было бы, но в те годы существовали только одни препятствия. Параджанов предложил писать сценарий «Демона». Решили, что каждый напишет свой, а потом их соединят, взяв лучшее из того и другого.
«С. Параджанов. «Демон». Сценарий написан для экспериментальной студии. Москва, 1971 год». Перелистываю полуслепой машинописный текст. «Демон» волновал Параджанова и личностью Лермонтова, которого он собирался играть еще в юности, и природой Кавказа, где он родился и вырос, и тем пространством поэмы, которое вдохновляло его фантазию, и возможностью использовать огромное количество фактур, столь им любимых, все эти скалы и потоки, старинные замки и развалины, ковры и утварь… И, конечно, сама драматургия будущего фильма – перевоплощение духа в плоть, любви в смерть, черного в белое, дьявола в ангела, лебедя в женщину. Вообще, образ лебедя, птицы, парения и полета ощущается, именно ощущается, на каждой странице сценария, пронизывает весь несостоявшийся фильм-поэму, хотя ни разу не написано «летал над грешною землей» или «верхи Кавказа пролетал». В фильме даже сама поэма должна быть написана пером, оброненным пролетевшей птицей, – это перо найдет в горах молодой гусар и…
Ирреальное пространство и фантастический сюжет он остраняет своими воспоминаниями, ощущениями детства, например страхами перед буйволами. «Тамара боялась черных и лиловых мокрых буйволов….» «Лиловый буйвол пил воду». «Игуменья кричала на буйволов». «Тамара спала и… механически доила буйволицу». Сценарий написан так, как не пишут, но он был понятен ему самому, его единомышленникам: «Хор гранитных скал воспевает красоту алмаза». Или: «Пахло мокрыми белыми лилиями». Или: «Кровавые следы на облаках, следы пораженного Демона». Я обратил внимание, что весь сценарий написан чисто изобразительно. Поэтические образы «Демона» переводятся на язык образа живописного. И лишь в любовной сцене – там, где «злой дух торжествовал», – несвязный любовный лепет, сплетенный из обрывков лермонтовской строфы. Но Виктор Шкловский пишет ему в письме: «Дорогой Сергей, мы не можем снять немую ленту. Люди должны говорить, и это главное препятствие». А ведь Сергей снял «Саят-Нову» – немую ленту, ленту без слов! Я уверен, что снял бы и эту, вопреки «не можем» Шкловского.
Читаю дальше: «Тамара в черной домотканой рясе взбиралась по нежным ветвям миндаля, Тамара качалась на ветвях миндаля. Качались в ритм с ней монашенки на соседних ветвях. Тамара срывала миндаль и бросала в корзину, привязанную к спине. Над Тамарой качались ветви, а над ними бежали облака и раскачивался купол в голубой мозаике». Я так и вижу это необычное раскачивание женщин в черном на тонких ветках миндаля… Но попробуйте загнать туда массовку, да так, чтобы она не шлепнулась оземь! А Сережа загнал бы, и монашенки раскачивались бы, и мы восхищались бы, и в киношколах изучали бы эти кадры.
Шкловский предложил: «Зимний дворец. Лермонтов перед императрицей, женой Николая Первого, читает «Демона». Она зевает, закрывает рот веером. Ей нравится Лермонтов, но ей не нравится «Демон». И «Демон» не проходит. Потом его осуществляет Параджанов».
– Что же помешало тебе снять фильм?
– Понимаешь, мне необходимы были двадцать верблюдов-альбиносов, ярко-белых верблюдов, но студия не могла их нигде найти. Сказали: таких, мол, не существует в природе. Бездари! Что значит – не существует? Тогда покрасьте коричневых верблюдов с головы до ног перекисью водорода, как в парикмахерской. Превращают же там брюнеток в платиновых блондинок! Тоже не смогли, разгильдяи. Ну, и я, конечно, отказался снимать картину.
Так он отшутился. Суть же, разумеется, в неординарности замысла, в его «безмерности в мире мер».
В один прекрасный день 1986 года он показал мне заявку на балет по роману Горького «Мать»! Этот насмешник, вольнодумец, аполитичный по своей сути художник – и вдруг: «Постановка балета «Мать» посвящается Великой дате семидесятилетия Великой Октябрьской революции»
– Ты это серьезно?
– Абсолютно. Вот слушай: «Двенадцать картин, как бы балетных притч, возникнут на сцене Театра им. Захария Палиашвили, создавая балетно-психологическую гармонию становления характера революционера Павла Власова и идущей рядом матери – Ниловны, прозревающей и сопутствующей судьбе и сына, и революции… Композитор Р. Щедрин или Г. Канчели… Композитор создаст партитуру балетной эпопеи на основе революционных гимнов и песен… В основу музыкального коллажа войдут детские хоры, частушки, переплясы, церковные песнопения… В финале балета – симфоническое «Интермеццо» и апофеоз арф и колоколов в сочетании с вокализом колоратурных сопрано… Исполнительницы роли матери – Майя Плисецкая, Ирина Джандиери… Новое прочтение «Матери» Горького – праздник искусства, необходимый Советскому государству в целях воспитания молодежи и популяризации революционной классики».
– Сережа, неужели это из тебя вылезли такие слова? – Я был ошарашен. Но он тут же прочитал мне либретто первой картины. Это было на уровне школьного сочинения – рассвет, заводской гудок, почему-то уже с утра измученная толпа рабочих, зевая, бредет на фабрику, среди них – изможденная Ниловна. Что ни строчка, то «капитализм», «эксплуатация», «кровопийцы»…
– А вот послушай финал. Во весь пол сцены расстелено знамя, посреди звезда. Справа стоит Ниловна, протягивая руки кверху, а из-под колосников, как бы паря в воздухе, к ней спускается… угадай кто?
– Неужели Карл Маркс?
– Га-га-рин! И лицо у него то Павла, то Юрия, то Юрия, то Павла… Звонят колокола, и поет хор колоратурных сопрано».
Я был уверен, что он меня мистифицирует. Отнюдь. Наоборот, попросил позвонить Плисецкой и Щедрину и рассказать о его предложении. Я отнекивался долго. «Считай, что я этого не слышала», – ответила Майя Михайловна.
Сен-Лорана легко напугать
Как обидно, что не состоялись знакомства Параджанова с его современниками, с которыми он «звучал на одной волне». Мне жаль, что он не встретился с Сергеем Михайловичем Эйзенштейном, не общался с Тамарой Ханум и Сен-Лораном. И хотя жили все они в одно время, иной раз бывали даже в одном городе, а встречи проходили… по касательной.
Я все время мечтал познакомить его с Тамарой Ханум, выдающейся актрисой и яркой, незаурядной женщиной, но все никак не получалось. Они знали один о другом, интересовались и тянулись друг к другу.
Один раз Параджанов послал ей со мной веер и пиалу с гранатами, а Тамара Ханум ему – старинную узбекскую набойку, которую потом я увидел и в «Сурамской крепости», и в «Ашик-Керибе».
Восточные одежды и украшения, утварь и ковры были той сферой, где они чувствовали себя как дома. Оба обожали маскарад. И вот однажды Тамара Ханум нарядилась в подлинный халат эмира бухарского, который только что вернулся с выставки костюма в Брюсселе, где он экспонировался рядом с костюмом Шаляпина из «Бориса Годунова». В косы она вплела серебряные с сердоликом бусы, а чалма с павлиньим пером была перевита жемчугами с кораллами. Все это называлось «В честь Параджанова», и мы послали ему фотографию. Он был польщен, но придирчиво спросил меня, настоящие ли перстни? «Для него я не посмела бы надеть бутафорию», – гордо ответила Тамара Ханум.
Воображаю, какие игрища они устроили бы, доведись им встретиться. Сегодня же вместо них – живых и сверкающих – стоят их музеи, по счастью лишенные музейности, ибо там все говорит именно о творчестве и ярких талантах двух незаурядных художников.
С Ивом Сен-Лораном они как-то пересеклись, но это было мгновение. В 1986 году Сережа приезжает из Тбилиси и говорит: «Хочу подарить Сен-Лорану альбом, который я соорудил в его честь». В Москве в это время была выставка знаменитого французского кутюрье, и Параджанов хотел сделать ему что-то приятное за внимание, которое тот оказывал Сереже в черные годы, в частности – прислал приглашение в Париж, сразу же по выходе его из тюрьмы.
– Молодец, я уверен, что ему очень понравится. Созвонись и поезжай в «Националь». Вот номер.
– Ты же знаешь, как я люблю звонить. И на каком языке мы будем разговаривать? Нет, я оставлю альбом у тебя, а когда он придет, я тут же примчусь и вручу ему подарок. (Сережа остановился за городом у сестры.)
В альбоме были поразительные коллажи. Как я жалею, что не сумел их сфотографировать! Я помню лишь несколько: «Фантазии». Вокруг Ива вихрь лоскутов – шелковых, парчовых, муаровых, – из которых он сотворит свои изумительные платья. Сам художник тут же, он возлежит в чем мать родила, со всеми подробностями, сделанными с большим знанием дела. Он в очках, без которых его никогда не видели. Портретное сходство поразительно. И, конечно, как всегда у Сережи, – какие-то блики, мерцания, всполохи. А вот название, по которому легко вообразить сюжет: «Германн и графиня вистуют, а бабуленька из «Игрока» завидует». Если учесть, что габарит коллажа величиной с лист писчей бумаги, то поразительно умение соорудить погоны на мундире Германна, высокий, пудреный, с цветами парик графини, чепец с оборками и лорнет бабуленьки, да еще и угадывались масти на картах! «Травиата». Любимая опера Сережи, которую он не уставал пародировать. (Завидев меня, он – вместо «здравствуй» – напевал из первого акта «Фло-о-ора, друг милый…» Так и слышу его тремолирующий козлетон.) Так вот, это была золотая лепнина оперного театра, в ложе сидел Сен-Лоран, но уже не голый, а во фраке и при «бабочке»; на сцене же Виолетта, в ослепительном платье ювелирной работы, с камелиями в волосах, тщетно старалась поднять с колен Альфреда – кургузый и пузатый певец от старости никак не мог встать на ноги. Много было коллажей в альбоме, который Сережа переплел в старинную парчу, украсил лентами и кружевами: «Ив забыл дома зонтик», «Эйфелева башня влюблена в Ива», «Ангелы танцуют с Ивом». Описать это невозможно, это надо было видеть. И, увидев, Сен-Лоран замер от восторга. Рассматривая страницы, он часто смеялся и не уставал повторять: «Манифик! Манифик!» Прижав к груди, он не выпускал подарок из рук.
Вышло так, что Сен-Лоран приехал к нам внезапно. Я тут же позвонил Сереже, но пока он добирался из-за города от сестры, тот уже уехал. «Поехали за ним! Ты ведь даже не подписал работы, не надписал альбом!» Помчались. Поднялись. Стучимся, но никто не отвечает. Когда я на минуту отлучился позвонить, Сережа толкнул дверь и увидел Сен-Л орана слева в ванной: стоя у раковины, тот чистил зубы. Сережа гаркнул: «Руки вверх!» – и сделал вид, что стреляет сквозь карманы пальто из двух пистолетов. Сен-Лоран от неожиданности чуть не проглотил зубную щетку, обернулся и в ужасе увидел бородатого террориста. (Сергея-то он не знал в лицо!) Немая сцена.
Ворвавшись в номер, я еле-еле привел в себя Сен-Лорана, он был ошарашен и напуган, а Сережа веселился и настроился на дружескую беседу. Но для нее не оказалось времени: знаменитого гостя где-то уже ждали, он уехал в одну сторону, Параджанов в другую. Вот такая была встреча-невстреча. В парижской квартире Сен-Лорана рядом с Матиссом и Пикассо, среди античных бюстов и негритянских скульптур, на инкрустированном музейном столике лежал несколько лет и драгоценный альбом Сергея Параджанова. Недавно во время пожара в квартире огонь уничтожил альбом, но, к счастью, друзья в Тбилиси в свое время успели сфотографировать все работы.
Встреча-невстреча с Эйзенштейном… Это было знакомство с образом жизни знаменитого кинорежиссера, с его вкусами и пристрастиями, отраженными в квартире Сергея Михайловича, не похожей ни на чью другую. А ведь могло быть и личное общение, каким оно было у Эйзенштейна с Эльдаром Рязановым или Станиславом Ростоцким. Сколько раз Сергей Михайлович и Сережа шли по коридорам института навстречу друг другу, но… Эти постоянные «но» и «вдруг» в жизни Сережи! Осенью 1958 года я взял с собой Параджанова в гости к вдове Эйзенштейна Пере Моисеевне Аташевой. Она жила на Гоголевском бульваре, куда после смерти Эйзенштейна перевезли все его книги и бумаги. Я тогда снимал о нем биографический фильм, и передо мной был открыт весь архив Эйзенштейна, хотя он все еще являлся фигурой одиозной, и вторая серия «Ивана Грозного» была под арестом. Как обидно, что Эйзенштейн не успел узнать Параджанова! Личность Сережи была абсолютно в его духе – со всеми Сережиными вкусами, фокусами, выдумками и выходками. У них было много общего в пристрастиях: густо декорированное жилье, всевозможные игрушки, любовь к церковной утвари; те же католические херувимы под потолком, те же народные вышивки, которые собирали оба; те же ковры как произведения искусства – у Эйзенштейна мексиканские, у Сережи кавказские; оба обожали сниматься, и тот и другой собирали старинные фотографии и дагерротипы; оба были эротоманы, и материально-чувственный мир вызывал у них бесчисленные варианты «про это»; и тут, и там любимейший художник – Пиросманишвили; оба увлекались старинными гравюрами и вообще тащили в дом все, что подворачивалось под руку. Но во многом они разительно отличались: Эйзенштейн был энциклопедист, Параджанов – отнюдь нет. Эйзенштейн был полиглот, а Параджанов плохо говорил и по-украински, и по-армянски, и по-грузински, на иностранных же языках – только «мерси». У Эйзенштейна – уникальная библиотека, у Сережи – лишь «Мойдодыр». Примеров схожести и противоположности я могу привести сколько угодно. Сегодня я вижу их все больше и больше.
Тогда еще почти никто не знал рисунков Эйзенштейна, их разрешили публиковать позже, и Сережа был потрясен, когда мы раскрыли перед ним папки. Он не мог оторваться от эскизов к «Грозному» и к несостоявшейся картине о Ферганском канале. В картине намечались эпизоды с Тамерланом, и Сергей Михайлович нарисовал строительство башни, в которую замуровывали живых рабов. Это была как бы инструкция, чертеж, чуть ли не пособие: четко был нарисован ряд камней, на них ряд лежащих на спине рабов головой наружу, снова ряд камней, ряд рабов… Зацементированные, они медленно умирали. Высокая была башня! Изощренная жестокость сильно поразила Сергея, как и сам рисунок. Ни одного листа он не пропустил, каждый набросок, каждый клочок рассматривал внимательно. Словом, закрыв папки, он – потрясенный – открыл для себя мир, о котором не подозревал. За ужином мы много разговаривали, шутили. Пера Моисеевна была умная и веселая женщина, Сережа ей очень понравился, и она ему тоже. Недолго думая, он достал из своего баула черные лакированные гэта буддийского монаха и поставил их на полку с японскими книгами. Поскольку это было и красиво, «и к селу и к городу», он их тут же подарил Пере Моисеевне. Аташева дала ему на память копию голливудской фотографии Сергея Михайловича с Микки Маусом. Потом они часто передавали через меня приветы, а однажды на Пасху Сережа прислал ей из Киева расписанные им яйца. На одном, помню, он довольно точно воспроизвел портрет Эйзенштейна работы Кики, который ему очень понравился. Это яйцо стояло на полке с книгами долго, а все остальные благополучно съели. После визита Сережа увлекся Эйзенштейном, выпросил у меня несколько фотографий, пытался прочесть статью «Вертикальный монтаж», но на второй странице отвлекся, и больше об Эйзенштейне я от него не слышал.







