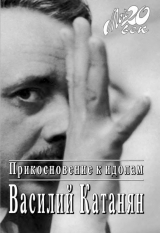
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 36 страниц)
Императрица, Собакевич и Вертинский
Дольше всех в Доброй слободке прожила наша семья – с 1928 года по 1964-й. Когда Рубиных выслали, одну их комнату дали нам, а во второй поселились Михайловы – Михаил Осипович и Анна Лазаревна. Она была добрая женщина. Он был типа Собакевича, но, в отличие от него, работал в ГПУ – НКВД, ходил в галифе и гимнастерке. Время от времени у него начинался запой, и тогда он протяжно басом тянул: «Аня-я-я, дай вы-ы-ы-пить!» А она не давала. Под этот крик шло мое детство. Анна Лазаревна рассказывала нам, что это мучит его давняя история: он обещал заступиться за несчастных людей, приговоренных к расстрелу, но пока хлопотал, их расстреляли. С тех пор он, мол, и пьет.
«Какая трогательная сказочка для маленького Васьки, – говорила наша знакомая Наташа Дорошевич (о ней речь ниже), которая ненавидела советскую власть. – Воображаю, скольких невинных он вывел в расход – достаточно взглянуть на его морду. «Обещал заступиться»… Вот все эти расстрелянные и являются ему, а он заливается водкой и орет: «Аня, дай выпить!»
Сквозь фанерную стенку все было прекрасно слышно. Только лишь они поселились, как от них раздалось «В бананово-лимонном Сингапуре», и мама с папой замерли. Тогда Вертинский был под запретом, но Михайловы часто крутили патефон (между запоями), и тогда папа объявлял дикторским голосом: «Начинаем концерт конфискованных пластинок!» У меня был хороший слух, а в квартире хорошая слышимость, поэтому и «Магнолию» и «Сумасшедшего шарманщика» я выучил гораздо раньше, чем «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте!», которые мы пели в школе. Большинство песен Вертинского я знал наизусть, но мама прикладывала палец к губам, как только я начинал их мурлыкать, – эмигрант, мало ли что? «Где ты их слышал, мальчик?» Все эти его царицы экрана и моды вкупе с криками обезьян были вне закона. И вдруг во время войны вокруг заговорили: «Вертинский-Вертинский, он вернулся, привез вагон медикаментов для раненых, его простили, он будет петь!» Это было вскоре после введения звания «офицер» вместо «командир». Тут же вспыхнул и анекдот (за который, верно, не один пострадал): «Выходит человек из сумасшедшего дома и видит афишу: «Сегодня в офицерском клубе концерт Вертинского». Ну, думает, не долечился. И пошел обратно». Кстати, за всю концертную деятельность Вертинского в СССР не было ни одной передачи по радио, ни одной рецензии, но и ни одного свободного места в зале! Концерты шли без конферансье. На сцену выходили двое мужчин в черном, подходили к роялю, и зрители замирали.
Легко представить, какое потрясение я испытал, услышав Александра Вертинского живьем в 1943 году. Я не мог оторвать глаз от певца, от его рук, которых не в силах описать, его песни переносили меня в детство, я вспоминал и лилового негра, и пожилую актрису с утомленным лицом, и попугая Флобера, и китайчонка Ли, и, конечно же, изумрудные колени, что «вдохновили гений Дебюсси» – не только Дебюсси, но и меня, мальчика, замиравшего при звуках патефона, которые доносились из-за стенки пьяного гепеушника.
Так вот, уже работая на Студии документальных фильмов, я предложил снять Вертинского для «кинолетописи». Если мы видим сегодня на экране многих интересных людей, которых уже давно нет на свете, то – благодаря кинолетописи. Ведь телевидение в те годы училось только ходить, а видео не было и в помине. Вместе с редактором Олей Щербаковой, молоденькой и красивой женщиной, мы отправились на концерт, чтобы по окончании поговорить с Вертинским о съемке. Оля надела лучшее свое платье, приколола букет фиалок и замысловато взбила прическу. И не ошиблась в своих стараниях: Александр Николаевич все внимание обратил на нее и был очень любезен. Мы сидели в артистической, было жарко, и Вертинский, извинившись (чем смутил нас), повесил смокинг на спинку стула и снял бантик. Какая-то женщина принесла термос с чаем, кто-то пришел с комплиментами, кто-то прощался. Я смотрел во все глаза, взволнованный, что так близко вижу обожаемого артиста, и что-то мямлил, но Оля, польщенная вниманием, взяла бразды правления. В то время он еще не снимался ни в «Заговоре обреченных, ни в «Анне на шее», и Оля прельщала его возможностью увидеть себя на экране, оставить свои песни будущим зрителям. Но эта перспектива вовсе не увлекла артиста: «Деточка, у меня с кино вечные нелады. Когда вас еще не было на свете, у нас был роман с Верой Холодной, и она звала меня с нею сниматься, но кинематограф был немым и мои песенки были ему не нужны. А что я без музыки?» «Так вот теперь мы и хотим их снять», – вякнул я. «А потом в Холливуде, – продолжал Александр Николаевич словно меня и не было, – у нас был роман с Марлен Дитрих и тоже ничего не вышло. Я имею в виду съемки, – улыбнулся он Оле. – Марлен хотела, чтобы меня сняли и я что-нибудь исполнил, а я никак не вписывался в их дурацкий сюжет и к тому же пел по-русски. И даже Марлен… Впрочем, от этого романа осталась моя «Весна Ботичелли», а где бы сегодня вы увидели эту съемку, буде она и состоялась? Нет, нет, если даже у этих очаровательных актрис ничего не получилось и они не смогли заманить меня на экран…» – «То куда уж нам», – закончили мы мысленно. Мы не обиделись, но огорчились. И я до сих пор жалею, что так и не сумели склонить его к съемке, снять из зала несколько номеров, передать атмосферу его концерта. И нет на экране ни одной его песни, которые он так артистически исполнял.
Да, так вот о Доброй слободке. В одной из комнат жила Ляля – Раиса Ивановна Зак, русская красавица из Иванова. У нас она шла под кличкой «Люция Францевна Пферд из Вороньей слободки». Вечерами соседи у нее играли в лото и дверь была открыта, она с любопытством смотрела, кто к кому пришел. Перед войной ее мужем стал Геннадий Борисович, инженер – унылый еврей с огромным «паяльником» и покатыми плечами, как у Натали Гончаровой. Ляля звала его томно, нараспев «Нэди», ей казалось это аристократичным, а все (в том числе и партнеры по лото) за глаза называли его Говнеди. Это были махровые мещане с оранжевым абажуром, слониками и пуфиками (как нынче этого хочется!), но, в сущности, люди неплохие. У них всегда можно было перехватить тридцатку, одолжить кусок хлеба до утра или бутылку керосина. Таков был быт. Под конец жизни они уехали в Иваново и умерли, одинокие, в доме для престарелых.
До войны жили у нас Маковские, их сын был инженер и ездил в Америку учиться рыть метро. Мы им гордились, как Варвара-самка из «Двенадцати стульев» полярным летчиком. А мать Маковского была миниатюрная сумасшедшая. Когда они получили другую квартиру, в их комнату вселились Шура и Тима, они работали в гараже ЦК и вели себя очень гордо. Получая соответственные пайки, они жгли керосинку не на кухне, а у себя, чтобы никто не видел, что они готовят. Когда Тима был на фронте, всех поражало количество кавалеров, которых принимала Шура. Сломав хребет фашистскому зверю в его же логове, Тима вернулся к любимой жене, и они снова зажили припеваючи.
Шло время. Сталин сыграл в ящик. После XX съезда Тима ночью пересказывал закрытое письмо о Сталине (только для партийных!), и до меня сквозь стенку долетали страшные слова «расстрелы, пытки, лагеря»… И еще – «культ личности». Раньше я слышал только о культтоварах.
За несколько дней до этого я пригласил на свой день рожденья генерала Труфанова, который прилетел с Сахалина как делегат XX съезда. Мы с ним познакомились в Южно-Сахалинске, он был командующий округом. К вечеру принесли – к переполоху всей квартиры – «правительственную» телеграмму, где генерал поздравлял меня и сожалел, что из-за занятости не может приехать ужинать. А занят он был тем, что слушал этот знаменитый доклад Хрущева, и его, в числе других, вынесли из зала в обмороке от услышанного. Это рассказал мне наш кинооператор Горчилин, их удалили из зала (речь не была снята). Они сидели на кофрах в фойе и с тревогой и недоумением смотрели, как выносят делегатов на грани апоплексии…
Можно долго рассказывать, что пережили мы, уже взрослые люди, услышав разоблачения Хрущева, но об этом и без меня много написано. Скажу только, что в день похорон Сталина мы с Эльдаром Рязановым вышли из вестибюля Кинохроники, где тогда работали, в переулок, чтобы слушать траурные гудки – гудело все, что могло. И я до сих пор отчего-то помню, как мимо нас под жуткий гул, когда вся страна замерла, – ни на что не обращая внимания, медленно ковыляла старушка с рынка, с плетеной авоськой. Шла и шла себе по абсолютно пустому переулку. А вечером мама наткнулась в энциклопедии на слово «паранойя» и сказала: «Он был типичный параноик. Вот кто нами правил. Прочти». Я прочел. Таким мне запомнился, как вскоре стало ясно, этот радостный день похорон.
При Хрущеве Шура с Тимой переехали в пятиэтажку. Сегодня все плюют в эти дома, забыв, какая это была тогда большая радость. В их комнате (метров десяти) поселился Александр Федорович, провинциальный еврей, добродушный и веселый. Для краткости мы стали называть его Императрицей (Александра Федоровна). Вскоре он женился, несмотря на тесноту, народил детей, и, когда мы уехали, ему присоединили одну нашу комнату.
Императрицу характеризует такой разговор с мамой:
– Галина Дмитриевна, у моей хозяйки в Сочи есть сука. Она сейчас ощенилась, я хочу послать телеграмму, но не помню, как звали собаку. Помогите мне.
– Каким образом? Я не была в Сочи, не знакома с хозяйкой, в глаза не видела вашу суку.
– Нет, я к вам обращаюсь, так как вы дама начитанная: это такое имя, которое всегда произносится одно за другим.
– Иван да Марья?
– Похоже, но не то.
– Тристан и Изольда?
– Вроде бы нет.
– Антоний и Клеопатра?
– Вот-вот, уже ближе…
– Ромео и Джульетта?
– Ну конечно, я знал что вы мне поможете! Джулька! Суку зовут Джулька!
Императрица радостно побежала давать поздравительную телеграмму. На художественном бланке.
Всякие были соседи, не всех хочется вспоминать, но запомнился махровый антисемит Титов, как две капли воды похожий на Михаила Ульянова (этим я ничего плохого не хочу сказать про Михаила Александровича). Он норовил сказать гадость на кухне – всегда без свидетелей – не только Императрице или Нэди, но и «двум отъявленным русским». Жила еще писклявая блондинка с семейством, которая так часто писала на всех доносы, что участковый перестал обращать на них внимание. Свою болонку, очень на нее похожую, она держала в комнате, привязанною веревкой к ножке дивана. Нет, лучше вспоминать смешное.
Поскольку нас было 26 человек (8 семей), то с уборной были вечные приключения. Начиная с пламенного призыва: «Граждане! Ведите себя по-человечески!!!» – и кончая унитазными сиденьями. Каждая семья завела себе отдельное сиденье, и персонаж, направляясь в уборную, брал его с собою. Очень гигиенично и благородно. Кто сшил чехол, кто просто приделал ручку. «В свободное от работы время» они лежали за сундуками, которые громоздились в коридоре. Одна знакомая, гостившая у нас, утром, в халате, надевала сиденье на руку и с сигаретой в той же руке, дефилируя по коридору, кокетливо просила у Императрицы прикурить.
Теперь этот дом снесли с лица земли. Я как-то проезжал на студийном автобусе мимо Разгуляя, и шофер говорит: «Здесь жил один наш режиссер, квартира была такая населенная, что утром каждый ходил в уборную со своим унитазом». Великая вещь – фольклор! Я живо представил себе Титова, как он несет унитаз, словно грудного ребенка.
«Красный семейный уют» и цыганский романс
Да, так дом снесли, выстроили девятиэтажку с отдельными квартирами. Но память все равно возвращает меня вспять, к тем годам, когда только начиналась наша жизнь в Москве. Недавно, когда я разбирал свой архив, мне попалось письмо Александра Родченко, где он описывает новоселье у нас в 1929 году, когда нам присоединили вторую комнату. Но сначала о тех, кто в письме:
Володя – Маяковский
Лева – Лев Гринкруг, кинематографист, всем приятель
Джон Левин – художник
Наташа Брюханенко – приятельница всех, пассия Маяковского
Галина – моя мама
Коля – Асеев
Ксана – жена Асеева
Сема – Кирсанов
Клава – жена Кирсанова
Васькина гармонь – моя, игрушечная
Лиличка – Лиля Брик
«Новый год» – 1930-й, когда в квартире Гендрикова переулка праздновали юбилей Маяковского, не раз уже описанный в воспоминаниях, но значительно более возвышенным стилем.
Стенная газета была склеена моей мамой, и все гости там что-нибудь писали или рисовали. Теперь она в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Привожу письмо с несущественными сокращениями:
«…Мы вчера напились на новоселье у Катаняна. Как всегда Володя, Кирсанов, Лева, Левин, Асеев дулись в карты. Ксана сидела рядом с Колей и смотрела с невыразимой грустью на его проигрыши. В голубых глазах ее была тоска. Кирсанов, выиграв 150 р., бросил играть, отчего поднялся скандал. Володя орал. Клавочка ругала Семку и заставляла его играть или отдать деньги. Лева за 20 рублей предлагал Семе всех успокоить, но тот был тверд и уехал с Клавочкой и 15 червонцами домой. Лева мешал мне ухаживать за Наташей. Все же я его отшил. Правда, Леве удалось дать Наташе 6 рублей вперед. За что – не знаю.
Одним словом, все шло замечательно. Галина свистела и басом пела частушки, пока не стала засыпать на Левином плече. Я играл на Васькиной гармони и спаивал Наташу. Катанян, как хозяин, мало пил, не играл и соблюдал чистоту. Кассиль пел бандитские песни и тряс грудями, изображая табор цыган.
Лиличка, таинственно проходя профилем со связанным и срезанным пучком красных волос, вздрагивая страстными ноздрями, говорила: «Новый год мы так же, как и раньше, не будем встречать. Те, у которых негде встречать, собираются у нас, привозя все с собой».
Над столом висел огромный, из бумаги, в складку с красными разводами абажур, подаренный Левой, за что он гладил Галину, прижимая усталую голову, а свободной рукой гладил Наташину ногу, чему я беспрерывно препятствовал.
На стене висела стенная газета «Красный семейный уют», где писали все. Ты это прочтешь сама после». И т. д».
Я так подробно остановился на этом письме, потому что оно в известной степени характеризует быт того времени. Люди у нас собирались часто – родители были гостеприимны. Собирались повидаться, играли в карты или в «ма-джонг», была в те годы популярна такая китайская игра, часто танцевали под патефон, много людей приходили к отцу по делу. Кроме упомянутых в письме, бывали Шкловские, семья художника Штеренберга, Харджиев – он мне почему-то запомнился беззубым, молодой Фадеев. Впрочем, молоды были. все. Однажды я проснулся и увидел огромный карикатурный портрет отца – накануне вечером были Кукрыниксы. У меня и сейчас этот лист ватмана.
Корнея Чуковского я у нас не помню – он еще жил в Ленинграде, – но судьба все время сталкивала с ним родителей, судя по письмам. Однажды – мне было лет десять – я получил от него открытку с текстом, явно адресованным родным, который заканчивался так: «Поцелуй маму и передай привет папе, хотя я на него немного сердит. Твой Корней Иванович». С отцом они имели какие-то редакционно-критические дела, а с мамой до конца дней не прекращался шутливый роман в письмах и по телефону.
Я помню его выступление в аудитории МГУ, мы с мамой там были, выступал и Маршак, и Игорь Ильинский, который всегда великолепно читал маршаковских «Лодырей». Мы зашли за кулисы к Корнею Ивановичу, он меня угостил яблоком. С мамой они были на «вы» и по имени-отчеству. Что и как он читал, не помню, помню только, что голос был высокий и веселый, яблоко же, конечно, запало в память навсегда. Недавно я прочел в его дневниках об этом утреннике, было это 19 января 1934 года.
В «От двух до пяти» он поместил мои детские разговоры и портрет, но экземпляр с его надписью затерялся в эвакуации. В шестидесятых годах я наткнулся у букиниста на первое издание книги и передал ему с нашей приятельницей Кларой Лозовской, его секретаршей – с просьбой надписать. Но получил обратно не первое издание, а последнее, и на развороте вместо надписи целое письмо, где он объясняет, что заменил экземпляр, так как у него давно уже нет первого издания, а оно ему необходимо, но что фото он аккуратно вклеил (его не было в последнем издании), и чтобы я не сердился, а вошел в его положение и т. п. Я был счастлив, но дорогой для меня этот экземпляр кто-то увел – видно, дорог он был не только мне. Однажды он прислал маме книгу, где после подписи он очертил кружок и написал «это место я поцеловал». А на книге «Живой как жизнь» надпись такая: «Дорогая, милая, любимая, красивая Галина Дмитриевна! Не читайте этой книжки! Вам она не нужна! Ваш К. Чуковский». (Это в ответ на воспоминания мамы, которые она послала с Кларой Корнею Ивановичу.)
Его письма я отдал в Литературный музей, помню среди них одно смешное, где он пишет, что (по инициативе Клары) он ходил к директору переделкинского кардиосанатория хлопотать путевку для мамы. Все устроилось, но только, мол, неувядаемая любовь к Галине Дмитриевне могла заставить его долго и терпеливо слушать, как маленькая дочка директора «насилует простуженный рояль» (цитата из Саши Черного.)
А одно письмо, которое мама нашла в своих бумагах уже под конец жизни, вернуло ее в далекий тридцатый год. Оно было написано через день после самоубийства Маяковского:
«Глубокоуважаемая Галина Дмитриевна!
Все эти дни я реву, как дурак. <…> Мне совестно писать сейчас Лиле Юрьевне, ей теперь не до писем, не до наших жалких утешений. Я помню первый день их встречи. Помню, как он приехал в Куоккалу и сказал мне, что теперь для него начинается новая жизнь – так как он встретил единственную женщину – навеки – до смерти. Сказал это так торжественно, что я тогда же поверил ему, хотя ему было 23 года, хотя, на поверхностный взгляд, он казался переменчивым и беспутным…
Где-то у меня есть фотография той эпохи. Любительская. Он лежит в траве с моим Бобкой. Я пришлю ее Брикам – потом.
Ваш Вася, когда будет старичком, будет гордиться: «Я знал Маяковского». Он уже в 4-летнем возрасте знал, что Маяковский «самый хороший поэт». Помните, Вы писали об этом.
Преданный Вам. К. Чуковский»
Уже в конце шестидесятых, Инна, моя жена, вернулась из Переделкина и рассказала, как пришла она к Кларе. Та говорит: «Пойди навести Корнея Ивановича, он себя неважно чувствует, отдыхает на террасе и просил тебя подняться, когда ты придешь». Корней Иванович лежал на тахте, Инна села напротив и что-то ему рассказала. На ней было мини-платье с геометрическим рисунком, как то диктовала мода шестидесятых годов. Вскоре пришла Клара, принесла чай и спросила Корнея Ивановича, как он себя чувствует.
– Прекрасно! Вот вы подумайте, как меняется время, – в 1903 году в Кембридже мы с приятелем ходили в парк и долго стояли возле мостков, где прогуливалась публика. Мы ждали, чтобы подул ветерок. Тогда, если нам повезет и если по мосткам пройдет дама, то ветерок поднимет край ее платья и на повороте можно будет увидеть очаровательную щиколотку! Это было счастье! А сегодня – я лежу в удобной позе, передо мной сидит хорошенькая женщина и я могу безо всякого ветра видеть не только ее щиколотку, но много-много выше!
И все втроем они засмеялись.
В начале тридцатых существовала – кто помнит – карточная система и мы ездили в распределитель, там «выдавали» продукты. А во второй половине тридцатых вдруг все появилось, гастроном у нас на Разгуляе ломился от деликатесов, а в булочной продавали вкусные халы и французские булки – белые-белые. Со временем они стали хуже и назывались уже «городские». Горбулки. А халы окрестили «плетенками».
Жили мы, в общем, небогато, заработок отца зависел от того, сколько его печатали. Одно время «Вечерняя Москва» регулярно давала его критические литературные фельетоны. Затем, когда он стал заниматься только Маяковским, зарабатывать приходилось все труднее, ибо поэта «зажимали» до тех пор, пока Л. Брик не написала письмо Сталину и все круто не изменилось.
Мама много печатала на машинке – и работы отца, и, например, перепечатывала архив Маяковского сразу же после его смерти. Она вообще очень любила и его самого, и его поэзию, которую знала отлично.
У нее был красивый, но небольшой голос, меццо, в юности она пела в церковном хоре, и вдруг в 37 лет решила стать певицей, петь цыганские романсы. Я помню, как окружающие говорили: «А что? Нежданова тоже начала петь в 35 лет, а до этого учительствовала!» Это утвердило маму в ее решении, и она с увлечением начала заниматься со старой итальянской певицей, а потом учила романсы и настоящие цыганские песни с голоса Александры Христофоровой, некогда знаменитой ресторанно-эстрадной певицы. У нас в доме появились гитаристы, две какие-то старые цыганки, шумные и смешные мамины подруги. Так мое детство шло под знаком новой поэзии, которой занимались родители, и цыганско-салонного пения, которое я постоянно слышал. На рояле лежали кипы нот – «Песни Вари Паниной», «Он уехал», «Из репертуара Юрия Морфесси» и т. п. Кстати, Юрий Морфесси эмигрировал, а его сын был известный в Москве гинеколог, он тайно делал аборты – мамина приятельница воспользовалась его услугами и громким шепотом долго о нем рассказывала. А я недоумевал: отец – «Вы просите песен», а сын подпольный абортмахер? Наивный еще был.
Мамина певческая карьера не задалась, славы она не добилась, не разбогатела – и время тому не способствовало с его вечными запрещениями легкого жанра; и мамин непробивной характер; и отсутствие настоящей школы… Но все же она много гастролировала с эстрадными бригадами по Союзу, ездила солисткой в цыганском ансамбле.
Это был для меня совершенно новый мир. Однажды я пошел провожать ее на вокзал. В зале ожидания сидел на узлах буквально табор с черномазыми ребятишками. Грудного ребенка укачивала молодая мать, кто-то пошел за кипятком, все говорили одновременно и громко. Это напоминало привал комедиантов, вернее – отвал, поскольку они отваливали куда-то в приволжские города. Меня поразило количество гитар, которые стояли вперемежку с керосинками, завязанными в платки. На керосинках готовили в поездках. Это позднее заграничные гастролеры стали возить с собою кипятильники и включать их в «Хилтонах», а тогда такого не было. Электроплитки же квартирные хозяйки и администрация в гостиницах включать не разрешали, да и были они большой редкостью, вечно перегорала спираль. Мать тоже возила керосинку и кастрюльку. Цыгане уважали ее за интеллигентность и говорили: «Галина Дмитриевна читала Анатолия Франса!»
В войну она ездила с фронтовыми бригадами, после войны выступлений стало все меньше и меньше, а после постановлений об Ахматовой и Зощенко цыганское пение вообще запретили («За «Очи черные» сажают на кол», – говорил гитарист). Пришлось переучивать репертуар, и мама с партнершей стали петь русские дуэты. Концертов было мало, иногда они пели перед сеансами в кино. Послевоенное время было вообще очень трудное, заработки были случайные, грошовые – я был студентом и вспоминаю это время как черные годы, когда жили впроголодь и каждая пара носков была событием… Но мама была оптимисткой, легко смеялась, легко дружила с людьми и прожила жизнь, не имея врагов. Были люди, которые ее обижали или обманывали, но врагов не было. Умерла она в 86 лет.








