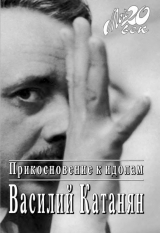
Текст книги "Прикосновение к идолам"
Автор книги: Василий Катанян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 36 страниц)
Из-за болезни Робсона (грипп, сердце) вторая картина Рыбаковой отпала, и я тоже уже ничего не снимал по возвращении из Крыма, монтировал из снятого и множества архивного материала, который доставали из-за границы. Фильм приняли без поправок, только попросили добавить один план. Какой же? Да тот, где была снята Раиса Тимофеевна с женой Хрущева и Эсландой на приеме в Александровском замке. «Нет, Вася, не сделать вам карьеры, раз вы сами не догадались этого вставить», – заметил умудренный Хавчин.
Картина шла широко, плакаты были расклеены по всему городу, а премьера прошла в Доме кино с большим успехом. Появление на экране Поля и Эсланды встретили аплодисментами, аплодировали и после каждой песни – тогда публика в Дом кино ходила доброжелательная. Робсон картину впервые увидел только здесь и с восторгом заявил со сцены, что «эта картина не только обо мне, но и о моем народе», чего, честно говоря, я вовсе не предполагал, но хорошо, что так получилось.
Эсланда лежала в больнице и не была на премьере. Я потом показал ей картину отдельно. Она сказала мне много комплиментов, я ответил, что боялся ее мнения больше, чем мнения Поля. «И правильно! Если бы картина мне не понравилась, то было бы ой как плохо!» Она ослепительно улыбнулась, но я понял, что она не шутит. У меня остались о ней самые лучшие воспоминания, мы переписывались, а в Москве я навещал ее в Кремлевской больнице, где она облучалась. Она умерла от рака в конце 1965 года, ей было 68 лет.
Вечер в Доме кино вел Марк Донской, который, конечно, городил чушь и паясничал. Меня он даже не представил. Много лет спустя, снимая дома у Донского, я увидел его фото с Робсоном. «Это я у него в гостях в Калифорнии», – сказал, не моргнув глазом, Герой Социалистического Труда. «А как же быть с тем, что рядом сижу я и что это снято на премьере в Доме кино? Ну какая балаболка!» – подумал я, но промолчал, чтобы не сорвать съемку. Кстати, на этой съемке, во время его болтовни, я услышал, как он в Японии посетил с делегацией могилу Куросавы, «а потом поехали к нему домой, пили с ним сакэ». Как говорится, лучше не скажешь.
После премьеры я устроил дома банкет, позвал много народу. Я колебался, удобно ли звать мировую знаменитость в такой дом, но мама приободрила меня, сказав, что Робсон в Гарлеме и не такое видел. Поль первым делом наткнулся в полутемном коридоре на чью-то задницу с подоткнутым подолом. По субботам в нашей Доброй слободке происходило мытье полов, и это был тот самый миг. Соседи высыпали в коридор, чтобы взглянуть на живого негра, да еще такого известного. Пионер Витька все время держал салют, пока Робсон, усевшись на сундук в коридоре, долго снимал калоши, от которых все уже отвыкли, затем пальто, затем вязаную кофту Эсланды, которую он поддел для тепла. В столовой он внимательно оглядел стол, схватил половинку яйца, густо (тогда еще) намазанную икрой, быстро проглотил ее и блаженно улыбнулся. Помню, что было шумно и весело, мама пела цыганскую «Рощу», а Поль вполголоса какой-то спиричуэлс, очень задушевно.
Через несколько дней пришла, выпучив глаза, соседка и шепотом сказала, что к ней «приходили оттуда» и спрашивали, был ли Робсон, и кто еще был, и что вообще было. Словом, «снимали показания». Оказывается, я его приглашение должен был согласовать, испросить разрешения. Вот такие были нравы во время «оттепели». КГБ не дремало и, конечно, сделало нужные ему выводы относительно моего самоуправства и шпионских связей.
Вскоре Робсон улетел в Англию, у него был контракт с Шекспировским мемориальным театром, и он долго играл там «Отелло». Эсланда после больницы улетела к нему. Вот одно из ее писем того времени:
«Дорогой Василий!
Я люблю Вас. Я знаю: что так много Вы сможете прочесть. <Письмо написано по-английски, которого я почти не знал.>
Получили ли Вы письмо, которое я Вам послала, с подтверждением согласия Поля на показ или продажу фильма о его жизни в любой части света? Я послала его после того, как приехала и посоветовалась с Полем.
Поль пользуется большим успехом в «Отелло» в Стратфорде. Мы так рады, что он в конце концов согласился сделать это. Правда, он очень устает и, пока идет спектакль, не может особенно заниматься посторонней деятельностью.
Прилагаю вырезку, которую, я уверена, будет рада получить Пера. Передадите ей мою любовь? Выставка рисунков Эйзенштейна в Англии.
Поль говорит что Ваша балетная дама пользуется огромным успехом в Нью-Йорке и он очень рад за нее и за всех вас. Он был очень рад познакомиться с ней в Вашем доме. <Выступления Плисецкой в США, которые состоялись там впервые.>
Мы ждем приезда детей и внуков в начале июля и уже ждем не дождемся этого дня.
Любовь и поцелуи от нас обоих
Эсланда».
Позже Робсон снова прилетал в Москву, мы виделись у него в «Национале». После смерти Эсланды он жил с сестрой в Филадельфии, получал пенсию, но у него был и небольшой капитал, который позволил ему жить безбедно. Он сошел со сцены в буквальном и переносном смысле слова, его часто мучила депрессия, о нем перестали писать, и тогда возникли слухи, что не пишут о нем потому, что он выступает с критикой СССР. Но это были именно слухи, он очень любил Россию, видел от нас только хорошее, у него здесь было много друзей.
27 января 1976 года пришло сообщение, что Поль Робсон умер. Вечером он откуда-то возвращался, упал в саду своего дома и несколько часов пролежал под дождем без сознания, прежде чем его обнаружили, уже мертвого. Было ему 77 лет.
За два года до этого, на юбилейном вечере в Нью-Йорке в честь 75-летия Поля Робсона показали мою картину, о чем написали многие наши газеты. Вскоре я получил письмо от сына Робсона, Поля-младшего, где он просил прислать ему остатки от фильма. И то, и то, и это – он собирался делать телефильм.
…Моя память выхватывает из прошлого подробности, в ней нет цельного, слитного – иначе голова бы раскололась. Волнения, неприятности, надежды, чувства унесены ветрами годов. Зато, подобно чеховскому осколку, блестящему в лунном свете на плотине, живут подробности: то цвет платья актрисы в довоенном спектакле, то запах флоксов в саду, когда уводили арестованного в 37-м году соседа, то убогое убранство избы в деревне на Сахалине, в которой пришлось заночевать…
Так и здесь: когда я просматривл на тусклом экранчике монтажного стола остатки от фильма, сохранившиеся в кинолетописи, и отбирал эпизоды для отправки в Америку, передо мною живо воскресли и ташкентская жара, и ялтинские съемки со школьной доской и Эсландой, перепачканной мелом; и мы на пляже в Сочи, где не успел Робсон раздеться, как его окружила несметная толпа профсоюзных отдыхающих глазеть на черное тело, и мы буквально бежали с пляжа; и милиционер, который свистком остановил машину, чтобы взять у Поля автограф; и вечера на палубе теплохода, где все пели «Подмосковные вечера», а Поль подпевал; и эту дурацкую Кулису, которая прислала телеграмму прямо на концерт в Лужники: «Дорогой Поль, у меня есть мать и отец, но вы мне роднее. Целую ваша Кулиса»; И Вера Марецкая, с которой он долго и весело разговаривал в Ореанде об «Отелло» (она играла Эмилию), и мы не могли понять, отчего они смеются; и этот его концерт на стадионе в Ташкенте, где откуда ни возьмись на помост выбежал с букетом пятилетний негритенок – чернее ночи – и как Робсон радостно засмеялся, взял его на руки и спел «Спи, мой беби», отчего тот действительно заснул, и молодая белая мама поднялась на сцену и осторожно унесла спящего; и как в самолете он мне вдруг показал ноты, которые набросал на клочке бумаги, и объяснил, что верхняя строка из фуги Баха, а нижняя из «Годунова» Мусоргского и что тут и там один принцип, который он только что обнаружил и записал и промурлыкал мне мелодии, но я ничего не понял, а подумал, что все воспринимают его как фольклорного певца и борца за мир, а на самом деле он образованный и знающий музыку, высокий профессионал и Артист с большой буквы; и что это у нас сделали его общественной фигурой, не обращая внимания на его талант, и что я тоже к этому скатываюсь, снимая его со всеми этими дурацкими учительницами или спортсменами; и что Эйзенштейн ценил его именно за артистизм и задумал снять с Робсоном фильм «Черный император» о короле на Гаити, не помню уж как звали его, но сохранились фотопробы в костюме и гриме; и этот диплом Поля об окончании колледжа – с одними пятерками, но когда я хотел вернуть его сыну для архива, то на таможне в Шереметьево диплом задержали, видимо как русскую реликвию (!). И еще вспомнилось много дорогих мне подробностей.
После долгой, изнурительной бюрократии материал со студии отправили в наше посольство в Вашингтон, которое должно было передать его Полю-младшему. Казалось бы. В октябре 1975 года мы увиделись с ним в Нью-Йорке. Он огромный, веселый, похож на Эсланду, а голосом и смехом на отца. Зарабатывает переводами технических текстов. Оказалось, что материал, который я отобрал, он не получил – узнавал в посольстве, но туда ничего не пришло. Он обратился в ООН к нашему представителю, но тот ничего не добился. Я позвонил этому сотруднику в ООН, он ответил, что разговаривал с посольством, и там действительно ничего не получили из Москвы:
– Какой им смысл, Василий Васильевич, таить? Если посольство хочет за это деньги, то оно и сказало бы об этом сыну, а если не хочет отдавать почему-либо материал, то сказало бы об этом мне, чтобы я его не искал. Либо он затерялся в пути, либо его не отослали.
Гм-м…
Работает у нас на студии Зина Симагина, диспетчер. Вот она из тех, про которых говорят «незаменимые есть». Я пришел в 1948 году практикантом, она работала уже несколько лет, я давно уже на пенсии, а она сидит на своем месте! Прихожу я к ней через два года после отправки материала, говорю – затерялся. Она достала накладные, что у нее в полном порядке хранятся вечно, послюнила палец и тут же нашла квитанцию отправления, а главное – уведомление о получении груза советским посольством в Вашингтоне! «Симагину не проведешь!» – заметила она. Симагину – нет, а вот Робсона-сына… Я написал ему обо всем, он – снова в посольство, и ему снова от ворот поворот. А ларчик просто открывался, но долго: в 1979 году мы с Полем-младшим летели из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где открывали «Золотую звезду» в честь его отца. Дело в том, что в центре Голливуда на тротуар впечатывают золотые звезды, посвященные знаменитым киноартистам. На сей раз это был Поль Робсон – первый актер-негр, который удостоился этой чести. Было очень торжественно, народу уйма, выступали Микки Руни, Фред Астер, Сидни Пуатье, мэр.
Так вот, пока летели, мы разговорились, и тут выяснилось, что он, Поль-младший, с годами поумнел и, разочаровавшись, вышел из компартии США к чертовой бабушке! И тогда для меня все встало на свои места: посольство, разумеется, получило пленку (Симагину не проведешь!), но во всем блеске совковой идеологии, мстя Робсону-младшему, этому коммунистическому отступнику, сгноили киноматериал и сделали-таки через сына гадость знаменитому певцу, большому другу нашей страны.
Аркадий Райкин кидает кости
«Партия учит нас, что газы при нагревании расширяются».
Эту бредятину я вспоминаю, стоит лишь мне взглянуть на снимок Райкина в роли Пантюхова. Фотографий Райкина у меня уйма, и каждая вызывает свои воспоминания. Вот эта, где он совсем молоденький, с Риной Зеленой, сразу переносит меня в далекие предвоенные годы.
…Там, где ныне Театр им. Ермоловой, в то время был театр Эстрады и Миниатюр, который пришел на смену Театру им. Мейерхольда. Незадолго до своего ареста Мастер видел в Ленинграде на институтском показе молоденького Райкина, который ему очень понравился, и он пригласил его в свою труппу. Этому не суждено было сбыться – трагическая судьба Вс. Мейерхольда и его театра хорошо известна. Но Райкин все же попал на эту сцену, правда – в другой коллектив.
После разгрома театра Мейерхольда в его помещении недолгое время выступала балетная труппа Викторины Кригер, я по инерции пошел, нарвался на «Бахчисарайский фонтан», это было что-то антисанитарное. Но вскоре открылся театр Эстрады и Миниатюр. Он давал два представления – в 7 и 10 вечера. Каждый раз в программе стояли таинственные «???» и приглашался в виде сюрприза известный московский артист или гастролер. То Ляля Черная, то Смирнов-Сокольский. Я любил этот театр, был смешливым и ходил на все его программы. Однажды эти интригующие «???» явили нам никому не известного молоденького Аркадия Райкина.
В «Одной минуточке» Леонида Ленча Райкин был пациентом, а Рина Зеленая зубным врачом. Он сидел в кресле с открытым ртом и только ногами выделывал неописуемые штуки, а врач без передыху говорила-говорила и, в конце концов, оставляла пациента с забытыми инструментами во рту: «Посидите так одну минуточку». А медсестре бросала: «Я пошла на собрание». И начиналась пантомима Райкина в кресле, которую я описать не в силах… С того вечера все москвичи, что были в зале, полюбили его. Я – навсегда.
Так вот – Пантюхов в спектакле Театра Райкина шестидесятых годов «Волшебники живут рядом». Пьеса Жванецкого. Это был собирательный образ номенклатурщика, тупого и самонадеянного чинуши с хорошей анкетой («родители умерли, сестра утонула».) Пантюхов был наш современник, мы таких встречали на каждом шагу и хорошо знали им цену.
Спектакль этот лег в основу большого фильма, который я снимал о творчестве обожаемого мною Аркадия Ивановича. «Я рано понял – зачем мне учиться, когда я могу других учить? – вещал Пантюхов. – Мне всю жизнь нравились неконкретные специальности – уполномоченный, инструктор, культурник. Я работал и на парфюмерном фронте, выпустил духи под названием «Вот солдаты идут»; затем на стадионе, придумал праздники с народными артистами и лошадьми; потом меня бросили в биологию, там я написал статью «Генетика – продажная девка империализма»; читал доклад на семинаре: «С каждым годом наши слабые токи становятся все сильнее и сильнее».
В те годы такие рассуждения были достаточно смелы, эпизод в картине получился острый и смешной. И хотя сатира, смех и документальное кино – три вещи несовместные, фильм приняли без поправок. Мы удивились, но облегченно вздохнули. И, как вскоре выяснилось, рано: позвонили из Главка и сказали, что нужно сократить эпизоды с Пантюховым. Намекают, что кто-то звонил Романову (министру кинематографии) аж на дачу в Крым. Так-таки в Крым? Да-да! А кто именно и что сказал? Почему вырезать? Этого, разумеется, не говорят, но гонорар не платят и фильм не выпускают. И давят на меня – если не исправлю крамолу, то студию, ни в чем не повинных рядовых работников лишат премиальных. Я мрачно упираюсь, думаю: «Вот из Крыма приедет барин, барин нас рассудит!» Но барин не рассудил.
Очень смешно показал Рязанов в одной из телепередач, как режиссеры являлись перед светлые очи министра: выходит секретарша, открывает тяжелые двери, приглашает войти. Рязанов переступает заветный порог и бухается на колени: «Батюшка-барин, не погуби…» Как говорится, наконец-то слово найдено – «не погуби». С таким же ощущением явился и я на просмотр к министру, где мы смотрели только эпизод с Пантюховым. Вот разговор с Романовым, записанный мною тотчас по возвращении из Госкино 28.11.67.
«– Да, Райкин играет хорошо, но текст не доработан. Непонятно, когда происходит дело.
– Пантюхов говорит в самом начале, что действие происходит «в те самые времена», т. е. в сталинские.
– Ну, вы же не повесите это объяснение на экране, как мочалу (!). В сталинские времена мы построили социализм, чего же над этим смеяться? На таких типах все держалось, они работали в областях, районах. И сейчас много таких. И потом – в театре Пантюхова видели тысячи, а в кино его увидят миллионы.
– Райкин с этим номером выступал по телевидению и его уже видело больше народа, чем увидит фильм. Ничего же плохого не случилось?
– Тем более нечего показывать, раз было по телевидению! (Обращаясь к начальнику главка, хитрому царедворцу с лицом Бенкендорфа.) Ведь нас письмами закидают. Помните тот случай, когда зритель стрелял в экран? (Снова обращаясь ко мне.) Да, да, зрители стреляют в экран, когда им что-нибудь не нравится. Вы что, этого хотите?
– Господи, помилуй! Может быть, они ненормальные?
– Понормальнее нас с вами. Нет, надо решить, нужен ли этот номер вообще. И потом – Пантюхов говорит это известное ленинское выражение о слабом звене в цепи, а зрители в это время смеются!
– Но они же смеются не над цитатой, а над глупостью Пантюхова.
– Так он же оглупляет эту фразу, и она звучит нелепо, а все смеются. И что это за костюм с этими карманами!
– Это френч.
– Я знаю. Его носил Сталин, и люди ему подражали. Но сейчас-то его не носят.
– Да ведь действие и происходит в сталинские времена, поэтому он во френче.
– (Не слушая.) Где вы видели сейчас такие френчи? Это же фальшиво.
– Кстати, наш начальник отдела кадров ходит в таком френче.
– Но нельзя же из-за этого вставлять Пантюхова в картину!
Ну что тут ответить? Разговор зашел в тупик. Решили смотреть картину целиком, вместе с Аркадием Исааковичем. Уходя, Романов спросил начальника главка: «Кто нам сделал это указание?» на что тот ответил, помявшись: «Да это тут мы… посовещались… и решили…»
Вот так. Значит, это обычная перестраховка нашего верноподданного и трусливого руководства. На сей раз поводом, как выяснил Райкин у секретарши, послужило письмо пенсионера (наверняка Пантюхова на заслуженном отдыхе), который увидел фильм, узнал себя, обиделся и тут же написал куда не надо. А Госкино, разумеется, и не подумало защитить ни артиста, ни режиссера, ни студию, ни, в конце концов, себя.
Через два дня смотрим всю картину в том же составе плюс Райкин. Как только зажигается свет, Аркадий Исаакович говорит:
– Смотреть такой фильм без публики, право же, очень странно. Все равно что клоун будет кувыркаться наедине с самим собой. Зрители должны смеяться, а тут гробовое молчание…
Романов: Но прежде чем зрители начнут смеяться, надо решить, можно ли им смеяться. (Будто бы острота.) Скажите только откровенно, – что вы думаете насчет Пантюхова?
Райкин: Ну, раз мы его вставили в картину и я специально приехал из Ленинграда, чтобы его защитить…
В результате, к моему удивлению, Райкин согласился убрать пару фраз. Поговорили еще о несущественных, вкусовых поправках, и Романов спросил начальника главка:
– А не получится у нас, как с письмом к Зусмановичу?
Райкин: Что за Зусманович?
Романов: Начальник Дальневосточной конторы проката. Он получил письмо, что если будет продолжаться демонстрация «Председателя», то ему окна разобьют.
Райкин: Мне кажется, что за эту картину стекла бить не будут.
Собираемся уходить и вдруг начальник главка: «Не сочтите меня перестраховщиком (а именно таковым он всю жизнь и являлся), но вот фразу о слабом звене в цепи империализма я бы посоветовал убрать. Поймите меня правильно, вашу картину увидят миллионы, будут над этой репликой смеяться. А потом они придут в университеты марксизма, в институты и, услышав эту ленинскую фразу, будут хохотать. Нехорошо».
Романов, конечно, поддержал это дурацкое предложение, я начал было спорить, но Райкин встал на их сторону, и я погорел с этой цепью империализма.
В гардеробе, одеваясь, Аркадий Исаакович заметил: «Я все время бросаю кости волкам, чтобы сохранить жизнь». И уже в машине: «Они ведь никогда больше не будут смотреть картину. Поэтому – умоляю – оставьте все фразы. Особенно эту: «В искусстве я продержался долго – с той поры, когда сатиру ругали, и до той поры, когда ее снова начали ругать…»
Что и было сделано.
Софья Вишневецкая, или вдовьи страсти
С Софьей Касьяновной Вишневецкой, вдовой Всеволода Вишневского, меня знакомили неоднократно. Именно неоднократно, ибо она глядела мимо меня, занятая своими монологами. Я был ей неинтересен, не нужен, так как ко Всеволоду Вишневскому, которого она боготворила, не имел никакого отношения и на меня не стоило обращать внимания. Когда же я занялся фильмом о Вишневском – а меня уговорила Пера Аташева, иначе почему бы я за него взялся? – вот тогда она стала узнавать меня за версту и шла на меня танком! Было это в 1959 году.
В честь первого знакомства (для нее, для меня это было чуть ли не десятое) Софья Касьяновна пригласила меня к себе в писательский дом в Лаврушинский, где они раньше жили с Вишневским. Квартира оказалась огромной, обставленной громоздкой мебелью тридцатых годов, вперемежку с ампирной. Посуда была изящная – серебро, хрусталь, фарфор, все старинное, семейное – Софья Касьяновна была дочерью богатого дантиста. Поражала ванная комната, она была метров двадцати, посредине в пол был утоплен мраморный бассейн, в котором можно было делать даже плавательные движения. «Этот мрамор Всеволоду подарили метростроевцы, когда рыли первое метро в Москве», – гордо сказала Софья Касьяновна. Так ли это было на самом деле? Софья Касьяновна часто фантазировала: однажды она подарила мне оранжевый бант с черными полосами, он у меня красуется на гитаре, очень к месту. «Этот бант Всеволод снял с простреленного знамени полка, в котором он сражался в Испании. Это было, когда полк покидал Барселону, у вас это есть в картине. Помните? Всеволод привез эту реликвию мне, возьмите ее на память!» – «Большое спасибо!»
Правда, потом на кончике ленты, на небольшой этикетке я прочел название фирменного цветочного магазина, и бант скорее украшал цветочную корзину, а не простреленное знамя, но так, наверно, хотелось Вишневскому. А может быть, и Софье Касьяновне. Оба они были вояки, любили все связанное с армией и флотом и силой своего воображения, не задумываясь, могли превратить букет цветов в полковое знамя.
Софья Касьяновна по профессии театральная художница, Фрадкину и Вишневецкую я помнил еще по детским театрам довоенных лет. Она оформляла какие-то спектакли и в блокадном Ленинграде. Они с Вишневским провели там все эти страшные годы. О блокаде Вишневский написал замечательно в своих дневниках. Это лучшее, на мой взгляд, что он сделал в литературе. Софья Касьяновна после его смерти все их расшифровала – что было нелегко – и издала.
Творчество Всеволода Вишневского меня никогда не задевало, все его пафосные, торжественные, безапеляционно-лозунговые интонации мне абсолютно чужды, вся эта гражданская война меня не интересует, все у него однобоко: красные хороши, белые плохи. Люди у него отличаются не характерами, а воинскими званиями: «входит старшина третьей статьи»… «второй помощник капитана стреляет»… «капитан третьего ранга говорит»… «контр-адмирал в отставке вдруг вспомнил» и тому подобное. Работая над фильмом, я прочитал все его книги, и только военные дневники произвели на меня впечатление. Но человек он был храбрый, добрый и искренний. Я где-то прочел, что он ежемесячно давал деньги, чтобы посылали Мандельштаму в ссылку. И это при том, как вспоминает Надежда Яковлевна, вдова Мандельштама, что Софья Касьяновна, проходя мимо здания на Лубянке, заметила, что пока существует НКВД, она может спать спокойно. И спала.
Конечно, в двух словах нельзя дать анализ творчества никакого писателя, но это не входит в мою задачу, так, к слову пришлось, – я ведь пишу про Софью Касьяновну. А она взялась за меня всерьез, засучив рукава! Характер у нее был сильный, энергия ее распирала, она была напориста, целенаправленна: ради Вишневского могла снести все на пути – и сносила. Она числилась консультантом, но командовала всей группой, студией и чуть ли не министерством культуры, которое в то время ведало кинематографией. Существует такая категория женщин, которые ничем не смущаются, они энергичные и самоуверенные, перед ними пасует любое начальство. Оно соглашается, если не на все, то на многое – лишь бы они поскорее ушли из кабинета, перестали произносить монологи, звонить, писать и обивать пороги, а нынче и факсы посылать. В кино я знал таких непобедимых – Ю. Солнцеву, В. Строеву, сегодня им подросла смена. Среди писательских жен особой энергией отличались Т. В. Иванова и С. Вишневецкая.
С самого начала Софья Касьяновна не могла примириться с тем, что фильм об Эйзенштейне я сделал в 5 частях, а про Вишневского снимаю всего в трех.
– Это еще почему?!
– Софья Касьяновна, так стоит в государственном плане.
– Так поломайте его!
– Государственный план? Мне его поломать не под силу.
(Кроме того, я считал, что красная цена такому фильму именно полчаса.)
– Вам не под силу, а мне под силу!
Когда я говорил ей, что какие-то вещи сделать невозможно или не нужно, она аргументов не слышала, слышала только, что что-то там «нельзя» по отношению к Вишневскому. И она сразу же бросалась к В. Головне, директору студии, и выходила оттуда, победно сверкая очами: «Видите, вот вы все «нельзя, нельзя», а Головня сказал, что можно!» Я к Головне. Он вежливый, ловкий дипломат, умело обведет вокруг пальца и густо позолотит пилюлю. «Владимир Николаевич! Но этого же нельзя сделать, сметой не предусмотрены расходы, нужно пролонгироваться на два месяца, а главное то, что она предлагает снять, – не существует в природе!»
Улыбается. Все понимает. Рад, что избавился от нее, что выпроводил ее раньше, чем она довела его до инфаркта: «Дорогой Василий Васильевич, разберитесь с ней сами». И меня тоже выпроваживает. И я «разбираюсь»: скандал за скандалом. Я не снимаю трубку, и Софья Касьяновна часами после двенадцати ночи жалуется на меня маме. Мама, держа трубку в одной руке, другою грозит мне кулаком за то, что еженощно вынуждена брать удары на себя.
Сценарий писал Александр Моисеевич Марьямов, который только посмеивался за глаза на замечания Вишневецкой – он ее давно знал, – а в глаза поддакивал и соглашался. Он всегда поступал по-своему и написал сценарий как умел, а не как хотела Софья Касьяновна, а отдуваться приходилось мне. С ним она справиться не могла, он умело избегал ее, изворачивался, не подходил к телефону и сипло смеялся над ситуацией, колыхаясь огромным животом, – вылитый Фальстаф.
Пытаясь увеличить метраж, Софья Касьяновна писала, требовала и грозила. Привезла на студию Константина Симонова, показали ему картину в пяти частях, вчерне. Он должен был подключиться к хлопотам. Силой привезла заместителя министра культуры Кузнецова (бывший важный моряк, был у нас и такой в культуре), ему тоже показали вчерне. Все это выглядело затянуто и рыхло, уныло и неинтересно. Я-то видел это яснее всех, но Софья Касьяновна не разрешала сокращать до показа министерству, благодаря чему мы и шлепнулись сообща. Фильм, к счастью, оставили в коротком метраже.
Софья Касьяновна была высокая брюнетка, красивая, с большими темными глазами. Ходила она слегка переваливаясь, как-то странно стремительно ковыляя. Было ей в то время около шестидесяти. Одевалась элегантно, предпочитая черные и фиолетовые тона, серебро и бирюзу. Вокруг шеи всегда газовая косынка, по этому поводу говорили: «не то богема, не то ангина». Всегда сильно душилась дорогими духами.
Если разведка успевала донести, что Софья Касьяновна появилась в вестибюле (всегда без звонка, как ревизор), я бежал из монтажной сломя голову, но она меня отовсюду выковыривала и начиналось:
– Ну, что вы тут без меня успели?
– Вот вчера я монтировал…
– Да кому это интересно, что вы там монтировали? Садитесь и слушайте, какое я вчера сделала открытие. Оно перевернет всю нашу картину. Уж я-то выбью под это дело из них лишние части! Сознайтесь, я наверно, выгляжу ужасно, я ведь не спала целую ночь!
– Напротив, вы очень хороши собою. (Что она еще там затеяла?)
– Шутки в сторону! Всю ночь я разбирала записи Всеволода, карандаш не читается, какие-то обрывки… Измучилась. На чем он только ни писал, даже на трамвайных билетах.
– Так-таки и на билетах?
– А что вы думаете? Когда его распирали мысли, то выбирать было некогда. Ведь он был боец! Да, так вот, я записала… где же это? (Роется в сумке, там что-то звякает, шуршит.) Это такая мысль, что я до сих пор дрожу. А ведь писал он в самый разгар войны, представляете? Такое мог придумать только Всеволод. (Продолжает рыться.)
– Ах, Софья Касьяновна, скажите своими словами.
– Своими это не то. Тут нужны слова именно Вишневского. А, кроме того, я их забыла после бессонной ночи. А, вот нашла!
Но нашла она лишь очки и теперь продолжает поиск в очках:
– Вот, кажется, это оно: «Дорогая Соня, у меня разболелись зубы, а ты»… нет, это какая-то записка. Куда же я зафурычила? Мне прямо дурно. Это, что ли? «Правление Литфонда предупреждает, что в случае неуплаты…» Дураки, черта лысого они у меня получат. Нет, это тоже не то. Ах, вот она наконец! Но почему все буквы вверх тормашками?
– Вы же держите бумагу наоборот.
– Это я от волнения. Даже руки дрожат. Вот оно – слушайте!
Я замираю. Торжественно, чуть не по слогам, читает:
«Мы победим врага!!!»
И смотрит победоносно: «Каково?!»
Господи, думаю, во время войны не было ни одного блиндажа, ни одного забора, где не был бы написан этот лозунг. Но чтобы не разочаровывать ее (всю ночь не спала!), делаю вид, что у меня в зобу дыханье сперло. Ведь она была влюблена в каждую букву, что написал Всеволод и считала его гением. После его смерти она опубликовала буквально все, что он написал и добилась постановки «Оптимистической трагедии» во всех театрах страны, за исключением разве что Большого. «Ненапечатанное напечатано, непоставленное поставлено. Ей больше нечего было делать на этой земле, и тогда она умерла». Так написал о ней Александр Штейн. Увидев ее в гробу, Пера Аташева сказала: «Это не Соня – она молчит». Правда – я не помню ее молчащей. С ее смертью кончился этот дом, некогда шумный и широкий. Детей у них не осталось.
…Она могла по сто раз смотреть черновой монтаж, ходила на все рабочие просмотры. Сначала я недоумевал, сердился, но потом понял и смирился – она хотела без конца смотреть на Вишневского. Когда он появлялся на экране живой, она умильно улыбалась, иной раз и смахивала слезу. А уж когда видела его фотографию 1918 года в матроске – он ранен, половина лица забинтована, а со второй половины смотрит глаз весело и приветливо, – Софья Касьяновна восклицала: «Всеволод!», – то удивленно, то умиленно, то печально. Я каждый раз ждал это восклицание, даже когда смотрели готовую картину. И всегда вспоминал чье-то описание игры Элеоноры Дузе в «Даме с камелиями», которая много раз произносила «Арман», и каждый раз по-разному… Недавно наткнулся на эту фотографию, – и тут же вспомнил всю компанию – и Всеволода, и Армана, и Вишневецкую, и Дузе.
После премьеры Софья Касьяновна устроила пельмени, позвала всю группу. Мы долго и весело кутили, а потом она всех одарила. Мне она презентовала номерное издание «Le livre de la Marquise» с иллюстрациями Сомова и несколько книг Вишневского. Я все берегу. На одной из них надпись: «Дорогому Василию Васильевичу от замученной им Софьи Касьяновны».







