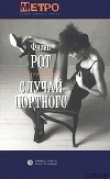Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Вот большая фотокарточка, один Витек сидит, улыбается заносчиво, и голову держит тоже заносчиво. Это у него есть в характере. Сперва заносчивость была открытая, заметная, даже приятная, а потом тихая стала, скрытая, стал ставить себя, хотя и тихо, про себя, но выше всех, считал, что все может и что никто так не может, как он. На карточке только начало, тут все еще открыто – в откинутой голове, в глазах заносчивость еще очень милая, детская. Но в лагере, на пионерском костре, вместо каких-нибудь приличных стихотворений Маршака, или Агнии Барто, или на крайний случай Пушкина он уже читал Вознесенского, чтобы не как все. Летом Витек обычно отдыхал у деда и бабки, на Незнайке, а тут предложили Борису Михайловичу отправить Витька в заводской пионерлагерь, и он согласился, и Витек с охотой поехал. «Ну, как там наш?» – спрашивали Борис Михайлович и Катерина, потому что Витек все-таки первый раз в лагере, хотелось, чтобы не хуже других был. «Мальчик неплохой, особых жалоб не поступало, хотя замечания есть. Как-то прогулял весь день в лесу, совершенно один, без присмотра, и вот еще: на пионерском костре читал Вознесенского». Работница завкома, отвечавшая за лагерь, развела руками, сама-то она ничего в этом не видит плохого, потому что Вознесенского трудно достать, и она не в курсе, но сигнал из лагеря был, просили передать родителям, чтобы обратили внимание, что-то там с Вознесенским не все в порядке, во всяком случае, он не для детей. Борису Михайловичу да и Катерине что Маршак, что Агния Барто, что Вознесенский – все было одинаково, но ушли они домой с какой-то тревогой. Дома попросили Лельку достать этого Вознесенского. Лелька могла достать кого угодно. Между прочим, достала шапку отцу такую, что на завод неудобно было ходить в ней, и он не надевал ее в будние дни, пыжиковая, редко на какой голове увидишь, надевал по праздникам, чтобы заводские не смеялись, вот, мол, начальник какой в пыжиковой шапке ходит, будут, конечно, смеяться, Лелька в пыжиковой ходила, ей можно.
Стали смотреть Вознесенского, смотрели, смотрели, читали, читали, ничего не нашли, сильно пришлось поломать зубы, но плохого ничего все-таки не нашли. Отложили до Витенькиного возвращения. Когда вернулся, отец спросил:
– Ты что там читал на костре?
Катерина сидела, поджав губы, интересно было.
– Ничего не читал. – Витек не успел остыть от возбуждения, оттого что домой вернулся, оттого что в голове еще не утихла шумная лагерная жизнь. – Я ничего не читал.
– А Вознесенского? На костре? Читал?
Отец протянул книжку, попросил показать.
– Лонжюмо.
Полистал, посчитал страницы.
– Длинно, – сказал и начал читать. Читалось с трудом, но хотелось понять, в чем тут Витенькина была вина. Когда дочитал до этих строчек: «Ленин был из породы распиливающих, обнажающих суть вещей», сказал, что это правильное замечание, но потом посмотрел на Витька и спросил: – Витек, как ты это запомнил все? Тут же непонятно для тебя.
– Понятно, – ответил Витек.
– Что понятно?
– Все.
Отец не поверил, но стал дальше читать.
Врут, что Ленин был в эмиграции.
(Кто вне родины – эмигрант.)
Всю Россию,
речную, горячую,
он носил в себе, как талант!
Настоящие эмигранты
пили в Питере под охраной,
воровали казну галантно,
жрали устрицы и гранаты —
эмигранты!
Эмигрировали в клозеты…
– В клозеты? И это читал на пионерском костре? – спросил отец.
– Это я пропустил, – виновато сказал Витек.
– «В куртизанок с цветными гривами – эмигрировали»! Тоже?
– Пропустил.
– Значит, и про куртизанок понимаешь?
– Да, – сказал Витек.
Отец вздохнул, лоб вытер ладонью.
Катерина слушала, мало что улавливала, но отчего-то гордое чувство за Витеньку, нежность к нему омывали ей душу, однако же долго сидеть она не могла, потому что слушать чтение это ей было скучно.
– Выдумывают же, – сказала она, и смысл этого высказывания ей самой не был понятен, хотя был исторгнут из самых глубин ее тихого ликования. Не переставая улыбаться, она встала и вышла, вспомнив о каких-то своих заботах.
Отец и сын остались одни, Витек присел на диван и, поскольку отец не сказал «иди», не отпустил его, он стал сидеть рядом и слушать, как переворачивались страницы, как шептал отец, повторяя про себя какие-то строки.
– Про Ленина, конечно, это он все правильно, но разве ж, Витек, это стихи? И как только ты выучил их?!
Борис Михайлович стихи уважал больше, чем другую литературу, потому что особо длинных почти не встречал и в отличие от романов мог взять и прочитать запросто, без особого труда. Хорошие стихотворения он ставил рядом с музыкой. Все его песни, а он знал их довольно много, по сути дела, были ведь тоже стихами.
– Вот слушай: «В глубокой теснине Дарьяла царица Тамара жила», слышишь? Ведь льется, просто само льется, а там нет, у Вознесенского не льется.
– А мне нравится, – сказал Витек.
– Ну, если нравится, это неплохо, все-таки время сейчас другое, школьники умней теперь намного, чем раньше, и хорошо, что ругательные слова ты пропустил, они ни к чему на пионерском костре, пришлось бы мне отвечать. Тут, Витек, ты молодец. Но раньше все же лучше писали, особенно про войну. Ты «Василий Теркин» Твардовского читал?
– Не читал.
– Почитай. Ни одного ругательного слова, а слушаешь по радио – плачешь. Вот я сейчас, ты посиди пока.
Борис Михайлович торопливо поднялся с дивана. Из Лелькиной комнаты – покопался там на полочке – принес книжку в сером переплете. Когда-то Лелька читала вслух, Витек был маленький, ничего еще не понимал, а отец с матерью целый вечер слушали, сильное впечатление было, после чего Борис Михайлович даже под гитару попел лучшие свои песни.
– Сейчас почитаем.
И Витек так послушно сидел рядышком, так слушал отца, что от одного этого настроение делалось каким-то особенным, совместным и трогательно-душевным. Не было ни большого, ни маленького, а были просто двое близких и совершенно одинаковых человека, которым было хорошо сидеть рядышком и даже не очень важно о чем говорить.
– Вот, – сказал отец и начал читать. Читал теперь по-другому, глухим, хорошим голосом.
На войне, в пыли походной,
В летний зной и в холода,
Лучше нет…
И пошло, и полилось слово за словом, складная строчка за строчкой, и голос Бориса Михайловича временами то пресекался, то дрожал, то совсем замолкал, делал паузу, и тогда Витек поднимал глаза на отца и видел, как тот затруднялся в чтении, перебарывая какую-то неловкость, губу закусывал, вздыхал или втягивал в себя воздух, чтобы превозмочь то, что мешало ему. Витек догадывался, что отца вот-вот слеза прошибет, так наваливались на него переживания, так он возбуждал себя сам своим чтением. И в одну из пауз Витек вставил замечание:
– Но это тоже длинно?!
– Длинно.
И едва ль герою снится
Всякой ночью тяжкий сон,
Как от западной границы
Отступал к востоку он,
Как прошел он, Вася Теркин,
Из запаса рядовой,
В просоленной гимнастерке
Сотни верст земли родной.
До чего земля большая,
Величайшая земля,
И была б она чужая,
Чья-нибудь, а то – своя…
Витек потихоньку втягивался в это переживание, поддавался под отцовское настроение.
А застигнет смертный час,
Значит, номер вышел.
В рифму что-нибудь про нас
После нас напишут:
Пусть приврут хоть во сто крат,
Мы к тому готовы,
Лишь бы дети, говорят,
Были бы здоровы…
– Эх, мать… вот… – вздохнул Борис Михайлович после паузы и никак не мог собраться, чтобы дальше читать…
Неожиданно вошла Катерина, хотела что-то сказать, но увидела хныкающего Витька, как-то неестественно отвернувшегося Бориса Михайловича, переменила выражение лица и строго, уже приготовившись наброситься с руганью на виновника, спросила:
– В чем дело? Отец, ты, что ль, обидел парня? Витек!
Борис Михайлович повернул к ней раскисшую, с мокрыми глазами, физиономию и, улыбаясь виновато, стал оправдываться.
– Ну, читали стишок один. Что ты пристала? Никто никого не обидел.
Витек кулаком размазал по лицу слезы и перестал хныкать.
– Два дурака, старый и малый. Отплачетесь, идите ужинать.
Счастливая Катерина сняла зачем-то веселый, в голубеньких цветочках, передник и вышла из комнаты.
Плачущие дураки, старый и малый, опять остались одни.
22
Ах, Витек, Витек! Бывает так, является на свет человек, нарождается, ничего еще не знает, куда он попал, что с ним такое сделалось, что это за белый свет, где он будет жить, не может понять, где же он раньше находился, вернее – что нигде и никогда его раньше и вообще во веки вечные не было. И вот он является, а ему тут плохо, не нравится, нет, не то что не нравится, а как-то не подходит ему все, никак он не может приспособиться к условиям, к нескладному и неуютному миру, и начинается беда, мается, мается, а толку никакого, тяжко, плохо, невыносимо, запои, трагедии, комедии, драмы. Вовка от этого, наверное, и застрелился. Жизнь на земле не подошла ему. Про Витеньку такого сказать нельзя, он – полная противоположность. Ему жизнь, хотя и не совсем вовремя он появился, улыбалась с первых дней, с первых дней он чувствовал себя на белом свете, как дома. Взял чужую машинку, или чужую лопату, или вообще любую игрушку – и пошел, и не понимает, что игрушка чужая, что есть свои люди, есть и чужие. Или встал, отряхнул штанишки, оставил свои игрушки и пошел. Куда пошел? А никуда. Просто пошел и пошел по земле куда глаза глядят. Потому что ему повсюду хорошо, он везде дома. Заглянул с отцом или с матерью к знакомым на минутку, а там за столом сидят, обедают, и, не спросись и вообще не понимая, о чем тут раздумывать, садится к столу, найдет место, садится и ждет, пока ему подадут, или скажет, если ему что-то не нравится, скажет, что этого не надо, а надо вот это. Мать покраснеет, знакомые засуетятся, загалдят, смеяться начнут с одобрением, хвалить Витеньку. Да за что хвалить-то его? Просто пришел он в этот мир с хорошим набором хромосом, как сказали бы ученые дяди, потому и удобно ему в этом мире, потому так просто он ориентируется в нем. Да никогда бы сам Борис Михайлович и не додумался до этого, за что его так благодарили директор школы и Витенькины учителя. Это в четвертом классе, когда Витек учился на Первой Строительной, когда он «Крокодилом» увлекался, сатирой и юмором, когда его любимыми книжками были книжки одного, теперь уже покойного, детского писателя – «Расскажите мне про Сингапур», «Он живой и светится», «Гусиное горло». Учителя и директор школы благодарили Бориса Михайловича, специально вызывали для этого на школьный утренник, куда якобы отец Витеньки пригласил этого писателя, ныне уже покойного. Школьники и учителя животы надорвали, просто обхохотались, когда выступал писатель, в прошлом к тому же еще и актер. Было так смешно, что не хотели отпускать писателя, к сожалению ныне уже покойного, а главное, как сказал директор школы, главное – педагогично было, смешно и педагогично, без отклонений. «Так что большая вам благодарность, Борис Михайлович, от всего коллектива школьников и учителей, надеемся, что и в дальнейшем не откажете нам в помощи и так далее». – «Да что вы, не стоит благодарности, очень приятно, что так получилось и так далее», – еле-еле бормоча и чуть ли не заговариваясь от какой-то страшной путаницы, ретировался Борис Михайлович, вздохнул облегченно за воротами школы, а вернувшись домой, тут же приступил к допросу Витеньки: «Что за ерунда, Витек, какая-то чепуха на постном масле, никакого писателя я не приглашал, да и знать его не знаю, что ты наговорил там, Витек?» Ничего Витек не наговорил, просто он сам пригласил, но не мог же директор поверить, что учащийся четвертого класса сам мог пригласить такого выдающегося и смешного писателя, хотя тот так и представился в школе, вот, мол, приехал к вам по приглашению Витеньки. Но кто же в это мог поверить? Конечно, подумали на родителей. Да и сам Борис Михайлович не мог в это поверить.
– Не может этого быть, – сказал он Витеньке. – Откуда ты знаешь этого писателя? И как это тебе в голову пришло? Расскажи, пожалуйста, поделись.
– Очень просто, – сказал Витек. Для него ведь все было просто. – Во всех книжках есть телефон издательства, я позвонил, попросил телефон Виктора Иосифовича…
– Виктора Иосифовича?
– Да, Виктора Иосифовича. И тогда я позвонил Виктору Иосифовичу.
– Виктору Иосифовичу?
– Я же говорю. И он приехал.
– Согласился?
– Ну конечно, согласился.
– Так. Очень интересно. А кто тебя просил звонить, приглашать?
– Никто не просил, я сам.
– Взял и позвонил? Писателю?
– Ну что ты, папа, смешной какой.
– Смешной. А почему ты маршалу какому-нибудь не позвонил? Или в Совет Министров хотя бы?
– А зачем мне маршалы? Они мне не нужны.
– Какая-то опять чепуха получается. Все равно я не понимаю, как это пришло тебе в голову?
– Да ничего мне не приходило в голову, просто я хотел устроить Вовке прощальный утренник, потому что он из нашей школы уходит.
– Куда уходит?
– В другую школу.
– Что, они переезжают отсюда? Тетя Наташа переезжает?
– Да нет, просто Вовка уходит, и все.
– Почему? В спецшколу, что ли?
– Да нет, он девочку одну любит, из четвертого «Б», просто жить без нее не может, а она его не любит. Ну и он уходит из школы.
– Так бы ты сразу и сказал. Теперь ясно. Вопрос, конечно, серьезный, да, прощальный утренник. И директор тоже захотел прощальный утренник сделать для Вовки?
– Нет, он не знал, он согласился просто утренник, и все, а прощальный – это я сделал для Вовки, никто этого не знал.
– Просто по-дружески?
– Да.
Через какое-то время, через месяц или через два, Борис Михайлович вспомнил эту историю.
– Витек, а вот тетя Наташа говорит, что Вовка никуда из школы не ушел. Значит, не получилось?
– Он не стал уходить, потому что оказалось, что эта девочка тоже его любит.
– Ах вот как. А у тебя тоже, конечно, есть девочка?
– Нет, мне они задаром не нужны. У Вовки это любовь, он ничего поделать не может.
– Ясно, понятно.
А суть, конечно, не в этом, не в этой девочке, а в том, как это он легко сориентировался, взял и устроил утренник для друга. Четвероклассник, одиннадцатилетний глупыш, Лелька в этом возрасте одна в темной комнате боялась оставаться, в куклы еще играла, а этот взял и незнакомому человеку, писателю, позвонил и привел его в школу, да этого писателя могло бы и на свете-то не быть, теперь его, к сожалению, действительно уже нет, но ведь он этого не знал, просто взял и позвонил, как приятелю своему, и не ошибся ведь, тот и отозвался, как приятель какой-нибудь, одноклассник какой-нибудь и как миленький прискакал в школу, вот, мол, я к вашим услугам, по Витенькиному вызову. И как все просто, туда-сюда, книжка, телефон – и все готово. Нет, эти ребята не заблудятся. Москва, где сам черт потеряется, для этих ребят – родной дом. Не любит девочка – уйду из школы, любит – остаюсь, не ухожу. Борис Михайлович рассказывал тогда на заводе мужикам своим, посмеялись, но на тему эту поговорили. Оказывается, они сплошь и рядом такие, еще и похлеще номера откалывают.
«Невыносимо жить нелюбимым у нелюбимых родителей». Откуда это взялось? Ведь неправда это, неправда.
23
К концу седьмого класса ростом Витек догнал отца и мать, и у него появилась привычка головой вскидывать челку, наползавшую якобы на глаза. Сидит ли, стоит, разговаривает с кем, хоть с отцом, хоть с учителем, все равно – дерг, дерг, откидывает челку, чтобы не мешала, а она и не мешает, не такая уж это челка, чтобы мешала, но все равно – дерг, дерг. Понятно, взрослеет парень, но все же не очень приятно бывает, когда он все время дергается, головой кидает. Привычку эту привез он из пионерского лагеря, куда поехал после седьмого класса уже не простым пионером, а руководителем радиокружка, и не в свой лагерь, а в чужой, какого-то другого завода, по рекомендации Дворца пионеров.
Дома узнали об этом в самые последние дни перед Витенькиным отъездом, потому что к этому времени, уже в седьмом классе, Витек стал малоразговорчивым, на вопросы отвечал кратко – «да» или «нет», сам о своих делах никогда не говорил, если можно было промолчать – молчал, если спрашивали – мог или отмолчаться, плечом пожать и ничего не ответить, или сказать «да» – «нет». «Куда направился, Витек?» – «По делу». – «По какому такому делу?» – «Нужно». – «Витек, ты не уходи, матери поможешь, и за картошкой надо сходить». – «Сегодня я занят». – «Чем занят?» – «У меня дела». Так, дела. И какие же это дела, что и сказать о них никак нельзя? Вспоминает Борис Михайлович, нет, не может вспомнить, чтобы у него в этом возрасте были бы какие-то особые дела, про которые можно было бы говорить: пошел по делу. Чепуха какая-нибудь на постном масле. А вот же нет. Не могу. Мне нужно по делу. Иной раз Борис Михайлович просто из себя выходит, да что это за дела такие, возьмет своего Витеньку за подбородок, поднимет, чтобы глаза глядели прямо, и строго, по-настоящему осердясь, спросит: «А ну-ка говори, ты что, отцу не можешь сказать, что это за дело такое у тебя?» В первое время Витек еще сдавался: «Ну, скажет, мальчику одному книжку отвезти надо». Отпустит отец. «Иди. Туману напускаешь, темнишь перед отцом, как будто трудно сказать, что книжку надо отнести. Темнит он. Чтобы я не слыхал больше». Но проходит время, и: «Витек, ты куда?» – «По делу». – «Опять по делу?» – «Ну что пристал, надо мне». – «Иди, осел упрямый». Сдался Борис Михайлович, сдалась Катерина, отступили родители. Шут с ним, раз уж так к отцу, к матери относишься. Дельный какой стал. Однако на этот раз действительно ездил по делу: то во Дворец, то на тот завод, на какой именно, так и не сказал, что-то улаживал там, утрясал, знакомился, а перед самым отъездом – как снег на голову: никуда он ехать не может, ни к деду на Незнайку, ни в свой лагерь, а вот руководителем радиокружка, с детьми чужого завода. Руководителем. «Вот, мать, полюбуйся на руководителя». А если мы с матерью не пустим этого руководителя? Возьмем и не пустим? Куда? Зачем? Кто спросил у нас, у родителей? Как это? Ребенок уезжает руководителем, а отец с матерью знать ничего не знают? Не пустим, и все. «Да как же вы не пустите, когда все уже согласовано и есть приказ?» – «Согласовано. Ну, раз согласовано, то поезжай, собери, мать, смену, мыло, зубную щетку. Или и этого не надо, как руководителю? Ну, а как с адресом? Или все засекречено?» – «Адреса я не знаю, напишу оттуда». – «А проводить можно?» – «Провожать не надо». – «Почему?» – «Да не люблю я, будете там… сюсюкать».
Уехал. «Надо, мать, как-то перестраиваться. Ты видишь, что получается? Нету ребенка, кончился. Привыкать надо к другому». И приятно было, какая-то была радость у Бориса Михайловича, подспудная, и в то же время грустно: ребенок кончился, уходил во взрослые, рановато, конечно, а вот уходил уже. А слово свое Витек сдержал, сразу же написал оттуда. Здравствуйте, мама и папа, и так далее. Молодец какой. Растет, конечно, взрослеет, но молодец сыночек, здравствуйте, мама и папа, даже пригласил, это уже в следующем письме, пригласил приехать, навестить. Ездили, навещали ребенка своего, руководителя.
Пробыл Витек два срока и, когда вернулся, начал вздергивать голову, челку отбрасывать. Совсем взрослый парень.
– Ну как? – спросил отец.
– Ничего, – ответил Витек. И головой – дерг, дерг.
– Как это ничего?
Плечом пожал. Как ничего? Обыкновенно, неплохо, значит, что еще от меня хотите? В этом смысле пожал плечом. И челку кинул со лба.
– А все же?
– Что все же?
– Ты что, не понимаешь, о чем тебя спрашивают? Я спрашиваю, как там?
– Ничего. – Головой дерг, дерг.
– Да что ты все дергаешь, как кобыла хвостом?
Витенька пожал плечом, обиделся, повернулся уходить.
– Ты куда? С отцом говорить не хочешь?
Остановился Витек. Молчит. Насупился.
– Ну иди.
Черт их знает, как с ними разговаривать.
– А никак, – сказала Катерина, наблюдавшая со стороны и сочувствовавшая мужу, даже как-то жалко ей стало смотреть на него. – Ничего не надо, отец, он же совсем не хочет разговаривать с нами, накатывает на него, накатит, и он немым делается, не хочет говорить. Не обращай внимания.
Стало действительно накатывать на Витька. Не отвечает, а отделывается какими-нибудь «да» – «нет», не разговаривает, а прямо страдает, так не хочется ему разговаривать с отцом-матерью. Но чуть зазвонил телефон, сразу другой Витек, если Вовка или еще кто, тут и лицо меняется, уже совсем не замкнутое, не деловое, а распустится, размякнет, разулыбается: «Да ну тебя! Когда? Да не смеши ты». Ш-ш-ш-ш или х-хи-и-и-и – это он смеется так, просто удержу нет. Отговорил, отсмеялся, опять замкнулся, опять накатило. «Куда?» – «По делу». «Да» – «нет» и так далее.
Ничего, говорит Катерина, не обращай внимания, это пройдет, ребенок растет, нынче все такие, погляди на Вовку, то же самое.
Ну и хорошо, пускай растет.
24
– Вот видишь, – встретила Катерина вернувшегося с работы Бориса Михайловича. – Видишь?
Она показывала приглашение Дворца пионеров. Витек принес. Премии будут выдавать. Витеньке тоже.
– За что премии?
– За магнитофон. Витенька выставил свой магнитофон и вышел на премию. А как разговаривал, все мама, мама, то, се, как хвалили его, вот и фотокарточку принес, посмотри.
Верно. Стоит Витек в белой рубашечке, руку на магнитофон положил, а голову, конечно, чуть-чуть вскинул, видно, что зазнается немного, но ничего, все-таки физиономия приятная, радостная, счастливая.
– Я говорю: «Ты позвони Лельке, она тоже придет». Позвонил: Лелька, приходи, мол, да тут, говорит, одно мероприятие, а что – не говорит, приходи, мол, только не опаздывай, к двенадцати завтра. «Да что ты, – говорит, а сам смеется, – завтра же воскресенье».
И Лелька придет. Живет она отдельно. Уже скоро год, как дали ей однокомнатную, как барыня, одна живет, обставилась хорошо, а замуж почему-то не идет. «Ты что же, замуж не думаешь?» – «Не спешу, мама, куда спешить. Он меня любит, а больше мне ничего не надо». – «Доченька, у него же семья. Как так можно?» – «Ты, мама, не современная, у тебя старомодные понятия». – «Ох, современная, гляди, ребеночки-то по-старомодному получаются, гляди, как получится». – «Ты, мама, за меня не волнуйся». Правда, человека своего хвалит Лелька, квартирку отхлопотал ей, заботится, любит ее, а там, кто их знает, может, и правда обойдется все. Так-то Лелька – куда уж лучше, если бы все такие были. Только вот семейный он, а что по годам старше, так и Боря у меня тоже старше, молоденькие, они дурачки никудышные. Может, и обойдется.
Евдокия Яковлевна тоже смотрела фотографию, тоже ахала, радовалась, а когда Витек пришел из школы, спросила у него, где это он стоит. «Да там…» – отмахнулся Витек. Все-таки от бабушки он отошел уже окончательно, она переживала про себя, но что она могла сделать? Она все больше и больше становилась одинокой в своем доме.
Лелька нарядилась, как месяц ясный, свет от нее во все стороны, челочка, кофточка беленькая с голубыми окантовками по кармашкам, по воротничку, юбчонка мини, конечно, хотя и в райкоме работает, румяненькая, пышненькая, вот уж действительно купеческая дочка. Влетела, сразу праздником каким-то повеяло. Мать полюбовалась, вздохнула. Потеряла мать всю свою былую привлекательность, растолстела, никакой фигуры, одни только щеки сияют, но приоделась, приодеться было во что. Отец нарядился в праздничный костюм, без галстука, душно стало ему в галстуке, шею разнесло, за животом ног своих уже не видит. Зато Витек у них, как тополек, стройненький, ничего лишнего, одни губы припухшие, а так ничего полного. Ресницы, как у девчонки, густые, глаза серые, с голубинкой, длинноногий, не как отец или мать или даже Лелька. Гонит его в рост. Вышли полным семейством, правда, без Евдокии Яковлевны, после инфаркта никуда уж она не годится. Идет счастливое семейство, и Витенькина голова уже над всеми выглядывает.
– Ты только головой не махай там, – отец просит, вроде в шутку говорит.
– Да я и не махаю. – А сам дерг, дерг. Взрослый уже. Ясно, что перенял у кого-то, у взрослого. Нравится ему.
Дворец-то недалеко, почти что рядом. Сперва обошли нижний этаж, всякие залы, в одном бассейн для рыб и разных растений, для красоты, лестницы, украшения, выставки игрушек, другие выставки в закрытых залах. Настоящий дворец. Весь и обойти его невозможно. Все теперь для детей. Не то что было. Борис Михайлович вспомнил, как на трамвае ездил, каждое утро вставай и пошел с пересадками, на двух трамваях, гремит, трясет, до костей этот железный лязг достает. Бросил техникум, на завод пошел, а годиков столько же было, как вот Витьку, а ему вон дворец какой, как в заграничном кино. Хочешь – играй, хочешь – мастери, или рисуй, или спортом, любым видом, занимайся, чего душа желает. Не уходил бы отсюда, так бы и ночевал тут. Да, им теперь все.
– Мам, ты сюда погляди, видишь?
– Вижу, вижу! Отец, погляди, рыбы какие!
И дети, нарядные, живые, шумные, снуют по лестницам, по коридорам и залам, все куда-то спешат и не запутаются в бесконечных переходах, как дома живут. В одно место заглянули, дверь открыли, там балерины танцуют. Настоящие балерины, учатся, В другом месте хор поет. Как поют, господи!
– Я уже не говорю про нас с отцом, и у тебя, Леленька, не было такого.
– Да, мама, я университет в старом здании кончила. Историки и сейчас там, на Моховой.
– Вот она, выставка Витенькина.
Лелька обняла Витька за плечи, и он не противился, ему вдруг дико приятно стало, пусть даже ребята увидят или руководитель их. Это сеструха моя, Лелька, поняли, битюги? Вот уже зыркнули двое. Ну и что? Зыркайте, сколько хотите, Витек не отстранился, в обнимку подошли они с Лелькой к стенду, под стеклом стоит его магнитофон, на беленькой аккуратненькой наклеечке заглавными буквами напечатано – Мамушкин Виктор и название модели магнитофона. Лелька прижала Витька к своему боку и поцеловала его в висок. Дико приятно.
Отец с матерью подошли. Мать улыбается и, как всегда, когда ей радостно, немножко головой поводит из стороны в сторону, глядите, мол, чудеса какие.
– А механическую часть? – спросил отец.
– Сам вытачивал, – сказал Витек и сделал при этом особый знак или жест головой и плечом, который в переводе на слова обозначал: что же тут особенного?
– Да, конечно, вам теперь все можно, – сказал Борис Михайлович и опять вспомнил себя, давние дни, когда приехал в этот огромный город в нежном своем возрасте, в каком находился сейчас Витенька. Увидел себя, деревенского мальчика, поставил рядом с Витенькой – нет, два совсем разных паренька, наверное, и знаться не хотели бы друг с другом. И почему-то жалко стало себя. И как-то безотчетно и вроде совсем ни к чему тронул рукой голову Витька, потеребил волосы.
– Ну, Витек, где у вас тут собрание?
В небольшом зальчике сиденья поднимались уступами, как в театре. Все ряды до самого верхнего были заняты нарядно одетыми родителями и их счастливыми детьми, именинниками нынешнего торжества. Зальчик был освещен слабо, зато невысокая сцена сияла под сильными лампами, как летняя площадка под открытым небом. Председательствовала крупная женщина, одетая как-то неофициально, в цветастое платье, и была похожа на хорошо обеспеченную домохозяйку. Рядом сидели еще двое: лысый человек в довольно поношенном костюмчике с короткими рукавами и молодой парень в свитере, представитель комсомола.
Женщина объявляла, вызывала авторов изобретений, то есть детей, молодой человек отбирал соответствующую грамоту и подарки, передавал женщине, и та вручала дипломы, грамоты и подарки юным изобретателям, которые отделялись от счастливых родителей, проходили между рядами под лучезарным светом глаз всего зала, поднимались на сцену, в сиянии ранней своей славы. Если экспонат удобно было демонстрировать, его демонстрировали, показывал сам автор или группа авторов. По сцене то и дело что-то передвигалось, гудело, тарахтело или тихонечко скрежетало и повизгивало железными конструкциями. Тяжело, со скрипом, робот поднимал руку, переставлял ноги, мигал разноцветными глазами и железно что-то неясное говорил. На длинных тросах колесили танки, бронемашины, сложными путями двигались другие машины, управляемые по радио, даже летающие модели современных самолетов были показаны в этом небольшом зале. И уж совершенно исключительными были сами авторы, юные техники и изобретатели, в красных галстучках, маками расцветавших на груди, и без галстуков уже, с комсомольскими значками на беленьких рубашках, вихрастенькие, причесанные, с челками и стриженые, белоголовые, как пшеничная солома, рыженькие, черные, как галчата, и у всех по-разному сияющие глаза, по-разному смышленые, умные лица. Смотреть на это можно было без конца, и нельзя было смотреть без слез, все время застилавших родительские глаза.
Катерина то и дело толкала в бок Бориса Михайловича: а этот, мол, гляди ж ты, от горшка три вершка, а что учинил, а робот, робот, страшилище, а с ними, гляди, девчушка, ах ты пичужка, молодчина какая, тоже изобретатель. Борис Михайлович только вздыхал да украдкой вытирал глаза, вот слаб стал на слезы, стареть начал, раньше, бывало, черта с два выдавишь у него слезу, а теперь просто деться некуда. Витька выкликнули. Встал он, перелез через коленки отца, между ним сидел и матерью, перелез через коленки, а Лелька еще достала его, руку пожала, и пошел Витек, тоже освещенный лучезарным светом сотен глаз, тоже к сиянию своей ранней славы. Поднялся по лестничке на сцену, и вот опять немножечко заносчиво голова приподнята, вот он подошел каким-то особым, вроде и не детским, шагом к этой председательше, и она сперва объявила, что вот, Мамушкин, мол, Витя, Виктор, за изготовление оригинальной конструкции магнитофона ММ-2-14, что расшифровывается так: магнитофон Мамушкина, рассчитан на две скорости, автору четырнадцать лет, ММ-2-14, – награждается дипломом первой степени, грамотой горкома комсомола и ценным подарком, а именно заварным мельхиоровым чайником с расписной чашкой и таким же блюдечком. Все это по очереди вручала председательша в цветастом платье и после каждого предмета жала Витьку руку, которую он протягивал ей под страшный гром и рукоплескание зала. От рукоплескания, почти непрерывного, шумело в ушах, а сцена расплывалась в какое-то яркое, многоцветное пятно. Борис Михайлович даже как-то и не заметил, что Витек уже сошел со сцены и там вызывали уже другого, все у него расплывалось. Мать приняла на руки подарки, которые неловко едва донес Витек до места, а Лелька все время ерзала и подскакивала, схватила Витька за голову и звонко, на весь зал, расцеловала.
Немного отсиделся, собрал себя в руки, все же отец был, мужчина, Борис Михайлович сказал:
– Спасибо, сынок, порадовал нас.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)