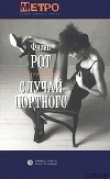Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 25 страниц)
Витенька
Витенька
Роман
1
В тот день в первом этаже старого кирпичного дома по улице Потешной, в тесной одиннадцатиметровой комнате, в семье Мамушкиных родился Витек.
Каждое утро Борис Мамушкин спрашивал Катерину, жену свою, не пора ли, не остаться ли ему на всякий случай. Сегодня, еще в постели, опять спросил:
– Ну, что слышно у тебя?
– Нет, Боря, ты иди, не время еще.
Борис побудил дочку, чтобы не проспала в школу, сделал на коврике, между кроватью и диваном, три приседания, потолкал воздух перед собой. Во дворе, как и минуту назад, разыгрывалось метельное утро начала весны. Но тут неожиданно заплакала Катерина, сидела в кровати, подтянув одеяло к подбородку, и всхлипывала, глотая слезы, Лелька не притворялась, как всегда, спящей, не капризничала, а тихо выглядывала из постели темными притаившимися глазами.
За дверью прошлепали шаги Марьи Ивановны, соседки. Шаги не такие, как всегда, с шарканьем, с ленцой, а гораздо более нервные. Прошлепали на кухню, но тут же вернулись обратно. Без стука отворилась дверь.
– Ну, чего голосишь? – сказала она осипшим голосом и опять ушла на кухню, стала греметь там кастрюлями, чашками, ложками, передвигала без надобности табуретки.
А в маленьком скверике, над пустырем, над речкой Яузой все так же разыгрывался метельный день ранней весны.
– Чего ж теперь плакать? – опомнился Борис, стал натягивать брюки.
– Мне, Боря, в больницу надо, – всхлипнула Катерина.
– Ну, вот…
На кухне уже сидел за своим столом дядя Коля, муж Марьи Ивановны, сухонький человечек с крупным отвисшим носом. Перед ним стояла распечатанная четвертинка. Марья Ивановна подогревала что-то на плите.
– Ага, Боря, – сказал дядя Коля вышедшему Борису. – Давай-ка, Боря, по маленькой.
– У меня там Катерина в больницу просится.
– Значит, по две маленьких.
– Не могу, дядь Коль, Катерину поведу.
Марья Ивановна оглянулась, хотела спросить что-то, насчет, видно, Катерины, но ничего не спросила.
– А тебе, – сказала она дяде Коле, – лишь бы повод.
– Это не повод, Марья, Катерина рожать хочет. Человек выпить должен.
– Его-то не впутывай с утра.
Дядя Коля выпил, опрокинул в рот маленький граненый стаканчик. Марья Ивановна поставила перед ним сковородку, сама присела, попросила капнуть в лафитничек.
– Все же ты не совсем у меня глупая, – сказал дядя Коля, довольный, что слова его дошли, убедили супругу.
Неслышно вошла тетя Поля, сестра Марьи Ивановны, совершенно глухая старуха. От глухоты своей она глядела на всех обиженно, исподлобья, ей все время казалось, что от нее все что-то скрывают, постоянно что-то утаивают. И сейчас топталась она, исподлобья поглядывала по сторонам, обижалась, конечно.
– Ну, чего? – не выдержала, спросила мужским басом.
– Катерина рожать собралась.
– Так бы и сказала. – Тетя Поля вынула из кармана передника пачку «Прибоя», закурила и пошла вон, в комнату.
2
Марья Ивановна заторопилась на службу, работала она домоуправом, Борис и Катерина, одевшись, вышли из подъезда и столкнулись с Евдокией Яковлевной. В накинутом на голову платке, в белом халате, она возвращалась с дежурства. Больница имени Ганушкина была тут же, за деревянным забором, и Евдокия Яковлевна, служившая там сестрой, бегала на работу по-домашнему, накинув платок, без пальто даже в зимнюю стужу. Столкнулась у подъезда с Катериной и Борисом, все поняла.
– Боря, ты ж смотри, осторожней идите, – сказала она в спину уходившим.
Поземка мела тропочку по-над Яузой и со свистом падала в черную воду. Борис держался сбоку, так, чтобы Катины ноги в черных поблескивающих ботах не сбивались с тропочки. Катерина то и дело приостанавливалась, вздыхала:
– Ой, Боря, ой, Боря.
– Ты что, боишься? С Лелькой не боялась? Одна, без меня, и война кругом.
– Ой, Боря! Ой, Боря!..
Борис остановился, повернул к себе Катерину: ну, что? Глаза ее были влажные, вроде счастливые и… виноватые.
– Помнишь, Катя? Ты писала мне, как с Лелькой вот тут шла? Помнишь? Хотела сперва в кино зайти, а потом в больницу. Помнишь? Хорошо, что билетов не было. Через два часа ты родила. Помнишь? А то пришлось бы в кино рожать.
– Ой, Боря, помню, – всхлипнула Катерина, усмехнувшись.
– Мы вот что, раз уж такое дело, мы давай так: если парень – Виктором назовем, если девка – Виктория. Знаешь почему?
– Нет, Боря.
– В переводе с иностранных языков Виктор значит победитель, Виктория – то же самое. Поняла?
– Поняла, Боря.
На трамвай они не стали садиться, одну остановку, до самой улицы Короленко, лучше пешком пройти, спокойней.
Катерину увели наверх.
Возвращаясь домой с узлом Катиной одежды, Борис позвонил из автомата на работу, сказал, чтобы его не ждали сегодня. Конечно, каждому дураку приходит это в голову. В конце концов, думал Борис, может быть, это и неплохо, может, в этом что-нибудь такое есть даже, и правильно, пусть будет Виктор или Виктория, в конце концов. А вообще-то, конечно, загадка жизни. Дите еще не появилось, его еще нету, оно еще ничего про нас не знает, а мы тут… Вот какие дела, Виктор-Виктория. Но вы не горюйте, мы сами за вас отгорюем, а вы орите сперва погромче, раздувайте легкие, пригодятся. Вот и весна начинается, переживем, ничего…
3
Борис занес Катины вещи домой и сразу же, не раздеваясь, побежал дальше. Смотался на фабрику-кухню, где работала Катерина буфетчицей, откуда ушла она в декрет, достал там мандаринов, девочки из буфета насовали всяких гостинцев для Кати, записочек понаписали. Потом опять заскочил домой, потому что теща, Евдокия Яковлевна, настояла взять баночку квашеной капусты – «надо, Боря, обязательно надо капусты», – и с полной авоськой снова на Короленко.
Окно для передач было закрыто, и Борис ничего в этот день не добился. Назавтра снова пришел со своей авоськой, опять окно закрыто. Стучать не посмел, стал ходить по приемной, стены разглядывать от нечего делать, плакаты на стенках, потом натолкнулся на список рожениц. Билетики засунуты за планочки и на этих билетиках фамилии. По алфавиту, в несколько рядов. Пустых билетиков почти не попадалось, на каждом под фамилией проставлены число, пол и вес новорожденного, мальчик, девочка, мальчик, девочка. Опять загадка природы, подумал Борис, мальчиков было примерно столько же, сколько и девочек. И он уже начал было считать, чтобы точно проверить, сколько тех и сколько других, но тут после одного пустого билетика – все-таки были пустые – наткнулся на Катю. Мамушкина Е. М., и вчерашнее число, и… «мальчик». Сразу вспотел, даже шапку снял, рукавом лоб вытер. Зачем-то на часы посмотрел. Значит, вчера еще. Как же это не заглянул он в этот график?! Вчера-то? Уж и ночь прошла, и вот уж день кончается, а он, пожалуйста, живет, дышит на этом свете, орет, наверно. Три килограмма шестьсот граммов. У Лельки, кажется, три с маленьким хвостиком было, а этот вон – три шестьсот.
Борис втайне надеялся, конечно, на мальчика, да и Катя хотела сына, и вот оно, как по заказу. Молодец, Катерина. А чего тут чикаться, резинку тянуть, раз, два – и готово. В этом смысле Катя – дай бог, молодец баба. А плакала, дурочка. Чего тут плакать! У Бориса нижняя губа оттопырилась немного, от радости. Он поставил авоську на диван, расстегнул пальто и нашарил в кармане пиджака огрызок карандаша, стал писать на билетике – «Виктор…» Не дописав до конца, услышал за спиной из открывшегося окошка недовольный голос:
– Чего там безобразничаете, папаша?
Но Борис дописал до конца и только потом оглянулся. Глаза его улыбались, губа все еще топырилась.
– Вы, мамаша, поздравьте меня, – сказал Борис, – мальчик родился, Виктор, записал на билетике.
– Поздравляю, папаша, а писать не положено. Не самовольничайте.
Борис передал авоську, к своей записке прибавил несколько слов:
«Молодец, Катерина, передавай привет нашему победителю, Виктору, от отца, ну и поцелуй его. Если можешь, напиши, какой он из себя».
Нянечка унесла передачу и пропадала там целую вечность. Провалилась, что ли? Никак не мог дождаться Борис, ходил по приемной, заглядывал в окошко, голову просовывал, глядел. Дождался наконец. Про себя всячески ругался, а когда появилась, наговорил ей много приятных слов. Отойдя в сторонку, развернул бумажку, Катин ответ. Читал каждое слово по два, три раза.
«Ой, Боря, Витек вылитый ты, только совсем почти беленький, как одуванчик, кричит сильно, голова большая, а сосет хорошо».
Хорошо сосет. Это главное.
4
До самого дома на круглом лице Бориса держалась улыбка. И домой вошел улыбаясь. На вопрос Евдокии Яковлевны: «Как там Катя?» – на молчаливый вопрос дочери, отвернувшейся от учебников и уставившейся на отца, Борис ответил одним разом:
– Витек родился! Виктор!
– Сразу уж и Виктор. Может, как у людей, по деду бы назвали, Михаилом? – сказала Евдокия Яковлевна.
– Никаких дедов! Виктор, победитель! Три килограмма шестьсот грамм, богатырь. А сосет – дай бог каждому.
Обедали весело. Лелька сияла, на отца смотрела сияющими глазами, когда тот рассказывал про эти билетики, про нянечку, доставал из кармана записку от матери и читал.
– Беленький? – сияюще спрашивала Лелька.
– Ну, конечно, беленький, – отвечал отец.
– Все они беленькие, потом потемнеют, – сказала Евдокия Яковлевна.
– И не потемнеет, ни за что, бабушка, не потемнеет, – не соглашалась Лелька.
– Беленький, черненький, главное не в этом, главное – мужик придет, а то я с вами, с бабами, совсем пропаду. Мужик придет, Виктор.
Лелька нахмурилась.
– Вы теперь его будете любить, а меня перестанете.
– Чего выдумываешь?
– Я в книжке читала, это правда.
– Неправда в книжке, мы все его будем любить, и ты тоже. Разве ты не будешь любить братика?
– Буду, – шепотом ответила Лелька. – А когда он придет?
– Мама поправится – и придет.
Поменяли тарелки, Евдокия Яковлевна подала котлеты с картошкой, любимой капусты поставила. За окном показалась нетвердая фигурка дяди Коли. Хлопнула входная дверь, дядя Коля завозился в коридорчике, раздевался там и что-то напевал себе под нос, а может, беседовал сам с собой. Вошел на кухню, в руке четвертинка. Облысевшая голова плохо держалась на шее, нос тянулся книзу.
– Подгадал, ко времю пришел, – начал он крякающим, утиным голосом, – в баньку забег, пивка выпил, надо, думаю, мерзавчик захватить, забег в ларек, захватил. Ко времю, значит.
За столиком уплотнились, Борис посадил дядю Колю рядом с собой, Евдокия Яковлевна рюмки поставила, себе тоже. У дяди Коли рука нетвердой была, разливать стал Борис.
– Катерина небось родила уже, – сказал дядя Коля.
– Виктор родился, вчера еще, – важно объявил Борис.
– Она у тебя быстрая. Ишь ты, Виктор, значит. Это ничего, не стесняйся, большим человеком будет. Понял? Точно тебе говорю.
Вошла тетя Поля.
– Ну, чего еще? – спросила обиженно.
Тете Поле подали рюмку. Приняла с угрюмым лицом. Борис на ухо прокричал ей о рождении Виктора. Посмеялась басом, и глаза ласково заулыбались. – Еще чего, – пробасила ласково и выпила вместе со всеми. – Катя ничего? – спросила, бережно ставя пустую рюмку на стол. Борис показал большой палец.
– Ну, слава богу.
– Большой человек будет, – повторил дядя Коля.
– Главное не в этом, – сказал Борис. – Главное, чтоб человеком был. Сосет, правда, дай бог каждому.
Его уже обсуждали, хоть и в глаза никто еще не видел. А он в это время орал в Остроумовской больнице, на большом столе лежал вместе с другими, завернутый в простыню, как в кокон, лежал неподвижно и орал, открывая розовый беззубый рот. Он надрывался от страха и обиды, что его оторвали от матери, от теплой его родины и бросили одинокого на этот страшный стол, где тоже кто-то орет от той же самой обиды.
После обеда Евдокия Яковлевна занялась мытьем посуды, уборкой на кухне, дядя Коля пересел к своему столику, размышляя сам с собой, с тетей Полей обменивался мыслями. Борис стал готовить место для сына, где жить ему. Лелька с великой охотой помогала отцу. С антресолей достали разобранную деревянную кроватку, купленную в декабре еще, поставили между кроватью и диваном. На проволочную сетку положили толстый матрас.
Желтенькая, поблескивающая лаком, пустая, встала она на свое место, и комната теперь заполнилась наконец до отказа. Борис боком протиснулся к окну, где стоял стол, покрытый скатертью, вернулся обратно опять же боком.
– Как, Лелька? По-моему, удобно и ходить можно.
– Очень удобно, папа. – Она смотрела на новенькую кроватку и вся сияла.
– Не рано ли поставили? – сказала Евдокия Яковлевна, войдя в комнату.
– Будем привыкать. Явится, а мы тут уже привыкли, вроде он всегда с нами был.
– А ходить как будем? – Евдокия Яковлевна улыбнулась.
– А вот, – Борис проворно протиснулся боком между диваном и кроваткой. У стола развернулся и взглянул оттуда победителем. Евдокия Яковлевна опять улыбнулась и вспомнила, как не хотели второго ребенка, из-за тесноты, конечно. Верно, не хотели, а потом получилось по ошибке, долго судили, рядили, но избавиться от него Катя отказалась, и потихоньку все привыкли. Теперь, когда он уже был, Борис даже вспоминать не хотел о тех разговорах. По улыбкам Евдокии Яковлевны – как, мол, хотите, мое дело маленькое – он понимал, что она-то все помнит, и от этого как-то неприятно было, хотелось, чтобы и она все забыла и не улыбалась так откровенно.
– Вы, мать, не горюйте, проживем, крестины-октябрины справим не хуже людей.
– Я разве что, я не горюю, – и опять улыбнулась. – Сейчас с Лелей постелем ему.
Она-то знала, на чьих руках будет внук, кому от него больше достанется, но и с этим давно примирилась.
5
Неделя шла ужасно медленно для всех: для Евдокии Яковлевны – скорее бы уже, и для Лельки, которая из школы, не задерживаясь, бежала бегом – а вдруг уже дома? – и тем более для Бориса. С работы он спешил в больницу и там спрашивал одно и то же: скоро ли? А потом слонялся по-за стенками корпуса. Наконец показалась она в окне третьего этажа. В некрасивом больничном халате смотрела оттуда, как из другого мира. Глаза сильно изменились, и сама изменилась. Что-то сказать хотела, шевелила губами, на пальцах показывала. Три дня еще, показывала она на пальцах. В следующий раз – уже два было, и наконец, – один. Значит, завтра.
Сколько за эти дни выслушал он поздравлений от заводских дружков-приятелей, от начальников своих, вплоть почти до директора, которому, правда, не успел еще попасться на глаза. А председатель завкома при встрече изобразил на лице такую мучительную гримасу, будто у него зубы болели.
– Поздравляю, Борис, – сказал он мучительно, – на квартиру давишь? – И бессильно развел руками.
– Ничего не давлю, Василь Васильевич, родился человек, без всякого умысла, честное партийное слово. С кем не бывает? – Улыбался и жалел Борис председателя завкома.
– Ну, гляди, гляди.
А сколько выпито поздравительного пива с дружками-приятелями, на бегу, после смены, где-нибудь на трамвайной остановке, прямо на улице, у пивного ларечка. Сбившись на деревянном порожке из двух досок, исшарканных каблуками, разламывали круг колбасы, чокались толстыми кружками, цедили холодное пиво, сдувая пену. Пожелав Борису и его новорожденному всех благ, переходили на обычный треп.
Пришел этот день. С утра было солнечно, тихо. На улицах таяло. Самосвалы с последним снегом подходили к Яузе и вываливали белые глыбы на берег. Снежные комья скатывались в черную воду, оттуда с шипением взлетали радужные от солнца пузырьки. Яуза прибывала, гнала мусор, доски, ломаные ящики, смытые где-то с затопленных берегов.
Борис торжественно нес в новеньком одеяле, перевязанном голубой лентой, новорожденного сына Виктора. Легкая, почти невесомая, со стеснительной улыбкой на опавшем лице, шла рядом Катерина, придерживаясь за мужнин локоть. Ни самого Виктора, ни даже лица его не было видно, но он был там, в этом праздничном свертке. Всю дорогу Борис чувствовал это и как бы видел сморщенное, жалкое, как у старичка или как у гриба сморчка, Витино личико. Победоносное настроение – мужик, Виктор, победитель и так далее – сменилось щемящей жалостью к этому слабенькому и неприглядному существу, которое нес он все же торжественно и гордо.
На мосту путь им преградила толпа. Заполнив всю левую часть, даже трамвайные рельсы, она так густо сбилась к перилам, что нельзя было ни понять, ни увидеть через головы, чем, каким зрелищем так увлечены были люди. Остановился трамвай, шедший с Преображенской стороны. Трезвонил вагоновожатый, светило по-весеннему солнце, плавясь в стеклах вагонов и в первых мартовских лужицах, молчаливо теснился народ. Катерина и Борис со своей ношей осторожно обошли толпу правой стороной, потом за остановившимся трамваем пересекли пути и по мокрой тропинке спустились к своему пустырю. Толпа, еще по-зимнему одетая, в шапках и платках, и пальто с теплыми воротниками, навалясь на перила, смотрела в воду, текуче отражалась в ней, неотчетливо, маслянисто, пестря цветными пятнами шарфиков, пуховых шапочек, варежек, выглядывающих воротничков. В десятке метров от перил, куда были устремлены глаза толпы, то высовывалась из воды, то вновь погружалась в воду обугленная вершинка топляка. Комель бревна, видно, тяжелым был и за что-то зацепился на дне непроницаемо черной реки, обгорелая голова то утапливалась течением, то вновь показывалась над водой. Утопнет, вынырнет, утопнет, вынырнет.
– Странный народ у нас, – сказал Борис, глядя на обугленную ныряющую голову. – Зарежут кого – глядят, утопнет кто – глядят, бревно – тоже глядят. И весь день будут глядеть.
– Ну, пойдем, Боря, – попросила Катя.
– Нет, ты обрати внимание. Как утопленник. Во, вынырнул, опять утоп.
– Пойдем, Боря. – И Катерина легонько развернула Бориса в сторону дома. Пройдя немного, он снова оглянулся.
– Стоят, глупые, – сказал раздумчиво. – А этот все ныряет. Пошли, Катя. Странный у нас народ все же.
В прихожей Евдокия Яковлевна помогла Катерине раздеться, а Борис сразу прошел в комнату. Остановился перед нарядно убранной кроваткой, держа на руках завернутого в пухлый праздничный сверток Витька.
– Вот тут и будешь жить, – объявил ему, невидимому.
Легонько вошла Катерина и сразу же кинулась к свертку, положила его на кровать, бережно стала распаковывать. Сначала пискнуло там, потом показалось сморщенное личико. Борис взглянул через плечо Катерины и, почесав затылок под шапкой, отступил, пошел раздеваться. Из прихожей слышал, как не очень естественно сюсюкала теща, Евдокия Яковлевна: сю-сю-сю и так далее. И вслед за этим во всю свою богатырскую силу заорал сам Виктор.
6
Семья Бориса Михайловича Мамушкина жила очень дружно с Марьей Ивановной, дядей Колей и тетей Полей, как, впрочем, и другие семьи на всех трех этажах этого старого, без особых удобств, кирпичного дома. Сплотила людей пережитая война. И после войны, в годы карточной системы, они так же заботливо помогали друг другу, делились всем, чем можно. Например, сведениями: где, по каким талонам и что выдавалось сегодня или будет выдаваться завтра, попеременно выстаивали кошмарные очереди, переписывая с чужой ладони на свою порядковые номера. А как возвращались из удачного похода на рынок или в магазин, как достойно несли набитые квашеной капустой бидоны или старенькие продуктовые сумки, где в особо счастливые дни рядом с пайковым хлебом или пайковой крупой лежали взятые с боем свиные ножки. Тетя Поля и Марья Ивановна, и Евдокия Яковлевна шли гордые, победоносные, как фронтовики, как гвардейцы, шумно, перебивая друг друга, делясь подробностями только что выигранного сражения. Отважные, дорогие, бедные русские женщины.
Все праздники – старые и новые – соблюдались тут свято, праздничными же застольями отмечали и дни рождения всех обитателей квартиры – от тети Поли до Евдокии Яковлевны. Неукоснительно отмечали также день смерти первого мужа Марьи Ивановны. И каждый раз при этом кто-нибудь удивлялся, как быстро летит время. «Подумать только, – удивлялся кто-нибудь, – кажется, вчера похоронили Степана, а уж пять лет прошло». Или: «Подумать только, уже семь лет прошло». И так далее.
Собирались всегда в комнате Марьи Ивановны, двадцать пять квадратных метров – было где разместиться. Все тут любили посидеть за большим столом, выпить вместе, поесть хорошо вместе, песни попеть. И Марья Ивановна любила, и тетя Поля, и дядя Коля. Степан-покойник тоже, бывало, любил. Собирались, конечно, не одни, приходили гости. Поскольку комната была Марьи Ивановны, то и гости большей частью были ее. Приходил брат Марьи Ивановны, крупный, седой, очень уважавший себя человек, служил где-то в хорошем месте, не то в главке, не то на большой базе. Сперва приходил с супругой, такой же крупной и молчаливой женщиной, всегда в темных дорогих платьях, лоснившихся на ее породистой спине и породистых бедрах, потом стала появляться с ними и подросшая дочь, писаная красавица, а в последние праздники приходил еще и жених дочери. Брат любил говорить на одну тему: как он знает жизнь и как видит людей насквозь. Супруга выпивала и закусывала молча. Дочка, поощряемая одобрительными взглядами отца, вполне осознавая свою писаную красоту, если и говорила, то говорила почти всегда одно и то же: «Я это люблю» и «Я это не люблю». Жених был ей под стать, хорошо одетый, но попроще, пообщительней. Марье Ивановне, Евдокии Яковлевне и даже глухой тете Поле очень интересно было разговаривать с ним, он разбирался в домашнем хозяйстве, назубок знал магазинные и рыночные цены на продукты питания и промтовары за восемь послевоенных лет.
На кухне, куда выходили размяться и покурить, – тут все курили, кроме брата Марьи Ивановны, его жены и дочери, в их доме знали о вреде никотина, – на кухне, где и туалет был рядом, Марья Ивановна говорила про жениха:
– Самостоятельный, на день рождения Лариске подарил коньки и нижнюю рубашку, шелковую.
Отец невесты тоже гордился женихом.
– Я, – говорил он, – людей насквозь вижу.
Была и еще одна постоянная гостья, жена другого брата Марьи Ивановны, погибшего на войне, дама с пышной грудью и величественным подбородком. Она занимала особое место в застольной компании, потому что была с голосом, пела отдельно ото всех, соло, и, даже когда пела вместе со всеми, голос свой выделяла, не давала ему смешиваться с другими. В минуты общей усталости, когда все размякали от выпитого, от еды, от хорового пения и от романсов Ольги Викторовны, просили попеть отдельно Бориса. Сначала он давал себе немного поломаться – куда мне после Ольги Викторовны, какой я певец и так далее, – но потом Катерина, довольная вниманием к мужу, делала ему знак головой, давай, мол, люди ж просят, и Борис, не переставая смущаться, вставал из-за стола, приносил гитару и пел свой постоянный репертуар: «Соколовский хор у Яра», «Ночь светла, над рекой тихо светит луна», «В глубокой теснине Дарьяла», «Мой костер в тумане светит», а если просили еще, то пел еще «Гоп со смыком – это буду я». Поскольку его репертуар почти весь был знаком всем другим, то ему помогали, подпевали иной раз тихо, иной раз во всю силу. Петь тут любили все, но каждый по-своему. Брат Марьи Ивановны, например, от солидности своей не рвал горло наподобие сестры, а, соблюдая достоинство, пел вполголоса, дядя Коля, лишенный слуха, тоже встревал в каждую песню, но всегда портил дело, выделялся враньем своим, и Марья Ивановна часто махала на него рукой, чтобы он не мешал. Дядя Коля замолкал на время, но, так как очень любил петь, через минуту-другую опять вступал, сперва тихо, а потом и погромче. Тетя Поля не всегда подключалась. Сидит, курит свои папироски-«гвоздики» одну за другой, слушает, чуть приоткрыв почти беззубый старческий рот, хмельными глазками смотрит на поющих, а потом вдруг выставит кадычок и начнет вторить нестойким надтреснутым басом. И сразу пение начинало смахивать почему-то на церковное, в особенности когда затевалась ее любимая «Радуйся ты, ворона, радуй-ся-а, веселися ты, сорока, веселися-а, а ты, воробей, великий чудотво-орец…». Тут уж было совсем по-церковному. И когда весело переходили на веселый припев – «По маленькой, по маленькой, чем поют лошадей…», – тетя Поля даже взмахивала ручкой и была очень довольна.
После третьей рюмки, когда и выпито уже, и червячок порядочно заморен, но до песен еще не успевали доспеть, самое время было поговорить по душам, не спеша и еще не перебивая, еще умея слушать друг друга. Неторопливый разговор тек и журчал прихотливыми, переплетающимися, то и дело менявшими свои направления руслицами, которые вдруг, в какие-то мгновения, сходились вместе и текли некоторое время в одном большом русле, потом снова расходились, затихая до полной немоты, то дробясь, то оживляясь, набираясь новых сил для нового слияния в единое русло. Особых споров, как правило, тут не было никогда. Если они и возникали, то быстро заканчивались полным согласием спорящих сторон. Исключение составляли беседы дяди Коли с братом Марьи Ивановны. Дядя Коля во всем противоречил своему солидному родственнику, ни в чем с ним не соглашался, потому что, хоть и имел в отличие от родственника неказистый вид, ни в чем не хотел уступать ему. У дяди Коли была своя гордость, у него был почти полностью вырезан желудок, и это обстоятельство возвышало его в собственных глазах.
– Вот у меня, – говорил он, – желудок вырезан, а я пью и ем, и мне ничего.
– Я не о желудке говорю, – возражал брат Марьи Ивановны.
– А потому что он цел у тебя.
– Не поэтому. Ты, Николай, кроме своего желудка, ничего не понимаешь.
– Я? Не понимаю?.. Ха, не понимаю. Вон видишь, ворона сидит на штакетнике? За окном, видишь? Сидит. А счас крыло поднимет, взлетит – и нет ее. А телега? Поставь туда телегу. Взлетит? Поднимет крыло? А вот ты помрешь, положат тебя, будешь лежать. Поднимешь крыло? Взлетишь? Черта с два. Будешь лежать. Не понимаю. Я все понимаю.
Брат Марьи Ивановны, глядя на дядю Колю, саркастически улыбался:
– В людях ты не разбираешься, Николай.
– А ты разбираешься.
– Я их насквозь вижу. Мне только поглядеть на человека, и я тебе скажу, кто он такой.
– Ну, вот гляди, гляди на меня и скажи, кто я такой? Молчишь? И будешь молчать.
Брат Марьи Ивановны щурился, но ничего не говорил, молчал, губы плотно сжимал, обижался.
За столом потихоньку примолкали, начинали прислушиваться, приглядываться к поединку между солидным братом и неказистым мужем Марьи Ивановны. Всем было интересно. Но когда поединок доходил до крайней точки, Марья Ивановна вмешивалась:
– Ну, мужики, ну, чего еще, не дай бог драться начнете.
Дядя Коля самодовольно ухмылялся и доставал пачку «Прибоя», закуривал, потому что чувствовал себя победителем. А Марья Ивановна, без всякой подготовки, вдруг затягивала хрипловатым, но верным голосом: «Каз-булат уда-ло-ой, бедна сакля твоя-а-а…»
Ладная полухмельная песня круто поворачивала застолье на другую, тоже хорошо проторенную дорогу.
Крестины-октябрины новорожденного были для Скворцовых и Марьи Ивановны желанным событием. Готовились к нему еще в отсутствие Катерины, когда она лежала в больнице, а Борис мотался между больницей и работой. Праздник назначили на субботний день, под выходной. На кухне, рядом с плитой, стояла ванна, покрытая деревянной крышкой и застеленная клеенкой. Никто в ней не мылся, ходили в баню, а ванна использовалась под стирку, в дни праздников расставляли на ней праздничную еду. Сегодня были тут пироги, прикрытые полотенцем, блюда с холодцом, салатами, солеными грибами, две утятницы с жареными гусями.
К приезду гостей стол в комнате Марьи Ивановны был накрыт. Катерину от всяких хлопот освободили. Она кормила грудью Витька, слышала возню и голоса гостей в коридоре и очень волновалась. Борис, только что вернувшийся из бани, сидел в белой рубашке, подстриженный, розовый, совсем молодой парень, смотрел с дивана на Катерину, на уплетающего, причмокивающего сына, на вытянутую розовую ручонку его с растопыренными от счастья пальчиками.
– Ну, чего ты смотришь, папка, помогал бы гостям раздеваться.
– Слушаю, сынок, иду.
Сегодня были приглашены и Катина подружка из буфета, и товарищ Бориса с женой. Больше не позволяла жилплощадь. Даже родителей своих Борис не мог пригласить из подмосковной деревни, негде было переночевать. Известил их телеграммой о рождении сына, но на эти октябрины не позвал.
Между прочим, Лельку крестили-таки в церкви, настояла тогда еще живая сестра Евдокии Яковлевны, тетя Даша, набожная старуха. Даже крестик повесили девочке. Вернувшись с фронта, Борис ничего, конечно, переделать не мог, но крестик снял с Лельки и утопил его в унитазе, чем смертельно обидел тетю Дашу, которая вскоре, правда, и умерла. Евдокия Яковлевна, когда принесли Витька, попробовала намекнуть насчет крещения внука. К богу и вообще к вере она была равнодушна, но порядок прежний уважала, поэтому попробовала намекнуть.
– Вы что, мама, белены наелись? – напустился Борис. – Хватит нам одной православной, Лельки.
Что касается выпить-закусить, отпраздновать крестины-октябрины, против этого Борис не возражал. Все-таки русский человек был, не турок какой.
Застолье сегодня было тесным в связи с дополнительными гостями. Пришлось приставить еще кухонный столик. Когда все уже разместились и сидели в ожидании команды, Марья Ивановна посмотрела с порога хозяйским взглядом, осталась довольна. На одно мгновенье мелькнули в памяти уже теперь отдаленные годы квашеной капусты и праздничных свиных ножек, и на ее стареющем лице изобразилась улыбка. Да, стол был богатым. Его изобилие венчали с двух концов непривычные в этом доме две темные бутылки с серебряными головками. Шампанское.
– Миша, – обратилась она к солидному брату, – и ты, Борис, открывайте шампанское, а мы с Катей внесем сейчас виновника. Пошли, Катерина.
Катерина закраснелась, но послушно поднялась и вышла вслед за Марьей Ивановной. Через минуту они появились с Виктором, а точнее сказать, с белоснежным и голубым конвертом из одеяльца, где помещался новорожденный, Марья Ивановна приняла из рук Катерины этот конверт и бережно уложила его на свою пышную кровать, расправила одеяльце, чтобы лицо новорожденного было открытым, и заняла место за столом.
– Теперь, – сказала она брату, – говори речь.
Михаил Иванович вынул расческу, причесал солидную свою седину и встал. Шампанское было разлито по стаканам, выпускало последние пузырьки, оседало, и стаканы становились больше чем на половину пустыми. Михаил Иванович оглядел богато заставленный стол, празднично одетых гостей и хозяев, взглянул через головы на высокую кровать, где лежал отдельно от всех народившийся человек, корректно улыбнулся Борису и Катерине. Дядя Коля опустил голову и заковырял вилкой в своей тарелочке.
– Прошу вас, – сказал Михаил Иванович, – взять стаканы и выпить за нового человека… – В этом месте Михаил Иванович остановился, потому что сильно, с каким-то испугом закричал новый человек. Вскинулась Катерина, заторопилась к кровати.



![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)