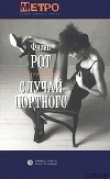Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 25 страниц)
– Видишь? – говорил отец. – Видишь лес? А вон церква, видишь?
Но Витек резко опускался на корточки, срывал какую-нибудь былинку, или поднимал гусиное перышко, или схватывал ползущую божью коровку и говорил в тон отцу:
– А вот, видишь?
Он явно уклонялся, отвлекая внимание отца от всего этого малопонятного и слишком непомерного для него мира. Даже от гусей пытался отвлечь свое внимание, хотя все время держал их в голове, слышал их несмолкающий гвалт.
И было ему хорошо. Одного только не понимал Витек: зачем летают над этой дедушкиной деревней такие страшные самолеты? Они ему сразу не понравились. Он боялся их. Когда они поднимались с аэродрома, который был недалеко, за лесом, и проползали по небу над Витенькой с каким-то непонятным, разрушительным громом, он приседал, втягивал голову в плечи, закрывал руками уши. Бывало, Борис или Катерина еще ничего не слышат, а Витенька уже садится и закрывает руками уши.
– Ты чего, Витек?
– Самолет.
Надо же, и правда, из-за леса возникал и с каждой секундой разрастался рев самолета. Защитные меры помогали Витеньке, и он скоро привык к этим чудовищам.
В первый день, когда приехали, Борис и Катерина тот же час занялись комнатой, где им предстояло жить. Баба Оля разжигала керосинку, собиралась обед готовить, и Витек был оставлен на деда. Дед стал показывать внуку свое хозяйство, повел за ручку по всему подворью, в сарай заглянули, набитый поленницами дров и всяким железом, старыми ведрами, лопатами, граблями, мотыгами, на стенках висели пилы, на верстачке – рубанок, стружки, топор лежал. В хлев зашли. Там было темно и пахло навозом, немножко молоком и теплой коровой. Сама корова была в стаде, ее не было тут. Прошли через калиточку в сад. Тут стояла бочка с водой, а возле – резиновый шланг, свернутый в страшный черный круг. На деревьях висели красные яблоки, лежали они и на земле, под деревьями. Дед сорвал одно, низко висевшее, и подал Витьку. Теперь обе руки были заняты, одна держалась за дедову руку, другой он прижимал к своему боку большое яблоко. Потом они обошли заросли красной, черной и белой смородины, колючие кусты крыжовника, и Витек уже не мог держать свое яблоко, передал деду, который высматривал и доставал из кустов редкие, уже сильно привянувшие, но сладкие ягодки, а когда подошли к грядкам, Витек стал рвать и пробовать перышки позднего лука, чеснока и даже лепестки диковинно ярких цветов. Он был поражен всем увиденным в дедовом саду. Поразило его то, что лук рос из земли, а яблоки, сливы и редкие ягоды висели на кустах и деревьях, а не лежали в корзине или в продуктовой сумке, или на тарелке, вымытые. На деда Витек стал смотреть другими глазами, проникся к нему уважением и даже полюбил его, потому что все эти чудеса как-то сошлись вместе с дедом. Как же это он не замечал раньше, что у деда с ногой что-то не очень понятное, не обращал внимания, что ходит он немножко не так? Теперь стал приглядываться. Еще во дворе, а потом и в саду то и дело отвлекался от предметов, которые показывал дед, от садовых чудес и все поглядывал на дедову ногу, пока наконец не понял: это же не нога, не настоящая нога, а деревянная, окованная на конце железным кольцом. Почему? Ведь другая, как у всех? А почему же эта из дерева? Как она впечатывается в землю. И след от нее другой, круглый.
Когда вернулись из сада, дед вынес из сарая и подарил внуку загодя приготовленный деревянный топорик, вырезанный из цельного ясеневого куста. Они присели отдохнуть: дед – на бревнышки, сложенные у стенки, Витек просто опустился на корточки. Топорик был так по руке, так хорошо приходился своим изогнутым и хорошо обструганным до приятной шероховатости топорищем. Он вертел его в руках, а сам не мог оторвать глаз от дедовой вытянутой деревянной ноги.
– Ты ее топором, Витек, обушком попробуй, – сказал дед и чуть приподнял штанину, показывая за железным кольцом деревяшку.
Витек исподлобья посмотрел деду в глаза, смеющиеся, с рыжинкой, окруженные колючей рыжеватой щетиной. Дедов рот, также окруженный щетиной, щерился в улыбке.
– Ну, давай, не бойся, стукни обушком.
Витек не шевелился, продолжал смотреть в смеющиеся, в колючках, дедовы глаза, личико его заугрюмело.
– Дай я тебе покажу, ничего ей не будет.
Но Витек спрятал за спину топорик, не хотел, чтобы дед показывал, как надо бить обушком топора по ноге. Он переживал в эту минуту что-то сложное и чуть-чуть пугающее.
– А эта? – спросил он наконец, осмелев немного.
– Эта хорошая. – Дед подвинул здоровую ногу, вытянул ее так, что за коротким носком показалось тело в рыжих волосках.
– А эта? – показал Витек пальчиком снова на деревяшку.
– Этой нету, на войне осталась.
– На войне?
– Да, на войне.
Витек не знал, что это такое, но хотелось запомнить и понять, он снова спросил, на этот раз почти радостно:
– На войне?
– На войне, – ответил дед.
– Там? – спросил Витек, показывая пальчиком в сторону.
Дед задумался – как бы получше объяснить? – но ответил утвердительно:
– Там, Витенька, на войне.
Их позвали обедать, они, взявшись за руки, отправились в дом.
Перед тем как сесть за стол, Витек все приставал к отцу, к матери и к бабушке.
– Ты видал, папа? Ты видала, мама? А ты, бабушка, видала?
– Что, Витенька? Что такое?
– У дедушки нога не такая, деревянная.
Бабушка рассмеялась, а Борис и Катерина сказали, что они, конечно, видели эту ногу.
– На войне?
– На войне, Витенька.
– А вот топорик, да?
– Хороший топорик. Кто это сделал?
– Дедушка. Я не буду бить топориком.
– Кого бить?
– Дедушкину ногу не буду бить.
– Зачем же ее бить?
– Я, дедушка, не буду бить.
После обеда пошли на речку, на Незнайку. Витек выскочил за калитку первым и радостно бросился к белому стаду, но тут же с криком отпрянул назад. Страшный гусь, шипя и вытягивая шею, угрожающе стал наступать на Витька и уже хотел было проглотить его, но Витек так заорал, что гусь обратно втянул свою голову и нехотя отступил, да и Катерина подоспела, схватила Витька за руку и окончательно спасла его. Витек долго потом оглядывался, когда перешли мостик, долго вздыхал от горькой обиды: почему этот гусь хотел его проглотить, почему так шипел расщепленным клювом с черными ноздрями? Витек же ничего не хотел сделать плохого. В конце концов он утешился тем, что шел с мамой и папой, держась за их руки, на речку. На какую же это речку? Может, она тоже будет шипеть, как гусь? Дедушка не захотел идти, зато он идет с папой и мамой и никого не боится, а папа говорит, что гусь этот глупый, что он просто ничего не понял, думал, что Витек плохой, но он же хороший мальчик, а глупый гусь этого не знает.
– Не знает, папа?
– Конечно, не знает. Когда он узнает, драться не будет.
– Не будет?
– Нет, не будет.
Витек остановил родителей и, вскинув личико, сказал:
– Он не будет драться, мама.
Катерина подхватила Витька на руки, а тот сразу развернулся к отцу.
– Ты, папа, никогда, никогда не пойдешь на работу?
Борис покачал головой:
– Пока никогда.
– Пока никогда, никогда? – Витек потянулся к отцу, и Борис принял его и посадил к себе на шею.
Высоко-высоко над землей покачивался Витек верхом на папиной шее, смотрел перед собой на дорогу, на еще зеленые деревья, на крыши амбаров, на темную стену леса и голубое небо над лесом. Ему было ни капельки не страшно. Даже самолет пролетел – и не страшно.
Потом они свернули с дороги, прошли лугом и оказались на травянистом берегу маленькой речушки с желтыми кувшинками в тихих заводях, с ряской и водяными растениями и с чистым журчащим стреженьком посередине. Они выбрали место перед круглым омутом, где плескались деревенские ребята, и присели на жесткую травку, плотно оплетавшую береговую землю.
– Вот и речка наша, Незнайка.
– Вода, папа?
– Водяная речка. Видишь, ребята купаются в речке? Видишь, она бежит? – Борис показал на бурный, сплетающийся текучими жгутами стрежень, который начинался сразу после омута, в суженном руслице. – Если вода бежит, значит, это речка.
– Куда бежит, папа?
– Далеко, в другую речку.
– И другая бежит?
– Другая бежит в море.
– Не надо ребенку голову забивать, – вмешалась Катерина, но Витек строго взглянул на нее и поднял руку. Потом снова к отцу:
– А море там, папа?
– Во-он там, далеко.
Витьку было приятно, что он все понимает, решительно все, и обо всем может разговаривать.
– А ты, мама, не знаешь, где море?
– Куда уж мне знать.
– Я тебе покажу. Та-ам, далеко.
Борис снял рубашку, пощурился на солнце, сбросил туфли, брюки.
– Ну что, Катерина, купеческая дочь? Раздевайся!
– Мама, ты не боишься в речке купаться?
Катерина с улыбкой смотрела на плотного, мускулистого Бориса, даже немножко поиграла бровью, очень довольная своим мужем.
– Витек, смотри, какой папка у нас.
– Хороший? – спросил Витек.
– Ни-че-го.
– А ты не боишься?
– Чего бояться-то?
– А речка никуда не убежит?
Катерина засмеялась, поднялась и тоже стала раздеваться, продолжая радоваться, что у нее муж все-таки ничего, но и не забывая, что и сама-то она недурна собой. Думая об этом, она раздевалась с удовольствием, немножечко кокетничая, хвастаясь втайне перед Борисом своим сложением, молодым и почти не тронутым родами телом. В эту минуту Витек как бы ушел для нее на второй план, что бывало с ней редко. Но Витек не хотел уходить на второй план, рассерженно топнул ножкой и переспросил, потребовал ответа:
– Речка не убежит?
– Да куда же она убежит, сыночек? – спохватилась Катерина и даже покраснела, как бы устыдившись своей минутной слабости. – Ты разве не видел нашу Яузу? В Москве?
Витек пригнул голову, задумался. Ничего он не видел и не слышал, но признаваться не хотелось. Как же это не видел? Видел, конечно.
– Там? – вышел он из положения.
– Да, Витенька, в Москве.
– В Москве, на войне?
– Глупенький мой дурачок. Хочешь купаться?
Витек покосился на речку и не ответил. Потом, когда Борис и Катерина уже были в воде, подошел к самому краешку берега и стал смотреть на это необыкновенное зрелище: купались папа и мама. Он так переживал, так волновался, что начал взвизгивать и топотать ногами, вытянув перед собой руки. А родители дурачились, обливали друг друга водой, брызгались, хохотали, Катерина бросилась к Борису и стала его топить. Тут Витек не выдержал, не удержался на месте, шагнул, не глядя под ноги, и плашмя упал в воду. Мог бы и захлебнуться, но, когда пришел в себя на руках у матери, переморгал страх, огляделся, увидел, что ничего особенного не произошло, стал снова рваться к воде.
Витька искупали, он тоже хохотал и плескался и не хотел вылезать из речки, а вечером в кроватке начал гореть огнем, разметался на подушке, стонал. Родители сначала тихонько переругивались, поочередно поправляли на Витеньке одеяло, прикладывали ладонь к пылавшему лицу, но потом, как бы освоившись и притерпевшись к неожиданной напасти, притихли, стали ложиться спать. И уже легли, потушив свет, чтобы с утра, если жар не пройдет, принимать какие-то меры, в Москву ли везти Витеньку или ехать за доктором, легли и уж успокаивать сами себя начали, пройдет, мол, к утру, из жаркого в холодное попал, простуда прихватила, к утру перегорит и все пройдет, как вдруг Витек завозился и жалобно заплакал. Катерина поднялась, зажгла свет и села возле кроватки успокаивать Витеньку. Но он не успокаивался, все плакал беспомощно и жалобно. Катерина взяла его на руки и так сидела в одной рубашке, прикачивая Витеньку и приговаривая в такт покачиванию разные ласковые и жалостливые нелепости. «У собачки заболи, у Витеньки заживи…» и так далее. А Витенька постепенно перестал плакать и даже постанывать перестал, потому что и на это в нем уже не хватало сил. Сперва, когда плакал, он еще переводил свой беспомощный взгляд на лицо матери, чтобы глазами пожаловаться, как ему плохо, и Катерина также глазами, полными любви и тревоги, жалела его, между ними еще держалась тоненькая связь. Но вот он стал дышать все чаще и труднее, с каким-то ужасным шумом, и эта тоненькая ниточка все утончалась и наконец оборвалась. Витек уходил от матери, и уж вовсе ушел в самого себя, в свои страдания, а возможно, уходил куда-то совсем в другие пределы, где не было никого, даже мамы, державшей его на руках. Он дышал часто и тяжело, и открытые глаза его были совершенно как бы закрыты, они ничего не видели, ничто уже не отражалось в них, они были потусторонними, им не было дела ни до чего на свете. Катерина поняла это в какой-то один миг, ей сделалось страшно, и она заплакала, на что Витек никак не отозвался, ни вздохом, ни движением хотя бы глаз, он продолжал неестественно часто и тяжело дышать, и пламя жизни еще держалось в нем, но было слабым и колеблющимся, одно дуновенье со стороны – и оно погаснет. Плача, Катерина говорила:
– Что же ты лежишь бревном, не видишь, Витек помирает.
Она не знала, что делать, как удержать это слабенькое, колеблющееся пламя, она готова была умереть сама, без страха, даже с радостью, только чтобы остался жить Витенька, но она не знала, как это сделать, что нужно было для того, чтобы обменять свою жизнь на Витенькину. Потом у нее как-то бессознательно вспыхнула надежда, она подумала о Борисе, вот он встанет, что-то сделает, как-то распорядится, и пламя Витенькино успокоится, перестанет трепетать и колебаться, а станет светить ровным хорошим светом. Но Борис словно окаменел, приподнявшись над подушкой, упершись в нее локтем, выжидательно и бессмысленно смотрел на Катерину с Витьком на руках, и жуткий страх, почти не доступный мужчине, проник в него и держал в оцепенении.
– Что же ты лежишь бревном, не видишь, Витенька помирает, – плакала Катерина.
И так же как она вспомнила о нем с надеждой, так и он с той же неясной надеждой тотчас вспомнил о своих, об отце своем и матери. Поднялся и почему-то крадучись, может быть, тоже догадывался о колеблющемся пламени, чтобы не загасить его, крадучись, пошел в родительскую половину и через какие-то минуты вернулся с отцом, Михаилом Борисовичем, и матерью, бабой Олей. Баба Оля потрогала Витенькин лоб, послушала его дыхание и, не обернувшись, сказала Михаилу Борисовичу, стоявшему позади со своей нелепой деревяшкой:
– Отец, белое вино неси.
– Дак выпили.
– Не во всей же деревне выпили, неси, говорю.
Баба Оля стала объяснять Катерине, что надобно делать, чтобы к утру Витенька не сгорел, надо намочить в белом вине простынку и приложить ее к грудке, а то и всего обложить простынкой, мочить и опять прикладывать, пока не получшает. Баба Оля объясняла, а в соседней комнате, потом в сенях торопливо стучала дедова деревяшка. Борис ушел с отцом. На счастье, у первых же соседей нашлась поллитровка. Борис, оставив отца ковылять на одной ноге, бегом вернулся с бутылкой в руках. Водку вылили в миску и вот замочили в ней простынку, опеленали больного, завернули в одеяльце, и Катерина с Витенькой на руках заняла прежнее свое место перед кроваткой и, уж поверив в эту спасительную водку, вся обратилась в слух, стала вслушиваться в Витенькино дыхание, не становится ли оно реже, не пропадают ли в нем хрипы. То покажется ей вдруг, что шум вроде бы капельку уменьшился, и сердце дрогнет от радости, и боль отпустит немного, а то покажется, что нет, ошиблась, дыхание не меняется к лучшему, а вот уж опять зачастило и еще сильней наполнилось нехорошим хриплым шумом – и снова туча застилает свет, и боль сдавливает так, что самой становится нечем дышать. А баба Оля, постояв в сторонке, облегченно вздохнула:
– Ну, вот, теперь Витек жить будет. С полчасика пройдет, перемени простынку, опять замочи.
Вошедшему было Михаилу Борисовичу сказала, чтобы шел спать, не мешался тут. Ушла и сама. Ее уверенность передалась Катерине. Она глядела неотрывно в Витенькино лицо, в его полуприкрытые глаза, и душа ее больше не металась в панике, не схватывалась нестерпимой болью, но была заполнена вся не страхом, а одной только ни с чем на свете не сравнимой материнской любовью. Катерина смотрела на Витеньку в ожидании перемены и видела, чувствовала всем своим существом, как боролась в нем из последних сил, нет, не он боролся, слабая кровиночка, слабый огонек, не он, а неуступчивая жизнь боролась в нем с наглой и могущественной смертью, сам же он, Витенька, маленький мальчик, лишь в муках мученических лежал на ее руках, отстраненный от всего на свете, кроме этих своих мук.
Борис стоял за спиной Катерины, не смел шевельнуться, а не только что присесть где-нибудь, стоял и тоже смотрел через Катино плечо на Витеньку, горевшего в огне, трудно и часто дышавшего и совершенно отключенного от всего окружающего и как бы никому из них, ни Катерине, ни ему, уже не принадлежавшего. Он был сейчас один на один с этой борьбой жизни и смерти. Как ни старался Борис, чуть ли не вслух заклинал себя оторваться от навязавшихся мыслей о Витенькиной смерти, как ни гнал от себя эти страшные картины, они вставали перед ним одна за другой. Вот Витек затихает, вытягивается, и последний признак жизни пропадает, в голос плачет Катерина, все суетятся вокруг мертвого, но уже никто на свете не может помочь ничем… Борис встряхивается, уговаривает себя, что слышит Витенькино дыхание, его хрипы, что он жив и будет жить, но тут же видит его в маленьком желтом гробу, видит каменно-неподвижное, мертвое личико и снова стряхивает с себя эту навязчивую чуму, продолжая жадно смотреть все дальше и дальше одну за другой страшные картины. Как же можно видеть это, думать об этом, думать, что Витенька уйдет и его больше не будет на земле, как можно, когда он вот же, на Катиных руках, лежит живой, мучается, хрипит, старается выжить, а он, отец, видит совсем другое, думает совсем о другом. Что с ним? Узнала бы Катя – сошла бы с ума, прокляла, возненавидела бы на всю жизнь.
– Катя, ты устала, дай я посижу.
И Катерина неожиданно для Бориса послушно встала и передала ему Витеньку. Одеяло было горячим, будто в нем завернут был огонь, но Борис, почти не дыша, так бережно, как не делал ничего за всю свою жизнь, держал Витеньку и даже не подумал бы о себе, если бы и в самом деле держал на руках огонь, который жег бы ему руки, сжигал бы его самого. И даже на войне, где жили между жизнью и смертью, Борис не знал таких переживаний, таких потрясений души, которые захватили его сейчас и о которых он раньше даже не подозревал.
– Слышишь, Катя? Уже легче дышит, и пот выступил, видишь?
– Да, ему лучше.
Катерина распеленала Витька на руках у Бориса, еще раз смочила простынку, потом хорошо закутала его в одеяло и присела рядом с Борисом. Они просидели так до рассвета, даже не заметили этого рассвета. Когда солнышко заглянуло в окно, Катерина вспомнила, что надо погасить свет, погасила и снова присела, хотела поправить одеяло, попробовать Витенькин лоб, но тут неожиданно и больно кольнула в самое сердце радость: Витенька дышал ровно, спокойно, легко, почти неслышно, и его лицо было спокойным. Она переглянулась с Борисом, оба они заметили одновременно, оба подумали об одном и том же. А Витенька приоткрыл глаза, поискал ими что-то и слабенько позвал:
– Мама.
– Господи, – заплакала Катерина.
Но Витек, разглядев и поняв, что лежит на руках у отца, выговорил шепотом:
– Папа.
Нет уж, ничто так не тронет тебя больше, пусть перевернется земной шар, ничто не сожмет так и не отпустит сердце, как это выговоренное шепотом: мама и папа.
Войну прошел, всего навидался, перед смертью стоял, но такой ночи пережить не довелось. Она дается один раз в жизни, и не каждому человеку. Борис что-то понял в эту ночь, но охватить сразу и выразить в словах не смог бы сейчас, да вряд ли и потом сможет, по прошествии многих дней и многих лет. Но одна мысль и сейчас была отчетливой и вполне ясной: он знал, что на свете теперь есть человек, существо, которое может сделать с ним, не убитым на войне, все, что только будет угодно этому существу, этому человеку. В нем как бы образовалась брешь, через которую может проникнуть этот человек, это существо, этот Витенька, может смертельно ранить его, может и убить, если он, Витенька, когда-нибудь захочет это сделать.
Они положили его в кроватку и тут поняли, что не могут больше держаться на ногах.
Солнце поднялось над крышей, баба Оля заглянула в комнату, увидела: все трое спят. Тихонько притворила дверь.
14
Жаркий день горел над ними, но они спали мертвым сном. Тяжелые лайнеры, взлетавшие с Внуковского аэродрома, протаскивали гром над деревней, но они спали как убитые. Не бессонная ночь – мало ли их было у Бориса на войне, да и у Катерины в те госпитальные годы, – не физическая усталость, а страх, пережитый ими, многочасовое стояние над пропастью, куда вот-вот могла провалиться Витенькина жизнь, беспомощность и незнание, что же им самим делать тут, одним, над пропастью, если она проглотит Витеньку, и, наконец, эти последние минуты, когда они увидели вдруг, что опасность миновала, когда сжатое до предела сердце в какое-то одно мгновение разжали, выпустили и, онемевшее, оно как будто перестало жить, – обессилили их так, что они не могли больше держаться на ногах, уснули как убитые.
Катерина проснулась не от грома то и дело взлетавших над деревней самолетов, а от тишины. Открыла глаза и сразу кинулась к Витеньке: ей показалось, что он не дышит. Нет, он дышал, спокойно, незаметно.
Поднялся и Борис. Одуревший от долгого дневного сна, сидел в кровати, тер кулаком лицо. Витенька лежал лицом кверху, молча осматривал все: побеленный потолок, голубенькие обои на стенах, два окна в старых почерневших рамах, картинка висит, зеркало. Легким, почти небесным голосом спросил:
– Мама, я болею?
В его голосе было что-то странное, неуловимое, новое. Катерина не могла понять, но сердце подсказывало: дите ее, Витенька, вот сейчас входил в жизнь, становился человеком, как все, уже принял свои первые страдания. Уже постоял рядом со смертью. И как-то по-новому стало жалко его.
– Ты уже выздоравливаешь, сыночек.
– А почему я не встаю?
– Ты полежишь немножечко и встанешь.
– А мне не хочется вставать.
– Потому что тебе еще поправиться надо, отдохнуть.
– А где папа?
– Я тут, Витек, тут, – бодренько отозвался Борис.
– И папа тут, и бабушка, и дедушка.
– И дедушкина нога?
– И нога тут, куда же она денется?
– И речка, мама?
– И речка.
– На войну бежит?
– Нет, сыночек, в море бежит, зачем ей на войну?
Витенька слабо улыбнулся. Вот какой глупый, конечно, в море, не на войну, ведь речка бежит в другую речку, а другая – в море. А на войне – дедушкина нога. Вот правильно. В Москве на войне.
– И ты знаешь, мама?
– Знаю, сыночек.
– Папа тоже знает.
И папа знает, и мама знает, и Витенька знает. И жизнь снова вернулась в этот деревенский домик, напротив лужи с гусями, напротив запустелой церковки в голубых маковках куполов. Вечером, после ужина, все сидели вокруг Витенькиной кроватки, сумерничали, разговаривали, вроде какой-то тихий праздник был или вечер после праздника, когда он отшумел уже, отплясал, все уже устали немного и уж отдохнуть успели, а теперь вот в тихие вечерние часы сидели – не за столом, а так просто, кто где, и смирно разговаривали. И Витек не спал, вслушивался в разговор.
Борис с отцом, мужики, войну вспоминали. Сперва о том, о сем поговорили, какие у кого новости, новостей особых не было, Катерину с Борисом пожурили за Витеньку: искупали ребенка, про эту водку поговорили – вернейшее средство от простуды! – и как-то незаметно, слово за слово перешли на войну и уж тут задержались, потому что у обоих было что вспомнить.
Вот уже скоро десять лет, как война кончилась, а толком-то ни Борис, ни отец не успели рассказать друг другу, как и что было с ними на этой войне. Было время, когда отец думал, что Борис погиб или пропал без вести, не писал долго, было, что и об отце ничего не знали ни мать, ни Борис, потом вдруг оба вернулись живыми-здоровыми, отец немного пораньше, из госпиталя, где остаток ноги его заживал. А Борис уже с границы демобилизовался, после победы. Только старший сын, брат Бориса, не пришел, погиб в самом начале войны. На радостях, когда вернулись, сгоряча не могли толком рассказать друг другу, каждый хотел высказаться, перебивал один другого: нет, мы в это время вон где были, а тут-то мы уже в обороне стояли; а у нас тоже командир роты, точно вот так, как ты говоришь, не успел команду подать, а его снайпер – чик – и срезал, выстрела никто не услыхал, а человека нет, убили, не дали слова сказать, подать команду… Да, тут уже я в госпитале был, по первому разу… И так далее, и так далее… Отец-то и мать все до одного слова, до капельки про Бориса помнили, а Борис из того сбивчивого разговора при первой встрече как-то не то не уловил чего, не то смешалось у него все, так что помнил об отце, о его военной дороге только отдельные моменты, и то смутно, приблизительно. А уж после первой той встречи больше вроде и повода не было подходящего, чтобы опять рассказывать да расспрашивать, давай, мол, расскажи и так далее. Не было повода. А вот сегодня наподобие тихого праздника какого получилось, и пошел разговор, воспоминания. Отец про ногу стал рассказывать, как потерял ее. Это как раз помнил Борис лучше других эпизодов, но перебивать не стал, а только удивлялся, вопросы задавал.
– Да как же он, дурак, что ли, командир-то?
– Нет, молоденький он, лейтенантик, и новый, только что присланный, а местности не знает, ничего не знает. Ты, Мамушкин, давай, мол, бери двух солдат и давай иди. А лесок-то посередь поля стоит, ясно, что заминирован. Мы ведь без этого лейтенантика наступали, выбили немца, а тут и его прислали, заявился. Ну, давай укрепляться, новую оборону делать, блиндажи. Сперва для комбата, а потом и ниже, другим командирам. «Бери говорит, двух солдат, топоры и давай дерева заготовляй, на блиндажи». – «Там же, говорю, обязательно мины будут, товарищ лейтенант, надо бы очистить». – «Какие там мины, что ерунду говоришь, скажи прямо, что боишься». – «Ну, раз так, то пойду, товарищ лейтенант, а лесок все же заминирован, немец, он не дурак». – «Хорошо, Мамушкин, я, говорит, сам с вами пойду и докажу».
– Доказал? – спросил Борис, хотя помнил этот эпизод хорошо.
– Доказал. Главное, первым идет, наперед забегает. Я говорю: «Не спешите, не лезьте, осторожней надо, товарищ лейтенант». – «Не учи, говорит, а помечай дерева да начинайте валить. Мины нашел тут». Это надо мной, значит, смеется. И только шагнул я следом да голову поднял, поглядеть хотел, дубок вроде подходящий, а оно как рвануло, искры в глазах, и уши забило сразу, а сам-то я в воздухе нахожусь, хорошо помню, что в воздухе себя нашел, над землей, и в полном сознании. А когда упал на землю, шлепнулся, вижу, сапог мой рядом упал, в траву, отдельно от меня. Вот, думаю, не заметил, как сапог с меня слетел. Все же чувствительно ударился об землю, лежу. Полежу, думаю, маленько, отойду. И как это он проскочил в сапожках своих, ширк, ширк по траве, по листьям, прошел – и ничего, а меня бросило, задел, значит, а шел-то сзади. «Ты что, говорит, Мамушкин, подорвался? Ранен?» Ко мне сразу кинулся. А те двое поотстали, стоят на месте, не двигаются. А этот ко мне. «Ранен?» – говорит. «Вроде, говорю, нет, сапог только слетел». Гляжу, побледнел он сильно, белый, как бумага, сделался. «У тебя, говорит, не сапог, а ногу оторвало. Перевязать надо срочно, а то кровь вся уйдет». Солдатам крикнул, чтоб перевязали. Тут и я разглядел, что ноги моей нету, она вместе с сапогом лежит отдельно, непохоже это, вроде неправда какая-то, а оно так. И уж как понял это, увидел, что крови под меня натекло, мокро стало, так и сознание чуть не потерял, замутилось в голове, и тошнить стало, и больно, только теперь стало больно. Перехватили бинтом выше колена, кровь остановилась, в сознании все же остался, не впал, значит. Пока бойцы закутывали мою культю, лейтенантик видит, что все обошлось, захотел, видно, местность обследовать, нет ли поблизости других мин, ну и опять рвануло, шагов двадцать не успел отойти в сторону. Ему хуже пришлось, весь живот разнесло, сразу и помер. Мне бы не подчиниться ему, все же я старшина, а он кто – пацан, глупый еще. Пускай бы обстрелялся немного, пожил бы на передовой, а уж после приказывай сколько влезет. Мог бы, конечно, не подчиниться, отговориться. Но ведь он хоть и молоденький, а за самое больное место хватает, скажи, мол, что боишься. Я всю войну прошел – боюсь, а он не боится. Кабы так-то не сказал, не стал бы я идти, отговорил бы, проверить бы сперва надо и разминировать. А то прилетел, давай командовать: «Боишься…» Ну и пошел. Смелым хотелось быть, боя не дождался. Там бы и показал смелость. А то взял и загубил жизнь, не живши-то. Сильно запомнился. Пушок на губах, в сапожках, в мягких. Ремни новенькие. Хороший мальчик был. Нужна ль ему эта смерть? А дома? Мать-то, отец? Легко ли?
– Что мать-то пережила, – вздохнула баба Оля.
Катерина невольно подумала про Витеньку, вот бы подрос и в сапожках, в мягких, так-то на мине… Озноб прошел по ней, но ничего она не сказала, а только виновато поглядела на кроватку. А Михаил Борисович дальше говорил:
– Нет, я не трусил. Сдуру, конечно, не пер куда зря, но чтоб трусить, этого не было. Вообще попадались такие. Всякие встречались. Один все часы у меня требовал, из офицеров, в штабе писал, отдай, говорит, зачем они тебе, эти вот, что мы с Борисом продали тогда в ювелирном, отдай, и все. А часы-то, сами видели, корпус золотой. Выручили они хорошо нас, деньги нужны были, а взять негде, пригодились часики. А я чуть голову не положил за них. Фашист тогда в меня гранату бросил, не взорвалась почему-то, покрутилась возле, а не взорвалась, а патроны, видно, кончились у него. Руки поднял, лезет из развалины, а следом еще трое. Как увидел, что по-хорошему я, не того, не обижаю зря, вынает эти часы, мне тянет. «Не возьму, говорю, не надо мне часов». Нет, опять на да на, бери, говорит, а то все одно ваши отнимут. Я подумал, что это он верно, заберут наши, ну и взял. Он даже обрадовался, что взял я. Видит, что по-хорошему я с ними, как с людьми, обрадовался. Хоть он и офицер, а эти с ним тоже немцы, но не все же они фашисты, не может, думаю, чтобы все они фашисты были. А враг, он только с оружием враг, а так, с голыми руками, какой он враг.
– А когда наши были с голыми, они смотрели? – не согласился Борис.
– То они, а то мы.
– Не знаю, в Германии не пришлось, но я бы не стал чикаться. А если бы у него граната взорвалась или бы патроны не кончились, как бы тогда?
– Если бы да кабы… Конечно, может и плохой попасться, фашист настоящий, на лбу-то у него не написано, а по всей внешности – человек, глазами глядит, часы отдает, значит, в нем человек сидел. Я вообще безоружных не обижал зря. Чего уж они понаделали у нас, там разберутся, раз получилось так, что допустили их к себе, в СССР, а не мне ж их наказывать, мое дело воевать, гнать с земли. Да и как его ударишь или еще что? По карманам, к примеру, или прикладом совать в него? Ведь он глазами на тебя глядит, очки у него золотые и сам из себя… человек. Рука не поднимается.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)