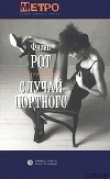Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Да, Витек знал уже и про Красное знамя труда. Он уже все знал, что надо знать мальчику СССР. Хороший рос мальчик, дядя Коля правильно говорил. Хороший. И вообще было хорошо. Учительницу нашли, Елизавету Александровну. Стала она приходить к Витеньке два раза в неделю, в семь часов вечера, после садика. И Борис всегда успевал с работы, садился в комнате, когда Витек занимался. Любил сидеть и слушать, как они занимаются. Пе-ту-шок, пе-ту-шок, зо-ло-той гре-бе-шок и так далее. Одним пальчиком выстукивал Витенька и подпевал, просила Елизазета Александровна подпевать – пе-ту-шок, пе-ту-шок, чтобы слух развивался. А Борис газеткой шуршал в углу, в кресле, читал вроде, слушал, слушал. Ах ты, господи! В черном лаке отражается Витек, пальчиком выстукивает чудные звуки. Об этом же мечтали когда-то, и вот, пожалуйста: пе-ту-шок, пе-ту-шок, зо-ло-той гре-бе-шок. А потом и сложное пошло, сперва одной рукой, потом двумя руками, Витенькиными пальчиками, и такая музыка… «Зима», например. Елизавета Александровна говорит, что эта пьеска называется «Зима». Сама сначала поиграет, потом Витеньку учит. Одной рукой, двумя, медленно, потом как надо. Настоящая зима, мороз, эхо морозное, деревья белые, лед потрескивает, зима – и все, как будто на самом деле все видишь и слышишь. Учительница попалась дай бог. Она все учила, все разговаривала. Витек играет, а она разговаривает, не молчит. «Ну-ка, Витенька, кто тут показался из-за угла?» – «Кот», – отвечает Витек. «А мышки что?» – «Мышки рассыпались». – «Ну-ка, сыграй нам, как они рассыпались, как разбежались по лестнице». И Витек играет. Лелька тоже приохотилась, повторяла за Витенькой уроки, потом бросила, не хватило терпения. На «Всаднике» бросила. Играет этого «Всадника», а Витек открывает дверь, из коридорчика заглядывает и говорит: «Не так играешь, неправильно». – «А ты покажи, как надо правильно». Не хочет, дверь прикрыл, ушел. «Покажи Леле, иди, покажи». Подходит. Голову угнул, слезы закапали. «Чего плачешь? Не можешь сказать, почему неправильно? Ну?» – «Она как будто знает этого всадника, но она же его не знает». – «Ах вот оно что. Не знает. Тогда покажи, как надо делать, чтобы не знала она этого всадника». Витек садится и мягкими пальчиками, мягко, глухо начинает: топ-топ-топ, топ-топ-топ, а слезы еще капают, и далеко где-то скачет всадник, чуть слышно перебирает, мягко стучат копыта. Только чуть-чуть пыль вскидывается, никто его действительно не знает, незнакомый всадник протопал мимо и пропал. Вот оно что. Молодец какой, аж мурашки по спине, незнакомый всадник, надо же… На нем и остановилась Лелька. Ей это недоступно стало, таланту не хватило. Ах ты, молодец какой.
Смешно сказать: после Витенькиных уроков, даже на другой день Борис чувствовал себя как-то необычно, сам не замечал, что весь вроде светился отчего-то. Со стороны сразу видно, уже в проходной замечали знакомые, а когда входил в цех, тут уж с вопросами то один, то другой. «Ты что сияешь, сон, что ли, хороший видел? Баба приснилась. Или клад выкопал». – «Где он выкопает?» – «Да хоть бы в стенке». – «В какой стенке, он же в новом доме живет». – «Значит, баба приснилась». Посмеялись, разошлись. А сменный мастер, дружок давний, этот уже по-серьезному: «В самом деле, что случилось, Боря?» – «Слушай, ничего не случилось». – «А чего сияешь действительно?» – «Ну, сын на пианине играл». – «Когда?» – «Ну, вчера играл». – «Хо-хо-хо! Уморил. Ну и что?» – «Да ничего».
Смешно. Да и никто не поймет этого. Не поймет…
Ну что же тебе, дурачку, надо? Чего тебе не хватает?
20
На четвертый год после того, как Мамушкины получили квартиру, на Юго-Запад стали переселять и весь дом с Потешной улицы, потому что больница расширялась и понадобился новый корпус. Расширялась, между прочим, не за счет психов, а за счет алкоголиков, что-то они больно в рост пошли. Евдокия Яковлевна говорит, вроде от хорошей жизни, жить стали лучше и начали пить больше, кто не выдерживает, переходит грань, становится больным. Евдокия Яковлевна говорит, что и девать их уже стало некуда, в коридоре койки поставлены, потребовалось дополнительное помещение. На пустыре по берегу Яузы, где всегда мальчишки жгли костры и резались в карты, теперь, говорит Евдокия Яковлевна, устроились эти алкоголики, облюбовали место, сходятся с утра и пьянствуют до самого вечера, Когда они только работают? Пьют там, закусывают чем попало, приучили воробьев, бросают им размоченный в водке хлеб, а те клюют и напиваются в стельку. Орут пьяные воробьи, крылья топорщат, прыгают, дерутся, на спину опрокидываются, и эти тоже орут, ржут, забавляются, спаивают птиц, подначивают и ржут, весело им. А из психов за эти четыре года один поступил, видный человек, ученый. Жена его сопровождала, интересная женщина, молодая, все, говорит, диссертация у него не шла, никак не подвигалась, все жаловался, что мыслей нет, не идут. И вдруг, говорит, под Новый год пошли. Наконец, говорит, пошли мысли, стал писать, пишет, пишет, чуть ли не сутки подряд, даже худеть стал. Гору бумаги исписал. Что-то этой жене показалось, и она выбрала время, поглядела, а там… не приведи бог, пришлось врачей вызывать. Писал, писал, а потом начал вычислять, цифры пошли, формулы, вычислял, кто когда умрет, когда третья мировая война начнется, когда земной шар расколется на две части. А тема диссертации, жена говорит, совсем у него другая была. И вот вызвала врачей, привезли. Только один он, остальные алкоголики. Евдокия Яковлевна говорит, что эти алкоголики хуже психов намного. Им таблетки стали давать, по одной в день, чтобы у них отвращение к водке вызвать, таблетки на спирте, так они высмотрели ящик, вскрыли, ночью нажрались этих таблеток, сидят на койках, орут песни. Евдокия Яковлевна выговор схлопотала, в ее дежурство получилась эта пьянка на таблетках. Очень довольна теперь, что ушла на пенсию. Как только получила однокомнатную квартиру, так и ушла на пенсию. Теперь опять стали жить вместе, съехались по обмену, трехкомнатную выменяли, и опять все вместе. У Витька отдельная комната, там у него наковаленка стоит на сосновом комле, инструмент валяется, и пианино стоит, без дела. В этой комнате скучно стало. Отдельная комната у Евдокии Яковлевны и еще третья комната – там Борис с Катериной. Лелька живет в другом месте.
Почти весь больничный дом переехал сюда, на Юго-Запад, расселились вокруг одного метро, потихоньку все и перевстречались в магазинах, на улицах, где-нибудь в очереди за фруктами или осенью за арбузами. Тетя Поля, глухая, через год после дяди, Коли умерла, и Марья Ивановна одна переселилась, одна живет, все удобства, очень довольна, хотела взять какую-нибудь квартирантку, из студенток, но приходили все студенты. «Ну как я пущу студента, – говорит Марья Ивановна, – все же я женщина, и не сказать, чтоб старая, не могу я в одной комнате находиться с ним, попадется какой-нибудь, мало ли что, лучше, уж одна буду жить». Третий раз замуж выходить не стала, да и предложений пока не было, правда. Варвара Петровна со своим внуком-волчонком тоже переехала. Внук, собственно, никакой уже не волчонок, годы быстро летят, сильно меняют человека, смолоду тем более. Парень выправился, красавец мужчина, изменился до неузнаваемости, бабка не нахвалится, порядочным человеком стал, где-то на секретной работе работает, то ли в содействии милиции, то ли еще где, никто не знает, даже сама бабка Варвара Петровна. Главное, что человеком стал. По судам Варвара Петровна ходит по-прежнему, но теперь уже не так часто, годы не те, трудно передвигаться, а слушателей полно, даже больше стало, дом большой, восьмиэтажный, у подъезда такая сходка бабок собирается, в два ряда сидят на собственных стульях, всякого человека – с работы идет, из магазина ли – обглядят с ног до головы, как рентгеном просветят. Тут есть кому рассказывать, но часто ходить по судам все-таки уже не хватает сил. Встретила Катерина и Софью Алексеевну, прямо как родная обрадовалась врачиха, в гости пригласила, чтобы с Витенькой пришли, Женечка уже большая, в четвертый ходит, по-прежнему живет у бабушки. Сама Софья Алексеевна тут стала работать, санитарным врачом по детским садикам, из психбольницы ушла, ездить далеко, и вообще устала она от них. Катерина тоже пригласила Софью Алексеевну и ни с того ни с сего вдруг спросила про книгу, про Марфу-посадницу, спросила и покраснела. Сдуру, наверно, ляпнула, не подумавши. Тоже, мол, туда же, но Софья Алексеевна как будто даже обрадовалась, охотно отозвалась, еще раз пригласила Катерину, приходите, мол, потолкуем и о моей книге, дело это сложное, в двух словах не скажешь. Катерина в свою очередь почувствовала какой-то прямо прилив, как бы даже возвысилась над самой собой втайне, и еще больше покраснела, уже от другого покраснела, вот разговаривает о книге, о Марфе-посаднице, с Софьей Алексеевной, такой интеллигентной дамой, надушенной и вообще, разговаривает, как будто так и надо и ничего в этом такого нет. Обязательно придем, Софья Алексеевна, и так далее. Ободренная вниманием, Катерина начала про Витька рассказывать, как мучились, не могли в детский сад устроить. Софья Алексеевна сказала, что, конечно, она бы помогла устроить, если бы это понадобилось сейчас, а сейчас, поскольку в школу пора, советую вам, Катенька, в спецшколу устроить, обязательно туда, там, знаете, языки, преподавание ведется на иностранных языках и, знаете, перспектива, настоятельно советую, пусть сам сходит Борис Михайлович. И даже адресок дала, тут же вынула из сумочки ручку, вырвала листок из блокнота и написала Катерине адрес спецшколы. Будут вместе с Женечкой.
Поближе к осени, когда дети уже на учет были взяты по своим районам, Катерина заставила Бориса Михайловича сходить в эту спецшколу. К директрисе зашел в кабинет вместе с Витьком. Так, мол, и так, хороший человек посоветовал к вам обратиться, сам на заводе работаю, член партии, на фронте был и так далее. Директриса, серьезная дама, видная, строго слушала, потом спросила, в каком районе проживает проситель. Борис Михайлович ответил. Ну, вот и записывайте в школу своего района, там, где положено. Борис Михайлович возразил, в свою, мол, он знает, в свою и без его просьбы запишут, но хотелось бы в вашу, в спецшколу, на языках учить, перспектива и так далее. Директриса еще раз объяснила, что не может, Борис Михайлович в свою очередь еще раз повторил свою просьбу, еще раз о своих заслугах сказал, прибавил еще, что и отец воевал и тоже имеет награды. Взаимонепонимание затягивалось, потому что Борис Михайлович, чем больше сопротивлялась директриса, тем с большей настойчивостью просил, упрямился, не уступал, потому что уже почувствовал ценность этой школы, раз уж с такой силой сопротивляется директриса.
Витеньке с самого начала не понравился этот разговор, и он все время дергал отца за пиджак, а теперь, когда уже и ему стало все понятно, он просто потащил Бориса Михайловича к выходу. Пришлось подчиниться и уйти без всяких результатов. На улице Борис Михайлович заметил Витеньке, зачем он так невежливо тянул его за пиджак, если бы не тянул, то отец обязательно бы добился, потому что эта директриса не понимает сама, что говорит, Борис Михайлович обязательно бы доказал, что она не права. А Витек сказал, что ему было стыдно стоять. «Подумаешь, стыдно. Ты что, разве не хочешь на иностранных языках учиться?» – «Не буду на иностранных». – «А вырастешь, поедешь в какое-нибудь государство, а говорить по-ихнему не будешь уметь?» Витек в свои семь лет уже хорошо был начитан и вообще был неглупым мальчиком, поэтому он ответил отцу сразу, что без переводчиков в чужие государства не поедет. И Борис Михайлович как-то сразу успокоился. Черт с ней, с этой спецшколой, пусть будет Витек как все, пусть на русском языке учится. Катерину он тоже уговорил быстро. Согласились учиться в обычной школе на своем русском языке. И Витек стал учиться, причем на одни пятерки, до самого пятого класса учился лучше не надо. Первый раз споткнулся именно в пятом классе. На чем же? На сочинении. Раньше, в четвертом, он не любил эти сочинения. Как ты провел каникулы? Или как ты помогаешь своим родителям и так далее. Не любил писать, а всегда получалось на пятерку, а тут вдруг захотелось. Долго мучился, карандаш грыз, потом с карандаша переписал чернилами в тетрадку, матери показал. «Отец, ты погляди, какое сочинение написал Витек, у меня даже слезы выступили, честное слово, ты только почитай». Борис Михайлович прочитал и тоже одобрил, красиво написано, как листок на березе жил, как ему хорошо и весело было зеленеть, греться на солнышке, тень для ребятишек бросать, чтобы не жарко им было, а потом пришла осень, стал листок желтеть, и однажды ветер дунул, и листок оторвался. Пока он летел на землю, перекувыркивался в воздухе, он все вспоминал про свою жизнь, про то, что она больше никогда не вернется, и еще не успел все припомнить, как упал на асфальт и смешался с другими такими же, и по ним стали ходить сапоги, туфли на острых каблуках и даже собаки стали бегать, а потом их всех смел дворник в одну кучу и поджег, и горели они с дымом целый день. Витек был очень доволен, что так высоко оценили его сочинение отец и мать, он даже подумал, что, может, вообще будет сочинять, и в газету пошлет, в «Пионерскую правду». До этого он не думал ничего подобного, до этого он сочинил всего один стишок «Летают в небе три бога́», но это еще маленьким был, да и сочинил ночью и вообще забыл про эти глупые стишки, если бы не напоминали дома, перед знакомыми не хвастали, но это другое дело, про березовый листок, это действительно хорошо вышло, сам не ожидал. Сдал сочинение учительнице, и оно никак не выходило из головы. А на другой день пришел хмурый, ничего не отвечал, когда спрашивали его мать и отец, в чем дело, почему такой хмурый. Молчит. Вот в тот день молчал Витек точно так же, как теперь молчит, когда большим стал. Правда, тогда все это быстро прошло, но видно, что уже тогда начинал он учиться молчать. В чем дело? Может, в дневнике написали что? Может, на уроке не слушал, баловался или подрался, может быть? Нет, в дневнике было чистенько. Нет, не чистенько, там стояла, была выведена жирными красными чернилами первая тройка. Не может быть. Посмотрели тетрадку – все правильно. Под сочинением была выставлена та же тройка и положена резолюция, тоже красными чернилами: «Не раскрыл тему и не перечислил всех примет осени». Три. Какой ужас. Но спорить не стали, и при Витеньке учительницу не ругали, а про себя и между собой ругали, конечно. Обидно было. Второй раз споткнулся тоже на сочинении. Это уже в шестом было, после лета. Тут Витек как раз стал увлекаться «Крокодилом». Борис Михайлович кроме центральных газет выписывал еще «Крокодил». Раньше Витек не обращал внимания ни на газеты, ни на этот журнал, а тут как-то сильно зауважал смешное, карикатуры, смешные заметки, вообще юмор, и «Крокодил» стал его любимым чтением и уже оказывал на него сильное влияние. Если дома заговорят, например, о каких-нибудь неполадках, или Борис Михайлович скажет, к примеру, что мать, то есть Катерина, не так пуговицу пришила на пиджаке или еще что-нибудь в этом роде – пересолила суп, например, то Витек тут как тут со своим юмором. Вот, говорит, карикатуру бы нарисовать, как мама неправильно пуговицу пришивает, это очень просто. У него все было очень просто. Он даже на международные темы предлагал карикатуры. Услышит по радио, что сильная страна обижает слабую или демонстрацию разогнали где-нибудь, Витек обязательно скажет, что это очень просто, на них карикатуру надо нарисовать. Когда приезжала бабушка с Потешной, он читал ей эти журналы и заставлял смеяться. И вот под этим сильным влиянием написал он сочинение о любимом герое. Учительница объяснила, что можно взять или космонавта, или из Отечественной войны, из гражданской войны – кого кто знает, можно и из книг брать героев, но Витек под влиянием «Крокодила» написал о своем деревенском приятеле, летом познакомился с ним в дедушкиной деревне. С героями, написал он, мне, дескать, не повезло, на нашей лестничной площадке не живет ни один герой гражданской войны, не катался я на багажнике машины, которая подобрала приземлившуюся Терешкову, я даже не знаком с укротителями тигров, но вот у меня есть, мол, приятель, который тоже достоин описания и так далее, шел, конечно, на двойку. Он и получил ее вместе с припиской о недопустимости шуточек и глупого юмора в такой серьезной теме. Огорчение для всех было сильное, потом прошло оно, только с этой учительницей отношения у Витька испортились навсегда. И особенно когда стал он учиться хуже и хуже. Сперва эта учительница вызывала родителей за всякие мелкие провинности: не работает в классе, разговаривает, мешает; потом подряд пошли двойки: не хочет учить стихи и заявляет при всех, что не будет учить и не будет, как дурак, читать их перед всеми. Как это не будет! Стал ходить на вызовы сам Борис Михайлович, Катерина уже боялась учительницу. Про себя Борис Михайлович думал, что все это учительницыны придирки и капризы. Подумаешь, не работает в классе! Значит не надо. Если учительница не может заставить, значит, ей надо другую работу взять. И Витька задергала, и их с Катериной. Не пойдет он больше, глупостями занимается. Однако в скором времени опять пришлось идти, в дневнике серьезно предупреждалось, что Витек не будет допущен в класс. Пришел, на третий этаж поднялся, там ждал. Приняли его две учительницы: знакомая, по литературе и языку, и другая с ней, которая все время поддакивала знакомой, вставляла свои слова. А говорили про Витька, что он обязательно вырастет мерзавцем и негодяем. Да, да, именно так. Это вторая поддакивала. Почему? Потому что он, Витек, вступил в открытое единоборство с учительницей по русскому языку и литературе. Единоборство. Смотрит на нее нагло, а в глазах презрение. Когда учительница крикнет, чтобы Витек прекратил смотреть с презрением, или когда сама она уставит на него испепеляющие глаза, тогда он двумя руками начинает как будто бы оттягивать от зубов резинку и как будто бы хочет выстрелить в учительницу жеваной бумагой. Почему как будто бы? Потому что после проверки оказалось, что никакой резинки у него на самом деле нет, он просто терроризирует, берет на испуг. «Он преследует меня угрозами, делает вид, что стреляет в меня жеваной бумагой». Борису Михайловичу очень хотелось выразиться по-черному, а то и посильней как-нибудь, послать эту учительницу куда-нибудь подальше или просто обозвать как-нибудь, но вместо этого он пришел и надавал Витьку пощечин, первый раз в жизни ударил сына, по щекам надавал и страшно удивился, как Витек отнесся к этому, как выпрямился в струнку, даже вперед подался немного, окаменел и дал бить себя по лицу. Голова у него откидывалась в сторону от удара, но он возвращал ее на место, чтобы отцу было удобней бить. Даже страшно стало, потому что показалось, что выдержка Витька не имеет предела, что он может вполне сгореть на костре, не сойдет с места, не попросит ничего, наоборот, если даже упадет от слабости, то постарается снова встать, чтобы сгореть стоя. Стало страшно. Значит, силой его не возьмешь. Раньше, например, любого можно было привести в чувство, заставить покориться, всыпал хорошенько – и все в порядке, долго будет помнить. С этим так не получается. Бей, если хочешь, а может быть, и так: бей, если ума хватает или, наоборот, не хватает, можешь убить, делай вообще что хочешь, все вытерплю, потому что все это презираю, не ставлю ни во что.
Неужели все они такие? Подрастающие? Может, они лучше нас растут?.. Ладно панику поднимать, перемелется – мука будет. Будет ли?
«Ты что же, сынок? Доводишь меня до чего? – На другой день говорил по-доброму, – Додумался в учительницу стрелять. А если бы резинка была? Нажевал бумажки и запустил бы? Прямо в лицо учительнице? Так, что ли? Что ж ты молчишь, сынок?» Молчит. Вот тут уже стал он по-настоящему молчать. «Тебе что, сказать нечего?» – «Да, нечего». – «Ну, слава богу, хоть это сказал».
Сложное дело. Крайние меры не действуют. Может, навстречу пойти? Как сам знает, так пусть и делает? Это уже Витек играть перестал, потому что увлекся паяльником.
Как, бывало, звенел голосок его, колокольчик!
А когда молчал, из комнаты доносился тоненький звон наковаленки – динь-динь-динь. Ковал Витенька. Но сколько можно ковать? Ведь он ковал ничего, просто играл наковальней, молотком. Динь-динь-динь! Но годы идут. Вырос Витек, в шестой уже пошел, ковать ничего, простую проволочку, уже не хотелось. И тогда увлекся он паяльником. Кислота, цинк появились, попросил электропаяльник купить, купили, дымком затянулась Витенькина комната, своеобразным запахом, между прочим, близким Борису Михайловичу и желанным. Близко к металлу, к заводскому делу, поэтому Борис Михайлович особо не раздумывал, когда Витек, глядя в пол, сказал однажды, что не будет больше заниматься музыкой. Почему? Потому что не может совместить: Витек показал на свое хозяйство, на стол, где дымился паяльник, где было все завалено диодами, триодами, конденсаторами, изоляцией, полупроводниками, панельными пластинками, разноцветными проволочками и прочей радиоутварью, которую Витек добывал с приятелями на промышленных свалках под Москвой.
Борис Михайлович заглянул к нему в комнату, остановился за его спиной, с удовольствием наблюдал. Витек собирал транзисторный приемничек, припаивал одну детальку к другой, и на панельке перед ним уже образовалась такая сложная, запутанная схема, что Борис Михайлович с приятной гордостью за сына подумал: обгоняет отца, обгоняет, не может Борис Михайлович разобраться в этой сложной и запутанной паутине проводков, красных, синих, желтых, в этом беспорядочном нагромождении диодов, триодов, транзисторов, сопротивлений и конденсаторов, в каких-то каскадах, где его Витек был полновластным хозяином. Вот он что-то отпаял и перенес в другое место, к другому припаял, новую взял детальку, прибавил еще куда-то, куда и прибавить вроде ничего уже нельзя. Дышал Борис Михайлович за спиной Витька, и тот слышал и, конечно, догадывался, что отец тихо радуется там, за его спиной. И это был подходящий момент. Витек встал, повернулся и, глядя в пол, сказал, что не будет больше заниматься музыкой. Почему? Потому что не может совмещать.
Борис Михайлович не особо стал раздумывать. Раз такое дело, что ж, пусть будет так. Если бы каким баловством занимался, дело другое, а это мне по душе, будешь по радио специализироваться и на спутниках можно, и так, на земле, работы хватит. Не всем же на пианине играть. Витек не ожидал такого легкого разрешения, обрадовался, сказал, что во Дворец будет ходить, в радиокружок. Ну, это уже совсем хорошо. Борис Михайлович с ужасной неловкостью объяснил Елизавете Александровне: «Наотрез отказался, силу применять как-то неудобно и перед вами все-таки неловко». – «Да полно вам, Борис Михайлович, что тут такого, случай довольно обычный, между прочим, по секрету скажу, как только начнет обращать внимание на девочек, сам вернется к инструменту, тогда вспомните меня». – «Ну, до девочек еще далеко ему». – «О! Не говорите…»
Елизавета Александровна больше не приходила, перестала приходить к Витеньке, пианино замолчало.
21
Но это потом стало грустно, а сначала ничего особенного, даже весело было. Витек паял, собирал маленькие транзисторные приемнички, из его комнаты всегда доносилась музыка. Все удивлялись, как это из мусора, из каких-то железочек, рассыпанных по столу, кое-как приклеенных друг к дружке, идет музыка, сперва через наушники надо было слушать, а потом Витек сделал так, что эти железки вслух пели и разговаривали, как настоящее радио. А уж когда он уложил весь этот металлический мусор в мыльницу, в простую, самую обыкновенную мыльницу, и она запела, как приемник, тут все ахнули и про пианино уже не вспоминали. Решили, что Витек нашел себя вполне, что его будущее определилось.
Как это и положено, в счастливой семье все было хорошо. Тут как раз и Лелька закончила университет, по историческому факультету, и уже работала. Ее биография, куда входили школа с университетом, а также первые самостоятельные шаги по жизни, была как стеклышко. Если бы все были такими, как Лелька. Но Витенька не любил ее. Сперва потому, что: «Вот гляди, даже Лелька ест кашу, а ты не ешь, вот Лелька учит уроки, а ты и не садился, почему у Лельки все прибрано, все чистенько, а ты на кого похож и так далее». Сперва поэтому, а потом он просто возненавидел ее, к ней стали ребята приходить, придут, сядут, вообще рассядутся, острят наперебой, каждый выставляет себя, остроумие показывает, ржут вместе, а то Лелька книжкой кого-нибудь огреет по спине, притворяется, вроде сердится, а сама рада без памяти, что ребята вокруг нее увиваются. Девочки, между прочим, почти не приходили, а все эти – женихи. Они и по телефону то и дело названивали. Когда подходил Витек, он никогда не отзывался, швырял трубку и говорил, иди, женихи, мол, названивают. Лелька фыркала, но сама со всех ног бросалась к телефону и сразу начинала расплываться, рот до ушей делать, голосом играть – о-ле-ле, ле-ле, ха-ха-ха и так далее, дура толстожопая. «Ты что же, негодяй, на сестру так говоришь, волю взял…» Витек недослушивал материну брань, быстренько, подобрав зад, чтобы не хлестнула чем-нибудь, ускальзывал в комнату. Конечно, главную роль играла тут разница в летах, большой разрыв, на целых одиннадцать лет, поэтому Витек и Лелька не могли найти в себе ничего общего. Так знакомые объясняли, Наталья, например, мать Вовки, который застрелился потом, в девятом классе. Наталья говорила, что это у всех так. Если большой разрыв в летах, дети, как правило, не ладят. Особенно Витька донимали эти ребята, они, как мухи на мед, налетали на Лельку. Конечно, она красивая, хотя и не очень. Вообще-то, если бы не эти прилипалы, с ней можно было бы и дружить немного, ведь когда-то, очень давно, когда Витек еще в детский сад ходил, он любил Лельку. Дома он, как хвостик, тихо, без слов таскался за Лелькой из комнаты в комнату, из коридора на кухню и так далее. Молча потому, что и он, и Лелька отлично понимали, чего хочет Витек, чего он ждет, слоняясь за ней по пятам, он хочет, чтобы Лелька поскорей садилась за уроки. Обожал уроки. Устраивался напротив и мысленно сопровождал каждое Лелькино движение, то есть даже не сопровождал, а как бы сам доставал учебник, находил нужную страницу, читал, хотя читать еще не умел, шевелил губами, читал, потом писал, подчеркивал, решал задачи, чертил и даже чуть-чуть язык высовывал, когда Лелька старательно писала в тетрадке. Тут, напротив Лельки за столом, выучил он буквы и цифры, а также поднатаскался в разных выражениях и словечках. Буквы и цифры он выучил в перевернутом виде, потому что сидел напротив, и легче всего узнавал их, а потом и читал, именно в этом перевернутом виде, а уже в школе эту манеру читать показывал как фокус, все очень удивлялись, и никто не мог повторить за Витьком, никто не мог так бегло читать вверх тормашками. Он чуть ли не голова к голове склонялся с противоположной стороны над Лелькиными уроками и то и дело спрашивал, пальчиком показывал. «А это? Леля? Это – «ж»? Да? А это «рры?» – «Не «ры», а «эр». – «А это – восемь? Вопросительный? А это? Корень?» – «Квадратный корень». – «Мама, у нас квадратный корень, в Лелькиной книжке». Витек любил тогда Лельку. Да он и мать любил тогда, и отца, и бабку Евдокию Яковлевну, и деревенского деда, и бабу Олю. И не было ни одной фотографии, где бы он не улыбался, не сиял бы своими лучистыми, замечательно серыми глазами. И не тихонечко как-нибудь, не застенчиво, не исподлобья, а с вызовом, с веселым напором, открыто, готовый каждому откликнуться, отдать свое прекрасное сердце. Как-то летом, в один из приездов на Незнайку, когда дедов сад, и луга, и лесные поляны, и берега Незнайки утопали в цветении трав, все благоухало, Витек в белой и легкой панамке, в беленькой рубашонке и коротких штанишках, почти утопая в ромашках, бросался от одного цветка к другому, то скрывался с головой и приседал перед голубенькими незабудками, то доставал из зарослей ромашек розовую гвоздичку на тоненьком стебельке.
– Мама! Папа! – звенел его серебристый голосок.
– Нравится? – спросила тогда Катерина.
– Ведь это же цветы, – ответил Витек.
– Я и не знал, что ты любишь цветы, – сказал отец.
– Ведь я же сам, папа, цветок жизни, – сказал тогда Витек.
Конечно, чувствовалось влияние «Крокодила», но в этой шутке была одна только правда. Вот она, фотография. На белом фоне ромашек, вернее, из белых зарослей ромашек выглядывает в белой панамке Витек. Смотрит навстречу, улыбается. Куда же он подевался? Цветок жизни. Ведь был он, был и не мог пропасть навсегда. Когда уже возненавидел он Лельку из-за этих прилипал и, к остальным охладев постепенно, отчуждался, даже тогда – правда, мать долго упрашивала, стыдила – собрал он для бабушки Евдокии Яковлевны приемничек, упаковал в мыльницу и сам отвез в больницу, где бабушка лежала с первым инфарктом, поправлялась уже. «Вот, – говорила бабушка товаркам своим по палате, – вот мыльница, а на самом деле это приемник, внучок сделал, послушайте, надевайте наушники, а я включу, слушайте». Товарки и правда слушали из этой мыльницы передачи, как из настоящего приемника. Они слушали, ахали, внучонка хвалили, вот ведь какой, сам сделал и бабушке принес, чтобы не скучала в больнице, теперь таких внуков поискать – не найдешь. Товарки удивлялись и радовались, а бабушка плакала от счастья, что у нее есть такой внук, Витек, Витенька. Она плакала от счастья и оттого еще, что знала, что Витек уже с трудом ее переносил, через силу отвечал, через силу отзывался на ее какую-нибудь просьбу, что он вообще уже никого в доме не любил.
– Счастливая вы, Евдокия Яковлевна, – говорили товарки по палате.
– На бабушкиных руках вырос, как же, – гордилась и плакала Евдокия Яковлевна.
«Невыносимо жить нелюбимым у нелюбимых родителей». Вранье же, все до последней капли вранье. Перед собой оригинальничает. Или нахватался у кого-нибудь, у Вовки например, там это серьезно, отец шалава, то уходит из дома, то приходит. И конец получился какой, проглядели парнишку, сами собой занимались, а его проглядели.
Борис Михайлович всегда успокаивался, когда под руку попадались фотографии, и он начинал их разглядывать, забывался и успокаивался. Особенно любил он разглядывать фотографии вдвоем с Катериной. Как они упивались воспоминаниями! Потому что уже потихонечку начинали стареть.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)