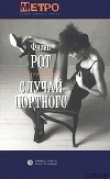Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Домовых у нас давно уже нет, – говорил Серега, – а вот фортку закрывай, залезет рукой, окно отворит – и все.
– Да кто тут залезет? – не соглашался я, не хотел оставаться с домовыми при закрытой фортке. У меня в комнате даже свечи не было.
– Кто, кто! Да хоть бы Валэнтин. Заберется и обчистит, ему это раз плюнуть.
Так впервые услыхал я про Валэнтина, который впоследствии сделался моим личным другом.
– Какой Валэнтин? – спросил я тогда Серегу.
– Узнаешь еще, вчера явился. – Но кое-что рассказал о нем.
Валэнтин – старший сын Норы, тот самый, что от Узулиня. Валэнтину пятнадцать лет, он окончил семь классов и два раза уже побывал в колонии для малолетних преступников. Вчера Пора ездила в Лимбажи и на улице столкнулась с Валэнтином, связался там с какой-то шайкой. Привезла домой.
– Да чего там говорить, – сказал Серега, – закрывай фортку, так будет верней.
И правда, уже утром я увидел Валэнтина. Он был во главе ватаги своих маленьких разномастных братцев. С большеньким, с Гунаром, они перебрасывались копьем, настоящим спортивным копьем. Остальные бегали по траве, визжа от восторга. Чуть в стороне держался дурачок Ивор. Тут же путалась под ногами белоголовая крошка Эвиня. Видно было, что все они рады возвращению домой Валэнтина, их старшего брата. Он был крепок не по возрасту, скуласт и, кажется, глазами похож на свою мать Нору.
Вся ватага вслед за Валэнтином гуськом потянулась к морю. Опять стало тихо. Брошенное копье металлически поблескивало в траве.
После обеда мы обычно спали. Проснулся я от неясного шороха или царапанья за дверью, что выходила не на лужайку, а на дорогу. Я встал, вышел на кухню, прислушался. Ни шороха, ни царапанья не было слышно. На всякий случай все же открыл дверь. Передо мной, перед самым моим носом, стоял Валэнтин. Он держал в руках десяток яиц и ласково улыбался мне Нориными глазами.
– Яички, – сказал он тихо, с ударением на «я». Опять улыбнулся и показал крупные Норины зубы.
Валэнтин, верно, был уже полностью осведомлен о нас с Серегой. Серегу-то он знал давно, меня видел впервые, однако смотрел сейчас и улыбался как знакомому человеку, которого хотя видел и впервые, но хорошо знал, что такой человек существует, живет по соседству. Успев усвоить какие-то латышские слова, я поблагодарил Валэнтина по-латышски. Это его немножечко рассмешило, а может, и тронуло. Из горла у него выкатился какой-то звук – утробный и нежный, крупные Норины зубы преданно обнажились. Я переложил яйца к себе на руки, в карманы, а Валэнтин все улыбался, потом босыми подошвами зашорхал по каменной плите, попятился, круто развернулся и убежал.
…Теперь пропали иволги. Они переселились куда-то, где не было близко людей. Только ранним утром, когда я выходил к морю, они вскрикивали раз-другой, протяжно и печально, и снова улетали к своим новым местам. В просветах ветвей я успевал заметить в стремительном и волнистом лете их желтые животы.
«Чви-чирли-чуи-чирли-чирлирлю, – заливались славки в осокорях. – Чуи-чирлирлю…»
За грабом, в ольшанике, били зяблики: «прррр-чи-чи-чи-чиу. Тррр-чиу». И синицы гвоздиком по стеклу: «ци-ци-ци». И все назойливей выхвалялись чечевички: «чечевичку видел, чечевичку видел?»
Тихо и радостно цвела сирень, и флюгер еще не знал, куда ему повернуться хвостом, куда головой. И море нежилось и дремало, еще не понимая, на что оно способно. Но я уже знал по его ленивой дремоте, по маслянистому блеску его, по чуть приметным белым перышкам в далеком небе да еще по тому, как низко, по-над самой землей, гонялись за добычей береговые короткохвостые ласточки, знал, что к вечеру будет дождь, и море будет шуметь, и молния бить по нему отвесно и ослепительно.
Янис Секлис расписывал потолочные балки в каминной комнате. Серега неслышно смеялся и плакал за письменным столом над своим Булкиным.
И что ему в этом бумажном, в этом выдуманном человеке? Думает о нем постоянно, всю жизнь его переживает заново, по дням, а то и по часам. Отворишь тихонько дверь, посмотришь, а он сидит над страничкой, тихо улыбается или, наоборот, морда кислая и глаза мокрые. Спросишь:
– Ты чего, Серега?
– Да чего, чего! Ничего.
«Чви, чирли-чуи-чирли-чирлирлю…»
– Чертова мать, – услыхал я уже знакомый, с трещинкой, голос Секлиса. Что-то взбудоражило их там, что-то обсуждали они с Серегой на веранде.
– Ха-ха, – сказал Секлис, когда я подошел к ним. – Дело есть такое, Янка убивал Узулиня.
– Убивал или убил?
– Уже нет. Тогда, когда смотрел в окно, Янка опустил на голову Узулиня кирпич, большой кирпич. Когда поднял на шестьдесят сантиметров, тогда опустил на голову. Узулинь упал и стал дергать ногами.
Мы прошли в каминную, к окну. Перед домом Узулиня было уже пусто. Прошло немного времени, и мы увидели выбиравшегося из кустов Валэнтина. Он был по пояс голый, босой и воинственный, с острым металлическим копьем в правой руке. За ним едва поспевал тоже разгоряченный, корявый и коричневый Узулинь. Они прошествовали мимо амбара и скрылись в своем домике.
Когда Серега увидел голого, с копьем, Валэнтина, он подтолкнул меня в бок и сказал:
– Вот он, твой Экзюпери.
Я пожал плечами.
Узулинь напился, а в такие минуты на него нападала тоска и обида. Он бросился со своими корявенькими кулаками на Янку и получил камнем по голове. На помощь отцу пришел Валэнтин. Он поставил на ноги пострадавшего, схватил свое копье и вместе с отцом стал преследовать Янку, загнал его по морскому берегу в соседний хутор. Нора спокойно смотрела на эту, видимо, уже привычную баталию и только временами уговаривала: «Оставьте Янку, оставьте Янку». Янка сбежал, победители укрылись в своем доме.
На другой день, однако, Узулинь вместе с Янкой мирно ладили повозку, что-то укладывали в нее, готовились на сенокос. Валэнтин по куриным сижам собрал яйца и снова принес к нашему порогу. Кухонная дверь у нас была отворена, а за моей спиной шумел примус, возле него хлопотал Серега. Я сидел на корточках перед дверью и смотрел на муравьев. Тут был бунт маленьких против больших. Маленьких была тьма, больших – не так много, но они выделялись своими размерами и своей важностью. Большие были угольно-черны и лоснились от сытости, они вели себя низко и подло. Трусливо драпали, покидая родную землю, взбираясь на штакетник изгороди. Если кто погибал из них или был ранен, его бессовестно бросали на поле боя, потому что каждый думал только о спасении собственной шкуры.
Жирные обосновались слева от меня, у подножия штакетника, маленькие рыжие плебеи, которых была тьма, жили справа, под стеной дома. Между теми и другими лежала каменная плита, порог нашего дома или некий плацдарм, которым давно уже овладели передовые отряды рыжих. Хотя плацдарм был занят, бой еще продолжался. Одни из маленьких храбрецов преследовали отступавших великанов, с ходу атаковали их, другие выносили с поля боя погибших товарищей, третьи волочили в свои тылы убитых или взятых в плен жирных негодяев.
Вот он, маленький, несется по каменной плите, мужественно преодолевает препятствия, воинственно вытянув рыжую головку, вот он настигает черного, лоснящегося от сытости великана, обходит его с фланга и бросается врукопашную, мертвой хваткой впивается в горло ненавистному врагу. Раздается душераздирающий хруст позвонков. Черный великан взвивается на дыбы, маленький, не разжимая челюстей, повисает у него на горле. Тогда черный рывком складывается вдвое и начинает душить маленького своим тяжелым, жирным телом. Не хватает воздуха, малютка задыхается от удушья, от гнусного запаха пота и мочи, но челюстей не разжимает. Еще минута, и жирный судорожно распрямляется, маленький победитель, полуживой, с помятыми ребрами и суставами, глотает воздух, и воздух победы возвращает ему силы, он выправляет вывихнутые суставы, взваливает на плечо бездыханную ногу великана и волочит побежденного в глубокий тыл, домой. Бывают, однако, и другие исходы, об этом свидетельствует поле боя, усеянное еще не подобранными трупами маленьких храбрецов.
Я так увлекся этим неслыханным сражением, этим бунтом рыжих плебеев, что не заметил, как подошел Валэнтин, сложил на траву яички и молча наблюдал за ходом боя. Я заметил его только тогда, когда он не выдержал, протянул руку, чтобы прийти на помощь маленькому воину, задыхавшемуся в объятиях жирного великана. Я увидел Валэнтина и одновременно понял, на чьей стороне его симпатии. Когда бой, в общем, закончился и порог был полностью занят плебеями, а муравьиная элита спасалась между небом и землей, на садовом штакетнике, Валэнтин стал по одному снимать с изгороди жирных трусов и бросать их в боевые порядки восставших. Те, хорошо изучив приемы жирных складываться вдвое и душить своим телом противника, хватали за ноги великана, растягивали его, не позволяя складываться, и в таком распятом виде уносили в свои тылы, на расправу.
Валэнтин подошел к изгороди, чтобы снять очередного великана, остановился, заглядевшись на черные лоснившиеся туловища, выбрал самого крупного и бросил его на расправу маленьким бунтовщикам.
– Нащальник, – сказал он.
– Так давай, старик, без политики, – сказал я Валэнтину.
– Пашему? – спросил он и улыбнулся, видимо не совсем понимая то, что я сказал ему.
– Нехорошо, – сказал я.
– Пашему? – повторил Валэнтин.
– Потому.
Валэнтин не знал, что я тоже начальник. Я не стал ему говорить об этом, а внимательно посмотрел в его доверчивые глаза и понял, что мы подружились.
– Купаться идешь? – спросил он дружески.
– Пойду, – ответил я и этим самым как бы закрепил возникший между нами союз. – Пойду, немного погодя.
– Харашо, – сказал Валэнтин и тоже как бы поставил свою печать под нашим безмолвным договором о дружбе.
Я ушел на кухню, а Валэнтин сбегал за Гунаром, и они долго потешались над муравьиной битвой, непонятно и бойко, по-латышски, комментировали события, которые в их однообразной жизни были, видимо, захватывающими и значительными.
– Серега, – сказал я Сереге, – Валэнтин очень нежный паренек.
– Ты почаще приваживай его, он тебе покажет нежность, – Серега видел нас из кухни и был, как я понял теперь, недоволен.
– По-моему, – сказал я, – ты не прав.
– Ага, – грубо отозвался он, – ты еще в дом его приведи.
Мне захотелось к морю, и я ушел. На горячем песке в три прыжка настиг меня Валэнтин, как будто все это время он подстерегал меня в зарослях. Легкая распашонка и портки свалились с него на ходу, упали на песок. Расталкивая воду, он шел впереди, оглядывался на меня, улыбался. Потом мы поплыли, Валэнтин был радостно возбужден, поравнялся со мной, спросил:
– Пойдешь до камня?
– Давай, – согласился я, и мы поплыли до камня. Валэнтин нырял, уходил вперед, снова возвращался, кружил вокруг меня, как умное животное. До камня было далеко, и я вернулся. Вернулся и Валэнтин. На берегу мокрыми руками он поднял свои портки, вынул пачку сигарет и спички, протянул мне. Мы закурили. Он затягивался глубоко, по-взрослому, умело, все смотрел на меня и как бы разговаривал со мной. Я видел, как ему хотелось разговаривать, но он не знал о чем.
– Тебе не скучно тут, Валэнтин? – спросил я.
– Правильно, – ответил Валэнтин.
– Что правильно?
– Скушно. А ты в Москве живешь?
– В Москве.
Помолчали.
– Хочешь уехать? – спросил я.
– Правильно, – сказал Валэнтин.
– Куда?
– Все равно. – Потом решительно прибавил: – Ушиться уеду.
– Куда?
– В город.
Опять помолчали, Я близко видел его скуластое лицо, его доверчивую улыбку, слышал его стеснительную и неправильную речь и ни в чем не находил следов той другой, грешной жизни, если она, конечно, была у него. А ведь она действительно была, были в еще маленькой его биографии и «гражданин судья», и колония для малолетних, и разное другое. Но об этом не хотелось говорить, когда он так преданно улыбался, показывая крупные Норины зубы. Валэнтин потоптался на месте, бросил окурок щелчком в море, предложил:
– Хочешь копье бросать?
– Хочу, – сказал я. Одна нога здесь, другая – там, мигом притащил копье и подал мне. Я приладился, бросил, Валэнтин промерил шагами и сказал: «Пятнасать» – это было позорно мало. Но Валэнтин не смеялся надо мной. Он сказал, что надо тренироваться, показывал, как надо держать копье, чтобы оно не плюхалось на песок, а чтобы вонзалось в него тяжелым концом. Валэнтин бросал на двадцать пять метров. Мне удалось достигнуть двадцати трех, на этом результате я остановился.
– Янис Лусис, шемпион наш, – сказал Валэнтин, – один раз бросил на сто. Только один раз, не в соревновании, в тренировке. Больше так не бросал.
– Откуда у тебя копье? – спросил я.
– Янис подарил, шемпион, – просто сказал Валэнтин.
– Как подарил, где? – Мне не верилось в этот подарок чемпиона мира Яниса Лусиса.
– Приезжал сюда.
– К кому приезжал?
– Ко мне.
– Он родственник твой?
– Друг мне.
«Значит, друг, Ни меньше, ни больше», – подумал я про себя, а на Валэнтина посмотрел вопросительно.
– Не веришь? – спросил он. – Янис мне друг, ошень любит меня.
Мы опять бросали копье, подаренное Валэнтину чемпионом мира, бегали по горячему песку, отмечали результаты, и я относился теперь к этому с уважением, какого раньше и не подозревал в себе.
Серега стоял на бровке песчаного оползня и оттуда сверху вниз смотрел на наши занятия. Его взгляд был полон иронии, уже переходившей в сарказм.
– Давай обедать! – крикнул он.
Валэнтин шепотом сказал, чтобы я предложил Сереге покидать копье.
– Копье хочешь покидать?
– Пошли вы к черту со своим копьем, – Серега скрылся в зарослях.
– Ты уже скоро уедешь? – спросил Валэнтин.
Я сказал, что в Москве дожди идут и пока ехать туда не хочется.
– Пускай идут.
– Кто?
– Дош.
– Дожди?
– Правильно.
К вечеру опять натянуло туч с моря, разыгрался ветер.
Сразу замолчали птицы, стало темно и тревожно. Даже с веранды было страшно смотреть, как, постанывая, мели по черному небу гигантские метлы осокорей, как натужно шумел граб-великан, как полыхали за осокорями, над морем, белые молнии.
– Ни к черту годится такой погода, ни к черту не поеду, – сказал Янис Секлис.
А утром от этого сумасшествия остались только одни следы. Только клочья осокорей тихо лежали в траве по всей лужайке. На ней теперь все переменилось. После ночной бури, после трудного, скупого дождя, брошенного ветром на наш хутор, после того, как я увидел эти клочья осокорей, я вдруг заметил, что все здесь жило уже своей отдельной жизнью. Еще недавно даже Серега, знавший все на свете, не мог назвать по имени вот этих остроухих росточков, а сегодня они поднялись, вывалили фиолетовые и желтые язычки и сами назвались иваном-да-марьей. А из тонких и нежных перышек, которые раньше были просто травой, повыступали колоски либо метелочки, шершавые хвостики, и каждая диковинка стала либо мятликом, либо овсяницей, лисохвостом, или тимофеевкой, или пыреем, а то еще оржанцом. Все, что уже определилось и зацвело, называлось яновой травой, потому что наступал Янов день. Латыши уже наварили пива и ходили под хмельком в ожидании Янова вечера, Лиговакарс. На лесных полянах, возле речек и озер, разведут костры, будут пить и петь до утра, а старые автомобильные покрышки, списанные хозяйственниками как отслужившие свой срок, всю ночь будут гореть на высоких шестах.
Под сильным хмельком был и Узулинь. Сначала я увидел его босые коричневые ноги. Он подошел неслышным шагом и сказал:
– Хочу угощать моим пивом.
У него были глаза пьяные, но добрые и умные. Мы прошли на веранду, Узулинь поставил на стол две желтые бутылки. Я сразу почему-то вспомнил далекую Кубань-реку и родную речку Куму. Пиво было мутное и желтое, как будто это была вода из Кубани или Кумы. Там прошло мое детство.
В человеке иногда происходит что-то не совсем понятное. Довольно было вспомнить мутную Кубань и мою мутную Куму, как в душе что-то больно и сладко шевельнулось, захотелось взять этого коричневого Узулиня за плечи, посадить рядом и пить вместе с ним его пиво и разговаривать о чем-нибудь хорошем, душевном.
Серега посмотрел на бутылки и ничего не сказал. Он никогда не видел ни Кубани, ни Кумы, и все это ему ни о чем не говорило. Он принес нам латышскую водку «Кристалл», но посидеть с нами не захотел, ушел заниматься хозяйством.
– Сергей – хороший человек, – сказал Узулинь, когда мы выпили по первой рюмке.
– Дай бог, – согласился я со всей охотой.
Узулинь был латгальцем и сносно говорил по-русски, но чем больше пил, тем труднее мне было понимать его. Голова Узулиня держалась нетвердо, руки тяжело лежали на столе. Я наливал ему водки, он мне – желтого пива.
Ах, это пиво… Все эти жигулевские, елецкие, да ленинградские, да суздальские, и даже латышское «Алус», и пильзенское, и вайсбир, и карамельбир, бутылочное и бочковое, с легкой ноздреватой шубой над кружкой. Бросишь щепотку сольцы по краям толстой стеклянной кружки, окунешь губы и цедишь и слушаешь, как с тихим шорохом опадает пена, как сквозь пену польется потом густая хлебная влага, нахолодит зубы и сладко пройдет по горлу. Нет, нет, ни одно из них не может сравниться с этим горемычным желтым пивом Узулиня. Там все лишь сорт, свой вкус, своя игра оттенков, но все там не то. Тут не оттенки, тут горе горькое, тихая недолгая радость и слеза, застрявшая в горле. Пиво Узулиня.
– Я, понимаешь, человек, – сказал без всякой связи Узулинь, задвигал как-то нелепо головой, будто хотел выправить сошедшие с места шейные позвонки или сглотнуть что-то трудное, но никак не мог этого сделать. Потом положил корявую руку на мое плечо, подвинулся немного и сказал: – Напиши про меня… а? Нет, я сам напишу, ты передай. Книгу… понимаешь? Тут у меня много, – он смял на груди грубую рубашку. – Тут, понимаешь?
Сбивчиво и трудно, заплетаясь языком, Узулинь рассказывал про свою жизнь. То в давние годы уходил, отца вспоминал – хороший человек был отец, то войну вспоминал – Узулинь был хорошим солдатом, то как в плену был у немцев, то Нору вспоминал – хорошая женщина Нора, правда, на это дело может все променять, но это горе Узулиня. И всегда, всю жизнь, сколько помнил себя, была работа, вечная работа. Узулинь любит работу. О чем бы ни вспоминал он, всегда была работа и хорошие люди.
– Я всегда умру за хорошего человека, – Узулинь скрипнул зубами и неожиданно заплакал. Я взял его за руку, за холодные, как дерево, пальцы и стал успокаивать, стал говорить: «Ну, Узулинь, ну, ну…» – и плакал сам, потому что тоже был пьян. Потом он размазал по морщинам слезы, еще ближе придвинулся, хрипло и устало сказал: – Сынок мой, Валэнтин… Помоги ему, он добрый, сынок мой, не забудь его, помоги…
– Ну, Узулинь, ну… Как же, Узулинь, обязательно…
Уже темнело. Узулинь совсем ослаб, и я отвел его домой.
Давно отцвела сирень, и жасмин отцвел. Загустел и потемнел граб, плотнее заслонили небо серебристые осокори. На огороде, который мы поливали по вечерам, разлопушились сизые капустные листья, чуть приметной строчкой прошила грядки морковка. Все взошло, все потянулось в рост, и мы с Серегой собрались уезжать, чтобы вернуться сюда к урожаю, к свежему луку и огурцам.
Уезжали утром, а накануне вечером зашла Нора: не взяли бы мы Валэнтина, не довезли бы до Резекне, хочет навестить бабушку? Потом приходил Янка, просил о том же, просил так, для порядка, потому что мы и без того были согласны.
С рыжим фибровым чемоданчиком Валэнтин подошел к машине и, нисколько не колеблясь, на правах личного друга, уселся рядом со мной. Серега хмыкнул и вынужден был занять место на заднем сиденье. Почти неслышно работал мотор, чуть вздрагивал глянцевый рычажок скорости. Возле машины стояла беременная Нора с глазами богоматери. Она смотрела сквозь стекло дверцы. Валэнтин опустил стекло, неловко вывернул шею, чтобы видеть Нору, протянул руку, невнятно и несмело сказал почему-то по-русски:
– Мама, до свиданья.
Нора на малую минуту придержала, потом отпустила руку Валэнтина. В зеркальце я увидел, как ухмыльнулся и крутил головой Серега.
– Валэнтин, – сказал Серега, когда мы тронулись.
– Шо?
– Мать любишь свою?
Валэнтин промолчал.
– А отца?
– Не знаю, – сказал он, не желая, видимо, разговаривать на эту тему.
Потом Серега опять спросил:
– Значит, ты до Резекне?
– Все равно.
– Понятно. Может, сразу уж до Москвы?
Валэнтин оглянулся, посмотрел на Серегу прямо и беззащитно, отвернулся и ничего не ответил.
Через час мы были уже в Риге, на широком ее проспекте. Потом, петляя по узким улицам, выложенным по-старинному брусчаткой, выскочили в другом конце города на старую московскую дорогу.
Справа близко подступала к нам, а то отдалялась от нас взрытая ветром Даугава. Текла за стеклом зеленая холмистая земля с новостройками, поселками и хуторами, горбатились близкие и дальние леса. Изредка я поглядывал на Валэнтина. Весь он был напряжен и сидел так, как сидят на жесткой скамье. Глаза его ели пространство и были где-то далеко отсюда, и мысли, если у него были какие-то мысли, также были не здесь, а где-то далеко.
– Валэнтин.
– Шо?
– Нравится?
– Конешно.
Обедали в маленьком городке. Валэнтин был трогательно независим, отдельно выбивал чеки, даже свой поднос разгружал на отдельном столике.
– Ты что же отгораживаешься от коллектива? – сказал Серега.
– Нишево. – Но Серега перетащил его тарелки, его стаканы с молоком и компотом на общий стол.
– Ты уж давай вместе.
Валэнтин вынул чистый платок – мама положила, вытер пот со лба и молча стал есть. Ел с подчеркнутой аккуратностью, потому что сильно смущался.
…Вот и конец нашему совместному пути. Показался город Резекне. Я остановил машину на перекрестке. Валэнтин вышел, посмотрел на город, на поля вокруг. Серега разминался на обочине.
– Ты что? – спросил он, когда Валэнтин вернулся к машине и взялся за ручку дверцы.
– Дальше поеду, – сказал Валэнтин.
– В Москву?
– Нет. Зеелупе. Все равно ишо поездом.
– Ну давай, давай.
Перед Зеелупе дорога разделилась надвое. Одна пошла в город, другая – в желтые поля.
– Я подвезу к станции, – сказал я Валэнтину.
– Не надо, – ответил он решительно и грустно. Молча попрощался с нами за руку, невесело улыбнулся. – Приедешь?
– Приеду, – сказал я.
На белой пустынной дороге маячила одинокая выцветшая его фигурка. Он ни разу не оглянулся. Шел ровно, неторопливо удаляясь от нас, сливаясь с белой дорогой и серыми зданиями городской окраины.
– Ну чего. Поехали?
– Поехали.
За ветровым стеклом наплывала земля, а в глазах стояла белая дорога с одинокой, выцветшей фигуркой на ней.
– Слушай, – сказал Серега.
– Ну.
– Когда вернемся, надо съездить в техникум, поговорить насчет Валэнтина.
– Давай съездим.
– Если он в колонию, конечно, не угодит какую-нибудь.
Возможно, и угодит, возможно, и прав Серега, потому что он, Серега, смотрит на все трезвыми глазами. Он реалист. Мне тоже хотелось быть реалистом, но для этого дела у меня чего-то не хватало.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)