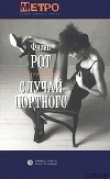Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Ну как ты тут, Витек?– – спросил он.
– Ничего, – ответил Витек вполне миролюбиво и даже охотно, но дальше дело не пошло.
Дальше пошли молча, стали стараться идти. Когда проходили мимо пивного ларька, уже прошли почти что, Борис Михайлович как бы спохватился – ах ты, пиво, пивка бы выпить. Прямо надо сказать, не очень-то хотелось Борису Михайловичу пивка, вообще он меньше стал пить, слишком погрузнел, люди говорят, что от пива это, и он поменьше стал пить, а сейчас и вообще не хотелось ему, но он так спохватился, так забеспокоился: чуть было не прошли, чуть было не проворонили, хорошо, что заметил все-таки. Витеньке тоже, разумеется, пиво было ни к чему, тем более мать бы увидела, ругаться начала, но Борис Михайлович подошел к окошечку, заглянул туда и к Витеньке повернулся:
– Выпьешь маленькую?
Витек ответил плечом, давай, мол, выпью. Подали из окошечка большую кружку и маленькую, стали пить, отец и сын, Витек.
– И очереди никакой, – отец сказал.
– Тут всегда очередь, – Витек сказал.
– Почему очереди нет? – спросил отец, заглянув в окошко. – Ах вон оно что, только открыла, сейчас наберется.
– Пап, отойди, – сказал Витек. Борис Михайлович повернулся, а там уже к окошку теснились двое.
– Ну вот, подходить стали, счас настановятся.
– Хорошо, – опять сказал Борис Михайлович и поставил кружку, и Витенька свою поставил. Все-таки хорошо, поговорили. Как все-таки просто все оказывается. Вот и всегда бы так. Оглянулся Борис Михайлович, когда отошли немного. – Гляди, уже очередь, не успели отойти.
И Витек оглянулся: верно, очередь.
Борис Михайлович в «Мужскую одежду» завернул, Витек за ним. Вот они, сорок восьмой размер, поглядим сейчас. Вот он, рост четвертый.
– Витек, костюмчик подобрать бы, давай подберем.
Витек плечом ответил скромненько, даже со смущением, чуть только головой к плечу, а плечиком к голове, чуть-чуть, если, мол, хочешь, давай. Стал отец перебирать один за другим. Этот? Этот? Нет, больно черный.
– Ну-ка, примерь.
Витек вошел в кабинку, примерять стал брюки. Как-то неловко в них, тянет, что ли, где-то. Другой стали примерять, опять не то.
– Пап, давай не будем, мама выберет, она понимает, а то мы такое тут подберем.
Борису Михайловичу понравилось насчет «мамы», это верно, она понимает, но не в этом дело; а вот хорошо Витек говорит как-то об этом, хорошо.
– Ну хорошо, пускай мама, с мамой сходите.
– Она и без меня разберется.
– Ну и хорошо. Четвертый рост! Это же надо! – радостно удивлялся Борис Михайлович.
– Вот рубашку давай купим, – сказал он Витьку.
– А может, мама? – опять на маму сослался Витек.
– Да что же мы, и рубашку не сможем купить? Что мы с тобой, совсем уже?
Очень уж хорошо стало Борису Михайловичу. Все как-то ладилось, и Витек таким простым казался, доступным, да он и был, конечно, таким, а не казался.
– Нет, нет, это мы и сами в состоянии, – настоял Борис Михайлович окончательно.
И купили рубашку, розовенькую, красивую, в синюю полосочку. Назад возвращались по-другому, какой-то уже другой походкой, хотя тоже молчали по дороге. А в продовольственном быстро справились с поручениями, один в кассу, другой к прилавку, получилось быстро, проворно, без особых простаиваний в очередях.
Катерина начала убираться с Витенькиной комнаты и, конечно, опять натолкнулась на дневничок, собственно, не натолкнулась, а сразу стала искать его и быстро нашла, потому что Витек никогда ничего не прятал. Даже после того разговора, когда Катерина сказала, что мать обязана знать, что с ее сыном делается, что он себе записывает там, чтобы не прозевать, как Наталья прозевала своего Вовку, даже после этого, хотя Витек и продолжал думать, что в чужие дневники нельзя заглядывать никому, в том числе и матери, он ничего не прятал. Кресты эти и гробы Катерина уже знала, они после той первой ночи еще являлись иногда, но потом пропали, кончились, теперь вот стихи. Кое-что из записей, не очень понятное, и стихи. Нехорошие стихи, сильно не понравились Катерине, затуманилась она опять, задумалась. Лелька пришла. С Лелькой поделилась, про ноктюрны рассказала и про стихи, показала их Лельке – образованная, может, разберется, посоветует.
– Играл бы эти ноктюрны Шопена, как уж хорошо, а стишки бы не писал, – говорила Катерина.
Лелька прочитала и весело сказала:
– Типичный декадент! Декадентам подражает!
– Пускай бы уж лучше играл, а писать бы не писал. Что-то делать надо, так оставлять нельзя, надо к Софье Алексеевне, может, она поговорит, а может, писателя своего попросит.
– О чем тут говорить? Ну подражает, сегодня одним подражает, завтра будет другим подражать, оставь его в покое.
– Тебе хорошо, – не соглашалась мать с дочерью, – ты в райкоме сидишь, а куда он пойдет с такими стишками? То кресты с гробами рисовал, а теперь пишет «у гробового входа», верующим завидует, помнишь Таньку? За попа вышла, комсомолка? Помнишь?
– Витек, – встретила Катерина Витеньку и прямо с порога: – Ты не обижайся, я читала все, не понравилось мне, я попрошу Софью Алексеевну…
– Ну, мам… – Витек сморщился и не хотел слушать, поспешил в свою комнату, чтобы спрятать свои бумаги.
– Ничего не «мам», знакомого писателя Софьи Алексеевны попрошу.
Борис Михайлович ничего не понимал, стоял с сумкой и, ничего не понимая, смотрел на Катерину, даже не заметил, не отреагировал на Лелькино приветствие, как она чмокнула его в щеку.
– О чем речь? – спросил он и двинулся вслед за Катериной на кухню. Там она объяснила ему все, и он согласился, пускай зовет писателя, плохого в этом ничего нет.
А в комнате Лелька к Витьку приставала:
– Мама говорит, ноктюрны Шопена играешь?
– Ну и что?
– Как что? Поиграй! Между прочим, Есенину ты хорошо написал, остальное декадентство, только маму расстраиваешь.
– Что вы лезете? Это свинство лезть в чужой дневник.
– Свинство?
– А что? Если я полезу письма твоего хахаля читать, что ты скажешь?
– Какого хахаля? Мама! Что он говорит?! – Лелька бросилась на кухню, но тут же вернулась. – Ты что говоришь? Откуда ты взял?
– Оттуда. Любите воспитывать…
– Ну, ладно, ладно, никто тебя не воспитывает, – переменила тон Лелька, подошла к Витьку, обняла за плечи. – Ну поиграй, Витечек, поиграй немножечко.
– Не буду.
– Ну, Витюленька. – Лелька сильно обхватила его сзади и стала подталкивать к пианино.
Витек быстро сдался, вывернулся из Лелькиных объятий, потому что подумал, что груди у нее, как у бабы, как-то неприятно стало, но тут же вспомнил приятное, вспомнил одну девчонку из музыкального класса. В их школе программистов был класс музыкальный, готовили пианистов для детских садов, концертмейстеров. Витек вспомнил эту девчонку. Сел и начал играть. А Лелька стояла, слушала. Она слушала и перестраивалась на какой-то новый лад, как будто перед ней был совсем другой Витек, не тот, не брат ее, а что-то незнакомое было и сильное, вроде бы Витек даже над ней поднимался, вроде бы даже старше ее самой стал он казаться в эти минуты, когда шла и шла эта музыка, серьезная и высокая, ей недоступная, но Витек, ее братик, дурачок, был там, с этой музыкой, высоко был, ей, Лельке, туда не добраться.
– Еще? – спросил Витек, когда доиграл первый ноктюрн.
– Хватит, – погрустнев, сказала Лелька. – Витенька, я тебя на вечер к нам приглашу, в райком.
– Нужен мне твой вечер.
– Не обижай меня, зазнайка.
Борис Михайлович рассказывал на кухне Катерине, как они с Витенькой рубашку купили, как выбирали костюм и как разговаривали всю дорогу.
– Витек попросился перейти в музыкальный класс, потому что математики столько в десятом классе, что он не справится, и не нужна ему математика. Я сказал: «Что ж, переходи».
– Ой, отец, ой, отец, – только и сказала Катерина.
– Ну, силой тоже ничего не добьешься, – оправдался Борис Михайлович.
– Ты на поводке идешь, иди, иди, куда он приведет тебя. Без математики он совсем думать о школе перестанет. А стишки его тоже к хорошему не приведут. Их страшно читать, это же сын пишет наш, не кто-нибудь, а сын твой и мой. Зачем он делает это, что с ним, мы же не знаем.
– Ну вот писателя позови, Софью Алексеевну попроси, может, повлияют.
– Если отец не повлияет, никто не поможет, – сказала Катерина, вздохнула горько, а в душе-то сильно понадеялась на этого писателя, лишь бы только Софья Алексеевна согласилась прийти.
А Витек опять заиграл, опять стали доноситься из его комнаты смягченные расстоянием золотые ноктюрны Шопена.
35
И вот пришел он однажды. Звоночек, Катерина кинулась открывать, а они вот, на пороге. Софья Алексеевна, хотя и дома была, опять пахнуло от нее духами знакомыми, хотя прекрасно знала этикет культурных людей, все же вошла не первой, а пропустила его сперва, и даже ручкой немножко проводила, показала ему на переднюю, куда надо было войти. Пропустила его вперед, а уж за ним и сама вошла. Катерина почувствовала вдруг, что не она тут хозяйка, вернее, не дома она, а где-то в гостях у знатных людей, так растерялась перед ним, потому что в передней сразу все засверкало, огромные и многослойные очки на маленьком и кругленьком личике писателя засияли-засверкали и наполнили светом и сверканием всю переднюю. Катерина растерялась, и плащик от него приняла Софья Алексеевна, и шляпу от него приняла, а уж потом все это повесила на вешалку Катерина. Как они ждали его! Борис Михайлович у Витька спросил, звать, мол, писателя или не звать, надеясь, конечно, что Витек в душе сильно удивится, обрадуется, раз уж писать сам стал, а вот отец с матерью и это могут ему предоставить.
– Звать, что ли? – спросил он.
– Мне все равно, – сказал Витенька и повернулся, чтобы идти, чтобы не продолжать этот разговор.
Но Катерина сказала:
– Ладно, отец, что ты спрашиваешь.
И вот он пришел.
Стол накрыли в Витенькиной комнате, самого Витька никуда не пустили, тоже сидел он, ждал, поддался общему переживанию. Катерина открыла дверь, вошли они, и Борис Михайлович встал. Ломаясь, встал и Витек.
– Здравствуйте, – сказал писатель тенорком, обсверкал всех по очереди своими очками, всем по очереди ручку пожал, а перед Витенькиной постоял подольше, руку подержал подольше, переспросил:
– Значит, Виктор? Победитель? Это хорошо. С молодежью я люблю общаться, – сказал он и сел, и опять всех по очереди осчастливил своей сверкающей улыбкой. Когда смотрел на кого, то держал эту улыбку некоторое время застывшей, вроде просил, нет, не просил, а вроде ждал награды и за свою улыбку, и за то, что любит он общаться с молодежью. Вскинет голову, обсверкнет тебя и подождет немного и – раз, на другого вскинет очки и улыбку и тоже подождет, и, как видно, получал от каждого свою награду, иначе бы все время смотрел только на одного человека. Перезнакомился, обсчастливил всех, а потом вскинул голову перед самим собой, стал смотреть в пространство, всего несколько минут продержал себя в пространстве, чтобы сказать, возможно, что вот он весь тут и что вот он каков.
Катерина покраснела и все держала румянец на своих щеках, хотя, несмотря на это, заговорила первой, первой освоилась. Когда он сказал, что вот он каков, Катерина сказала:
– А мы вас давно знаем. Витек-то не знает, а мы знаем.
– Не может быть! – удивился писатель и вскинул очки на Софью Алексеевну.
– На Потешной улице вас весь дом знал, – опять сказала Катерина. – Вы не изменились, а мы вот постарели.
Писатель коротко махнул ручкой и немножко хихикнул, да что вы, господь, мол, с вами.
На самом деле Катерина была почти права. Весь он как был крошечный, подвижный, особенно голова его была быстрая, очки так и стреляли туда-сюда, – как был, одним словом, так и остался, только лицо покрылось морщинками, хотя и не совсем морщинками, а какими-то крошечными подушечками, как печеное яблочко, живость в движениях и в очках, глаза за толстыми стеклами не видны были, вся эта живость осталась прежняя. Удивительно, как люди могут не меняться с годами. Конечно, не простые люди.
Борис Михайлович почти сразу принялся за свое дело, стал наливать в рюмки, женщинам вино, мужчинам, то есть себе и писателю, водки.
– Что вы, что вы! – засмущался писатель, которого, между прочим, звали Серафим Серафимович, так представила его Софья Алексеевна. – Что вы, что вы! – замахал короткими ручками Серафим Серафимович. – Я ведь совершенно ничего не пью. – И ладошкой перед очками запретительно покачал.
Борис Михайлович смутился, и Катерина смутилась, потому что они теперь и не знали, как продолжать этот прием, встречу свою. Одно дело: выпили, закусили, поговорили о чем попало, а уж потом и к делу можно приступить, как водится, а тут… не пьет. Что же тогда делать с ним?
– Да, – сказала Софья Алексеевна, – Серафим Серафимович не пьет. – И этим самым как бы окончательно отделила писателя ото всех.
– А мне говорили, что писатели сильно выпивают, – сказал Борис Михайлович и застеснялся своих слов, даже рюмку поставил на место.
– Вот видите, ваши сведения неверны! – сияя, ответил Серафим Серафимович.
– Может, чайку тогда? – спросила Катерина.
– Вот чайку выпью с удовольствием, – обрадовался писатель, но не стал пить, когда Катерина принесла с кухни заварной чайник, варенье поставила перед Серафимом Серафимовичем, чашку с блюдечком, не стал пить, а начал расспрашивать Бориса Михайловича и Катерину, набросился с вопросами.
Он был любознательным, все хотелось ему узнать сразу: где кто работает, трудно ли, не трудно ли, о жалованье узнать, хватает или не хватает, что кто читает, откуда родом, поют ли песни и так далее. Борис Михайлович так и не успел, да и неудобно было, выпить свою рюмку, Катерина и даже Софья Алексеевна не притронулись к своим, и чай Серафима Серафимовича тоже остывал, потому что он все выспрашивал, не давал ни минуты передышки, и уж когда Катерина робко напомнила об остывшем чае, налила горячего, нового, тогда Серафим Серафимович остановился и, как орел в зоопарке, зырк, зырк по сторонам, сверк, сверк, своими очками обстрелял всех и взялся за чашку. Лихой человек. Тут-то и выпил Борис Михайлович, сделал неотчетливый общий кивок и скорее опрокинул рюмку, потому что по первым минутам понял, что зевать нельзя, надо не упускать время, пока Серафим Серафимович начал уж отхлебывать из чашки.
Витек сидел столбиком все это время, молчал, и ему очень быстро сделалось скучно, так невыносимо скучно, что стал он подумывать, как бы незаметно улизнуть отсюда, встать тихонечко и выскользнуть из комнаты. Но и Серафим Серафимович уже решил от общих вопросов перейти к делу. Он отодвинул чашку, наврал, что с удовольствием выпил бы чайку, без удовольствия позвенел ложечкой, приложился раз-другой к чашке, отодвинул ее и сказал:
– Ну давай, поэт, стихи!
Витек только качнулся немного, вроде устраиваясь поудобнее на стуле, и под общими взглядами продолжал сидеть на месте, ни к чему не приготавливаясь. Тогда Серафим Серафимович опять сказал:
– Читай!
Витек ответил на этот раз плечом и немного бровями, почему, дескать, он должен читать, когда он и не собирался этого делать, и вообще. Борис Михайлович и Катерина сгорали от стыда, пригласили, называется, писателя, а этот и говорить вроде не хочет с ним.
– Витек, – сказала Катерина, – ты дай Серафиму Серафимовичу стишки свои, пускай поглядит, он же писатель.
– О чем пишешь-то? – спросил Серафим Серафимович.
– О себе, – неохотно отозвался Витек. Поднялся, достал дневничок, вырвал странички со стихами и подал через стол Серафиму Серафимовичу.
– Значит, о себе, – повторил тот, усилив Витенькины слова. – Интересно! – И уже для всех сказал, сказал, сверкнув очками: – Интересно! Люблю я с молодежью! Вот на польской выставке было, они, знаете, допускают у себя, так сказать. Схватился я там с молодежью, окружили, орут, выкрикивают, думал, задавят, меня-то и не видно за ними, я ведь маленького росточка, навалились, орут, но я успокоил их, перекричал, переспорил, убедил, знаете, тихими стали, вопросики вежливенькие пошли, с уважением, даже позастеснялись, а ведь начали о-го-го! Нет, Виктор, не будет из тебя поэта! Почему? Потому что поэт рвется со своими стихами напролом! Ему давай слушай только, не слушаешь – заставит, читает он в любой обстановке, в трамвае, в метро, на толкучке, на улице, и кому угодно, были бы только уши. И это естественно, нужен выход поэту! У тебя этого нет. Ладно, посмотрим.
Серафим Серафимович после этой тирады поднес к самому носу странички и стал пахать их своей маленькой картошечкой, своим кругленьким, уютно сидевшим в объятиях очков носом. Одна страничка, другая, вот уже все вспаханы, все сложены пачечкой и положены на стол.
– Разговор будет! – сказал он. – Если автор не станет возражать, я прочитаю еще раз, но вслух. Вот Соня, Софья Алексеевна, послушает, родителям и самому поэту будет интересно услышать из посторонних уст. – Снова поднес к очкам листочки и начал читать, упираясь голосом в эти листочки, отчего они трепетали. – «Да, все прошло, и сожалеть не надо…» – И так далее. Дочитавши стихотворение, сказал: – Воинственный пессимизм! – И стал продолжать дальше. Когда закончил, окинул всех по очереди сверкающим взглядом стекол, как бы требуя немедленного отклика.
И тогда Софья Алексеевна сказала, качнув совершенно белыми пышными волосами:
– Молодец!
– Торопишься, Соня, Софья Алексеевна, – быстро отозвался Серафим Серафимович. – Но разговор будет!
Витенька слегка прищурил глаза и смотрел в сторону. В нем боролись скука, желание смыться от этого навалившегося писателя, которого он никогда не читал и был абсолютно уверен, что и не будет никогда читать, с каким-то все же возникшим и все же томившимся в нем интересом. Свои стихи из уст этого Серафима звучали странно, волновали и, с одной стороны, казались вполне достойными, а с другой – почему-то ужасно постыдными. Витек терпел и поэтому слегка сощурил глаза и смотрел в сторону.
Борис Михайлович с Катериной сидели как на суде, с таким же, как на суде, нетерпением ждали: оправдают или не оправдают.
– Удивительно, – говорил энергичным своим тенорком Серафим Серафимович, – прямо-таки странно, никогда не ожидал этого в молодом человеке, собственно говоря юноше, даже, я бы сказал, в подростке… Ведь это же прекрасно! Жить! Да, значит, встречается эта болезнь в нашем молодом поколении, я и раньше подозревал, что есть, с Запада просочилась… Хорошо, что это временное явление, возрастное, а то ведь… Сложные дела, товарищи, сложные. – Серафим Серафимович дальше стал говорить так, словно бы размышлял вслух. – Вы слышите? Сильно сказано. – Подумал немного, шею вывернул, посмотрел в стол наискосок и повторил: – Сильно! Это ведь обобщение. Правда, больше подходит к мальчикам Запада, но, значит, просочилось…
– Виктор пишет, как думает, искренно, и уже одно это хороню, – перебила Серафима Серафимовича Софья Алексеевна. – Да и с художественной стороны, по-моему, тоже хорошо.
– Я же сказал, – сказал Серафим Серафимович, – разговор будет! Пишет что думает. Но думает нехорошо! Не любит жизнь. Виктор, почему ты не любишь жизнь? Ты когда-нибудь улыбаешься, смеялся когда-нибудь?
Витек посмотрел на Серафима Серафимовича таким взглядом, в котором без труда можно было прочитать: зачем вы, писатель, задаете глупые вопросы?
Вполне возможно, что и Серафим Серафимович прочитал это в Витенькином взгляде, но, как опытный полемист и оратор и воспитатель молодежи, которую он знал и любил, не придал этому никакого значения, то есть сделал вид, что ничего не прочитал. Он хотел пойти дальше, но Катерина, чего-то испугавшись, поспешила сказать, что на всех своих фотографиях Витек улыбается, и быстренько притащила из своей комнаты альбом.
– Вот поглядите, – сказала она, протягивая альбом Серафиму Серафимовичу.
Тот взял, конечно, из вежливости и из вежливости стал листать, смотреть на Витька в разных возрастах и в разных обстоятельствах – действительно, с неизменной улыбкой. Серафим Серафимович не переставал удивляться. Стихи и этот улыбающийся мальчик не сходились. Что-то не получалось у Серафима Серафимовича с окончательными выводами. Он остановился на одной фотографии, где Витек сидел нога на ногу на каком-то столе-верстаке, приобнявши одной рукой полированный ящичек, рядом стоял еще один ящик, много железа и проводов. Локоть согнутой Витенькиной руки находился на уровне включенной розетки, над которой жирно и черно было написано «220 В». И подчеркнуто черной полосой. Над головой, над этими двухсот двадцатью вольтами неотчетливо угадывались какие-то сложные схемы. Витек сидел тут в белой рубашонке с пионерским галстуком и, заложив свободную руку в бок, спокойно и счастливо улыбался. Что это? Катерина поспешила объяснить Серафиму Серафимовичу, что Витек у них изобретатель, был изобретателем и сидит на этой фотографии со своим магнитофоном.
– А пишет? О чем он пишет? – Серафим Серафимович сделал знак непонимания и удивления, развел перед собой ладошки коротких и короткопалых рук. И снова начал говорить:
– Конечно, стихи к Есенину вполне удовлетворительны, даже хороши, но ведь они держатся, они, Виктор, держатся на строчках самого Сергея Александровича. «Отговорила роща золотая березовым, веселым языком» – это ведь такие слова, милый, что рядом можно ставить все, что хочешь, и будет хорошо, они все выдержат. Да, они тоже печальны, грустны, но печаль их и грусть созидательны, твои же «отчего опускаются руки, приподнявшись минуту назад?» – не созидательны, это размагничивает тебя и других. Нынче ты заканчиваешь школу, становишься гражданином, опорой Отечества, защитником его, ну, хорошо, Виктор, скажем, что ты станешь поэтом – поэты вовек нужны Отечеству! – станешь писать. О чем? О чем будешь писать?
Серафим Серафимович вызывающе повернул на Витька свои сверкающие стекла, ждал ответа. Витек ответил без интереса, между прочим, тихим, невнятным голосом.
– О себе, – сказал он то же самое, что и в первый раз.
– Один великий так говорил, – распаляясь в полемическом задоре, подхватил Серафим Серафимович, – отчего такой-то мал и ничтожен? Оттого, что пишет о себе. А другой, имярек, отчего тот велик? Оттого, что пишет о себе. Улавливаешь, Виктор? – Серафим Серафимович победоносно оглядел всех. Потом продолжил: – И тот о себе, и другой о себе, один велик, другой ничтожен. Улавливаешь вывод? Чтобы не быть ничтожным, когда пишешь о себе, надо что-то иметь в себе, содержать, надо быть личностью, а личностью никогда не станет тот, кто замыкается в себе, у кого в душе и в голове нет ничего, кроме собственных болей от собственных болячек. Личностью человек становится тогда, когда он начинает жить не одним собой, а другими, всеми, если хочешь, заботами всего человечества. И масштаб личности зависит целиком и полностью от этого, от того, насколько широки твои интересы, от объема того мира, который ты несешь в своей душе. Между прочим, Виктор, в твоем «о себе» нет ничего зазорного, потому что я тоже пишу о себе. Но тут… тут надо рассказывать.
Серафим Серафимович остановился как бы перед невидимым препятствием, огромным, неожиданно возникшим перед ним, молча, но нервически, отрывисто кинул взгляд свой в одну сторону, в другую, в третью и в четвертую, повертел головой, как орел в зоопарке, и сказал наконец.
– А что?! – сказал он. – Я расскажу вам о себе, о своей главной книге, над которой работаю уже много лет.
И писатель стал рассказывать.
– Раз уж такое дело, – начал он, – налейте мне немножко вина, только, пожалуйста, не водки.
Когда Борис Михайлович наливал писателю, тот сверкал над столом своими яркими очками, голову держал молодцом, отважным человеком, который может, если нужно, пойти на все. Взял рюмку, улыбнулся, на Софью Алексеевну посмотрел с каким-то неясным значением и выпил.
– Свою главную книгу, – начал он, причмокнув и поставив порожнюю рюмку, – я действительно пишу о себе. Один мой товарищ, тоже, конечно, писатель, сказал мне: давай, мол, Серафим, твоя книга будет книгой века. Ну это он так считает, хотя и я кое-что думаю об этом. Собрался я в Соединенные Штаты Америки, к отцу, в творческую командировку. Оформляют, еду. К отцу, в Америку! Вы скажете, в какую-такую командировку к отцу, в Америку? А я вам отвечу, представьте себе, именно так, потому что отец мой с Колчаком ушел, вернее, с колчаковцами, после разгрома белых бежал морем вместе с ними, а уж там кто куда. Отец попал в Америку. Мать знала об этом давно, до войны еще, в конце еще двадцатых годов. Знал и я, но, сами понимаете, говорить об этом было опасно, мы и не говорили, я же писателем стал, но этого факта нигде не упоминал, опасно было упоминать. Отец у меня уже другой был, отчим, родного-то я почти что и не помнил, как ушел он на гражданскую, в восемнадцатом году, так и не видели мы его больше. Отец у меня, значит, другой, пишу в своих автобиографиях о нем, он учитель, все чин чинарем, как говорится. А тут, это в году двадцать седьмом, приходит в наше селение письмо из Америки, от соседа, который с отцом у Колчака был. Пишет, что отец, мол, жив, работает в Штатах, так сообщил, как новость, может, кто живой, дак интересно будет. А мы с матерью живые, и у меня уже новый отец. Живем пока на старом месте, в Забайкалье, в глухой стороне. Почему в Забайкалье? Это все интересно. При Никоне бежали туда предки мои, старообрядцами были, стояли за старую веру. А то откуда же у меня такое имя и отчество старомодное, Серафим Серафимович? От старообрядства. И вот с петровских еще времен Россия вон где, Родина наша, а Забайкалье вон где, и мы там. Живем. И уж спустя много лет после признался я во всем, можно было признаваться. А еще до отчима остались мы с матерью одни и стали голодать, и пошел я по миру с сумкой. Кто-нибудь ходил из вас с сумкой по миру? Христа ради просил? А я ходил. Надела на меня мамаша сумку и отправила просить кусочки. «Подайте, Христа ради, люди добрые». Это я, малютка, шести годочков не было еще, хожу по улицам соседних деревень, подхожу к дому и перед окошком вымаливаю детским голоском кусочек хлеба: «Подайте сироте голодному, христа ради». Подавали кое-кто. По всей Сибири, по огромной России полыхает гражданская война, кровь льется русских людей, белых и красных, а я под окнами с сумой прошу христа ради. Будущий-то писатель! А отец с Колчаком против красных воюет где-то. Ну, кончилась она, разгромили белых по всей России, кто сдался, кто бежал, кто голову сложил далеко от дома. Колчака, как вы знаете, расстреляли. Где отец, не знаем. Пока ходил я с сумой, Советская власть пришла. Приехал в наш дикий край один человек, собрал детишек бурятских, постриг, поселил их в бараке и стал учить грамоте. Вроде школу открыл. Пошла мать моя в этот поселок и попросилась к этому человеку на работу. Взял он ее, и стали мы с матушкой жить в том бараке, отгородили себе уголок занавеской и стали жить там, за занавеской. Мать варила этим мальчишкам, бурятам, и сами мы тоже кормились, перестал я христа ради просить. Человек этот хорошо к нам относился, жалел, сам он жил в поселке, в деревянном доме, он и директор в своей школе, и завуч, и учитель по всем предметам, и завхоз – все в нем одном. И вот зима была страшная, снегу под самые крыши, метель, вьюга. Просыпаюсь я, а спал с матушкой, лап, лап ручонками, а никого со мной рядом нету, нету матушки, тьма хоть в глаз коли, задрожал я от страха и закричал, но никто мне не ответил, заплакал я. Потом встал, валенки натянул, шубейку и выбрался на улицу и пошел пожаловаться тому человеку, что мама пропала, к его дому пошел и уж издали, через метель, а вьюга свистит, крутит, увидел я издалека еще, через метель, свет в его окне. Ближе подошел и слышу, матушка моя смеется, так смеется, что я сел под окном и заплакал, заскулил, как собачонка, даже когда с сумой ходил по кусочки, не было мне так плохо и так горько, а тут сижу, глотаю слезы, а мать смеется. Уж и снегом меня заносить стало, и коченеть я стал, когда они вышли, мать и он, заметили меня, подобрали и понесли, теперь мать начала плакать, а я молчал. Правда, тот человек моим отчимом стал, а потом и совсем увез в Россию нас, в Рязань, откуда родом был, а потом уж сам я в Москву уехал учиться и вот писателем стал. Конечно, не сразу дали мне командировку в Америку, пришлось хлопотать долго, но дали, договорились, что встретит меня в Нью-Йорке в аэропорту наш корреспондент, постоянно проживающий там, поможет добраться до нужного мне городка, где отец живет, называется Юрика, произошло от слова Эврика, а Эврика – это по-нашему, если перевести с греческого, – «нашел», значит. Вот и нашел отец мой, колчаковец, по неграмотности своей, нашел эту Эврику, Юрику. В далекой Калифорнии, на берегу чужого океана. Взял я карточку отцовскую, увеличенную, мешочек нашей земли, отвезу, думаю, мешочек родной земли ему, отцу своему, положил все это в чемоданишко и полетел через океан. Встретил меня в Нью-Йоркском аэропорту корреспондент наш, все точно, как и договорено было, но в это время власти американские не стали пускать корреспондента за пределы Нью-Йорка, какая-то причина была, а возможно, как это часто у них бывает, придирка какая. Словом, сопроводить он не может меня, но с аэропортом Лос-Анджелес договорился, чтобы меня встретили и посадили на местный самолет в мою, то есть в эту отцовскую, Эврику. Залетел я в Калифорнию, схожу по трапу, и меня сразу узнали, как уж они узнали, одному богу известно, но узнали. Еще на землю не сошел, а уж кто-то подскакивает прямо ко мне, господин такой-то и так далее, пожалуйста, на самолет. Сел я на другой самолет, на местный, маленький, и в Юрику. Через полчаса или через минут сорок схожу в Юрике. Пассажиров всего несколько человек, разошлись, и я один остался в пустом поле, никто меня не встречает, а ведь я списался с этим соседом, который об отце-то сообщил. Нет никого, никто не встретил. Жду. Еще самолет прилетел, разошлись опять пассажиры, и опять никого не осталось на пустом поле. Вот, думаю, попал. Стою на краю света, в калифорнийской пустыне, под каким-то никому не известным городишком Юрика, или Эврика, один стою в целом свете… никого. А ведь это обратная сторона земного шара. Вот, думаю, попал. Наверно, все перепутали мы, в том числе и сосед наш бывший. Может, он вовсе и никакой не сосед, мало ли каких не бывает ошибок, однофамильцев, например, множество на земле. Что же делать? Тоска меня взяла страшная. Куда податься? Корреспондент наш научил меня трем словам по-английски: «я есть русский», «спасибо» и «помогите». Помогите пройти туда-то, рукой показать, помогите улицу найти, улицу назвать и так далее. Стою с этими тремя словами-фразами и не знаю, что делать. На обратной стороне земного шара, на окраине чужого великого государства. Прилетел и третий самолет. Опять разошлись пассажиры, кто-то встретил кого-то, ушли. И тут гляжу, идут двое с букетом цветов. Он, высокий, старик, и она, полная женщина, идут через поле прямо на меня. Я уже сидел на скамеечке под каким-то кустом, сидел без всяких мыслей и без всякой надежды. Сначала я поднялся и навстречу двинулся, вдруг, думаю, ко мне идут, за мной, но потом вернулся, поставил чемоданчик на скамейку, достал из него отцовскую фотографию, увеличенную, и уж с ней, держу ее пред собой, как икону или как пропуск, им показываю, иду. И вдруг он совершенно по-русски говорит: «Да бросьте вы свою фотографию, зачем она нужна, когда вы, как две капли, вылитый отец, И росточек такой, и руками так же двигаете».


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)