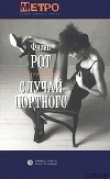Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
Почти то же самое можно сказать и об отношении Катерины к Борису Михайловичу. Верно, мужиков было много. И тогда, в госпитале, сколько их было. Это правда. Но ей ни тогда, ни тем более теперь не был нужен никто, ни один из всех, кого видела да и которых не видела, задаром не надо. Борю как узнала, так и все. С этим делом все было кончено раз и навсегда. Или он – или никто. Глупо, конечно, все сперва так думают, смолоду. Но, слава богу, по-другому и не получилось, а получилось именно так. Как хотела.
Катерина страдала сильней Бориса Михайловича, глубже, но ему казалось иногда, что она вроде и не может без этих разладов, если их нет, она обязательно найдет повод, чтобы они были, как будто скучает без них.
Борис же Михайлович считал все это глупостью. И с сыном, с Витенькой, тоже. Ну, чего надо? Одет, обут, отец-мать при тебе, ходи учись, помогай матери, читай, думай, с ребятишками дружи, можно и с девчонками, по-хорошему, ходи в кино, денег, слава богу, всегда и мать даст, и он не откажет, этого никогда не было? Чего надо? Нет, что-то ему не то. Молчит. Перестал любить, куда уж любить, перестал уважать мать, отца. Почему? Были бы мы какие-нибудь непутевые, пьяницы или еще там что, дак нет, родители, если по-серьезному, дай бог каждому. Тогда что же?
Не отдельные случаи, не проступки Витенькины, какие бы они тяжелые ни были, а вот это постоянное зудит в душе Бориса Михайловича затянувшееся тупиковое положение. Чуть отойдет, вроде загладится, вроде даже и забудется на день-другой, нет тебе, опять вылезет наружу. Вот и получается: чего больше всего хочется – чтобы все тихо, спокойно, именно того и нет тебе, а то, что как ножом по сердцу, – это, пожалуйста, сколько хочешь. Как она появилась – трещина между ними и Витьком, – так и держится. И сгладится ли когда-нибудь? Разрегулировались отношения, а отрегулируются ли – неизвестно. В то время как во всем остальном жить, казалось бы, вполне можно было. Сфера, как говорится, узкая, семейная, а вот уж как есть, так оно и есть, и никуда от этого не денешься. Другое дело не эта, узкая сфера, а широкая, общая, в масштабе всего целого, в масштабе всей страны и даже всего мира. Тут проще. Тут полностью все зависит от тебя самого, как ты смотришь на то или другое, так оно и будет по-твоему. Все от твоего личного характера зависит. Поскольку Борис Михайлович, например, не терпел никаких расстройств, тупиковых положений, то их и не было для него. То есть они, возможно, и были, но их легко было и не замечать, тем более что не они, если говорить о нашем государстве, определяют погоду, не в них суть. Значит, их, можно сказать, и нет вовсе. И уж друзья-приятели Бориса Михайловича знают, что никаких разговоров со всевозможными обличениями и так далее, ничего этого Борис Михайлович не терпит, не любит за бутылкой или там за пивом этого критиканства, которого в общем-то хоть отбавляй. Если бывает, что втянут его в разговор, вынудят – и то, мол, не так, и это, – Борис Михайлович отвечает на эти разговорчики одним и тем же. Да что вам нужно и так далее, трамваи ходят? Ходят. Магазины работают? Работают. Свет горит, отопление действует? Ну что вам еще? И действительно, что еще. Конечно, это вроде в полушутливой форме, а если всерьез, то же самое. Нет у человечества никакого другого пути, кроме нашего. Кровь пролита раз и навсегда. Революция свое дело сделала. Народ пришел к власти. Это все абсолютно ясно. Остальное, если что-нибудь и не так, как хочется кому-то, остальное – мелочи, детали. Даже с войной, с этим острым для некоторых людей вопросом, тоже абсолютно ясно. Водородные бомбы, ракеты и так далее. Ну и что? Они для всех страшны, потому Борис Михайлович раз и навсегда понял и решил для себя: никакой войны теперь уже никогда не будет. Трепаться об этом, конечно, нечего зря, но про себя надо знать… Словом, в нынешнем мире жить можно. Вот только от узкой сферы не скроешься. Как бы ты ни хотел видеть, что ничего особенного, что все нормально – не получается. То одно, то другое, то там трещина, то в другом месте, а вот эта, с Витьком, вообще затянулась, видно, надолго. Но поскольку дело это ненормальное, противоестественное, то все-таки хоть когда-нибудь, но кончится, придет в норму, потому что не может этого быть. Выключив свет у Витеньки, Борис Михайлович теперь уже спокойно улегся, надеялся быстро уснуть, тупиковый момент разрешился. Отношения с Витенькой, собственно, остались прежними, тут как раз ничего не разрешалось, но тупик разрядился. «Так же, сынок, так?» Одними губами Витенька сказал: «Так…» Значит, все. Перемелется. Жить можно.
– Ну, что? – спросила Катерина.
– Давай спать, Катя. Ты спи, мать, не надо переживать, поговорил, спи.
Борис Михайлович похрустел немного кроватью, поудобнее укладывался, чтобы спать, значит, а оно нет, ни в одном глазу, нету сна. Притворился, затих, чтобы Катерина не мешала думать. Почему-то вдруг потянуло думать, первый раз по этому пустяковому вроде поводу потянуло думать, обстоятельно, как следует, по-серьезному. Как же это? Что же получается? Так-то так, Витек говорит – так, да и по всему видно, что сам он, Витенька, тяжело переживает, и разрешилось все, Витенька успокоился, потуши, говорит, свет и так далее. Но в дневничке-то написанное написано, его рукой выведено, обдумано до этого, не так просто, не случайно.
18
Там еще, на Потешной, в баню пошли первый раз. То все бабушка водила Витька или сама Катерина, а тут отец сказал – все, хватит с бабами ходить, со мной пойдешь в субботу. А почему сказал, тоже вспомнил Борис Михайлович. Дядя Коля, живой еще был, как раз Витеньке брюки стал шить, первые настоящие брючки, после этих штанов с разными помочами, прямыми и крест-накрест, после трусиков, шаровар теплых. Витек стоял на ванне, на этой доске, которой ванну накрывали, дядя Коля вымерял его клеенчатым метром. «Вот сошью брюки, настоящие мужские», – говорил дядя Коля. И все с интересом смотрели, как он обмерял Витька, всем хотелось, чтоб скорей Витек большим стал, не терпелось, время подгоняли. И сам Витек хотел, стоял смирно и строго. А уж когда скроил дядя Коля, да сметал, да стал примерять на другой день, тогда и сказал Борис, что теперь с ним в баню пойдет в мужскую. Витек все спрашивал про субботу, когда же суббота будет. Вообще-то жаль, что уехали с Потешной, хорошо там было, банька рядом, попаришься, вымоешься, пальцами проведешь по телу – скрип, дышится вольно, во как грудь ходит, колесом, а одевшись не торопясь, накинешь полотенце на шею, выйдешь из раздевалки, возьмешь пивка бочкового и тут же, на деревянной лавке, на широкой скамье со спинкой, потягиваешь холодненькое пиво, остываешь понемногу, наслаждаешься. Куда уж лучше! И пошли с Витьком, брюки взяли, чтобы там надеть, чтобы домой уж в брюках мужских прийти. Витек за руку держал отца, когда шли, и видно было, как любил он его, как предан был и как польщен, что шел с отцом. Когда вернулись домой, Витек прямо заявил матери и бабушке, что с папой ходить в баню в сто тридцать четырнадцать раз лучше и что никогда больше ни с кем не пойдет, а только с папой. А там, в бане, терпел, ни разу не заплакал, когда отец намылил ему голову, бабушка и мать мучились с этим делом, Витек не давался, и всегда намыливание кончалось слезами. А тут сам сказал, что любит мылить голову, даже ему нравится, когда щиплет в глазах. Все там было не так, как в женской, совсем не такие люди, совсем другие. Лучше или хуже? В сто, в десять тринадцать раз лучше. У теток висит все и болтается много. Катерина помирала со смеху, сидела на диване, всплескивала руками, откидывалась на спинку и помирала со смеху. Витек даже не выдержал, кинулся к матери и стал кулаками молотить в колени. «Ты за что бьешь меня? Что я тебе сделала?» – «А ты чего смеешься!» И опять Катерина стала помирать, выспрашивать Витеньку про мужиков и про то, чем они лучше женщин, и смеяться до упаду. Витеньке не нравилось, что мать смеется, и Лелька смеется, и бабушка. Ему понравилось, что отец остановил их: «Хватит, сказал, чего рассмеялись». А как они одевались в бане. Борис нарочно не стал помогать Витеньке, отдал ему рубашку и брюки, давай, одевайся. И Витек стал одеваться. Рубашку надел скоро. Стоял на лавке и вот взял брюки. Сперва поглядел по сторонам, на соседей, которые тоже одевались и на Витька не обращали внимания, но он смотрел на них, чтобы они обратили внимание. Просунул одну ногу, потом другую, подтянул брюки, опять туда-сюда поглядел. Отец тоже натянул брюки, стал застегивать. «У тебя тоже такие?» – не стерпел Витек. «Конечно, точно такие». – «Как у меня, точно такие?» – «Как у тебя, как у всех мужчин». Тут уж один сосед повернулся к Витеньке, ахнул: «Да у тебя же взрослые брюки, мужские». Витек прямо расцвел и сказал дяде, что у него два кармана, вот. И когда стал показывать карманы, брюки свалились. «Я их сейчас буду застегивать», – сказал Витек. «Ну, давай, застегивай, вот я уже застегнул», – сказал дядя. А бабушка или мама всегда на него все натягивают, как будто он сам не может, как будто он маленький. «Ты мне, папа, одну только застегни, одну пуговицу, крепкую», – попросил Витек, намучившись с новыми, жестко пришитыми пуговицами и жестко обметанными петлями. А потом, когда Борис сидел на лавке с кружкой пива, сдувал пену и медленными глотками отпивал, а потом еще взял одну, а Витьку взял кусочек сыру и конфету, Витек стоял одетый, в мужских брюках, о них все время не забывал, поглядывал вниз, ножку поднимал, чтобы видеть манжеты брючные, стоял возле отцовского колена и чувствовал себя самым счастливым человеком в этой бане и вообще.
А дома пришел дядя Коля посмотреть на Витеньку в брюках. Поворачивал его туда-сюда, старым ртом щерился, хекал: «Вот это да, это лучшие брюки, какие только приходилось шить, за всю мою жизнь лучшие, ни у кого таких нет. Будешь помнить дядю Колю? Не забудешь?» – «Нет». Витек скромно торжествовал, держался скромно, поворачивался, показывал себя, а душа парила.
– Неужели не помнишь?
– Не помню.
– Дядю Колю? Не помнишь? Ну, брюки шил тебе, не помнишь?
– Я же сказал, не помню.
– А Потешку? И Потешную улицу не помнишь? Баню? Яузу? Психбольницу?
– Ну что ты пристал?!
Не помнит. И разговаривает не так. Ну да, борется с недостатками, с материной болтливостью. Когда же он стал так разговаривать? Так молчать?
Дядя Коля помер как-то сразу, почти что и не болел, с неделю полежал, не больше, его рак съел, хотя и желудок вырезали раньше, все равно съел. В дни похоронной сутолоки Витек путался у всех под ногами, он с большим интересом отнесся к этому событию. Когда выносили гроб, Витек тоже тянулся рукой достать, чтобы участвовать в выносе. Борис молча отстранил его свободной рукой, но Витек переменил место, снова пристроился и в непонятной ему тишине громко спросил отца:
– И закапывать будем, да, папа?
Борису неловко стало, он шепотом сказал, что будем и закапывать, только чтобы Витек не мешался. Закапывать Витек не ходил, но за поминальным столом сидел, за помин дяди-Колиной души ел пышки с медом. Неужели не помнишь? Молчит Витек. Чего зря говорить, ведь сказал же, не помнит.
А голос у Витеньки звенел тогда как колокольчик. На Потешной еще не так, комната тесная, забитая кроватями, диваном, столом, шкафом, пять душ семьи, там еще не так, а вот когда переехали на Юго-Запад, вот там он зазвенел, чистый колокольчик. Две комнаты, прихожая, коридор сапожком, с изгибом, кухня, простору хоть отбавляй, да еще ванная комната, туалет, и никаких соседей, пусть даже и хороших соседей. Сам себе хозяин. Борис Михайлович не спал тогда до трех часов ночи. Вещи более-менее разместили, но все не верилось как-то, ходил по этим закоулочкам, то в туалет заглянет – блестит, сверкает, и все отдельное; то в ванную – пожалуйста, напускай воды, ложись в ванну, зачем она теперь, баня, правда, баня, конечно, другое дело, с пивком из дубовой бочки особенно, тут вот тоже вода горячая, холодная, кафель, зеркало, все блестит, сверкает. А это, значит, коридор, сапожком, прихожая, вешалка, а там, с лестницы, звоночек, только им, Мамушкиным, персонально, потому что никто тут кроме и не живет, они одни, Мамушкины, он, жена Катерина и дети, Лелька и Витек. «Папа! Мама!» – звенит колокольчик из всех уголков, из одной комнаты, из другой, с кухни и так далее. Евдокия Яковлевна там осталась, на Потешке. Господи, как они помещались там все? Катерине тоже не сидится. Убиралась, убиралась, уж все убрано, прибрано, а не сидится: туда пройдет, оттуда, на кухне столкнется с Борисом, случайно щекой приложится к его щеке. Боренька… Катенька… И Лелька, ясноглазая, блестит, сияет, то к отцу, то к матери: «Пап, мам, ну, правда, хорошо? Вам нравится?» Катерина обнимает Лельку, голову к себе прижимает, теребит. «Хорошо, доченька. А тебе нравится?» Витеньку насилу угомонить смогли, спать уложить. А то все перетаскивал разные предметы, обувь переставлял, стулья перетаскивал из общей комнаты в Лелькину, через сапожковый коридорчик, гитару туда-сюда таскал, никак места ей не мог найти. «Ты что делаешь, Витек?» – «Я тут порядок навожу». – «Ну, хватит уж, отдохни, надо спать ложиться». – «Нет! Когда весь порядок наведу, тогда хватит будет». В конце концов навел, устал, зевать начал, уложили. Потом Лелька легла в своей отдельной комнате. До трех часов ночи не ложились Борис и Катерина и ничуть не устали. А уж легли когда, как в первый раз, как будто вчера поженились. Такое счастье. Веками копилась тоска эта по маломальскому людскому уюту.
У Катерины в буфете дела шли хорошо, ни разу за все годы ничего такого не случалось, недостачи там, или, наоборот, излишек, или вообще неприятности какой с ревизией. Все как по маслу. И приносить стала домой. Даже на зарплату Бориса особо и не рассчитывали, не говоря уж об Катерининой, зарплата – это так, на нее не проживешь. Не дай бог, не воровство или махинации какие, нет, а так, от малых процентов всяких, усушка, утруска, утечка и так далее. Дома об этом не говорили, принималось как есть, нечего тут обсуждать, что да как. Денежки были, скопились. Железную кровать с шишками оставили на Потешной, у Евдокии Яковлевны, сюда же купили две деревянные кровати, на таких спать не приходилось, а вот теперь стоят рядышком, у каждого отдельная. Купили телевизор, а также – нет, не забыто, не забыто ни Катериной, ни тем более Борисом – купили пианино. Черное, а глядеть можно как в зеркало, ключиком откроешь крышку – ослепительная улыбка, клавиши блестят-сияют, как зубы у негра. Пусть пока закрытое стоит, а Витек подрастет пока. Лелька поиграла раз-другой, она в школе, на Потешной, выучила «собачий вальс», поиграла этот вальс, а дальше дело не пошло, никакого интереса не появилось, хотя Катерина просила дочку, давай, мол, берись, учительницу наймем, у тебя вальс хорошо получается, вот я, мол, ни собачьего, ни кошачьего не могу, а у тебя получается. Нет, не стала учиться. Борис даже и не просил дочку, раз уж нету от бога, значит, и нечего, пускай вот уж Витек подрастет. Вообще-то Борис не хотел, чтобы на пианино разные «собачьи вальсы» разыгрывались, природой было дано ему другое понятие. Лично он считал, что музыка – это тайна, что пианино и гитара – вещи совсем не одинаковые, пианино – тайна, гитара – так себе, развлечение, хотя он любил гитару, любил играть, любил слушать. Катя все просила сперва, чтобы Борис подобрал что-нибудь – «Синий платочек» или «Соколовский хор у Яра». «Ты что, помешалась? Как можно говорить это?» Почему нельзя говорить, он не объяснял и не мог объяснить. Когда случалось, что один дома оставался, подсаживался к инструменту, открывал крышку. Любовался клавишами, черным лаком, золотыми буквами «Лира», самим словом этим, «лира», любовался и как будто чуда ждал: вот положит сейчас пальцы на клавиши – но, увы! Он выбирал какой-нибудь белый клавиш, белый удобней, нажимал на него и слушал. Слушал, пока не кончался звук. Потом нажимал на два клавиша, а то даже на четыре, так, чтобы созвучно было, и слушал себя, слушал. Между прочим, мог сидеть так, брать созвучия и слушать часами, пока не приходила Катерина с Витенькой или Лелька. Но чтобы подбирать – боже упаси.
Катерина тоже любила в своей квартире это пианино за его вид, за его черный лакированный блеск, оно выделялось из всей мебели, дорогая вещь.
Приходила Наталья, Катина подруга, мать Вовки, садилась играть. Хорошо. Борис не показывал, что наслаждался Натальиной игрой. Когда слушал по телевизору, получалось хуже, Наталья больше нравилась, сильно мешало только то, что ногти у нее неприятно стучали по клавишам. Руки тоже у нее немножко легкомысленно летали над клавишами, у тех пианистов руки посерьезней, а так-то Наталью слушать лучше, чем телевизионную игру. Наталья говорит, что инструмента нет, вот и ногти отпустила. Да ты их обрежь, у нас будешь играть. Нет, поздно теперь. Муж у нее был непутевый, то уходил от нее, то приходил, и Наталье с Вовкой не до пианино было. Пианино было давно, в прошлом.
Один раз как-то поиграла Наталья, а потом пошла на кухню чай пить. Было воскресенье, красного вина взяли, сидели на кухне, а пианино закрыли на ключик. Витек с Вовкой играли в комнате. Переиграли все игры и захотели открыть пианино, но оно не открывалось. Тогда Витек принес из прихожей железные распрямители для обуви, вынул их из отцовских туфель. Взяли они эти распрямители и стали рубить по черной крышке. Распрямители пружинили, ими очень удобно было бить по полированной поверхности. Струны потихоньку отзывались из пианининой утробы. А на кухне было весело, никто ничего не слышал, смеялись, анекдоты рассказывали, красное вино пили, но в конце концов услышали, как-то все разом услышали и притихли. Катерина догадалась, кинулась в комнату, а они рубят, один с одной стороны, другой – с другой, по всей крышке, чтобы ровненько было, чтобы нигде не оставалось гладкого места. Катерина обмерла, но ребятишки не остановились, а принялись пуще нахлестывать, хотели понравиться. Тогда она сгребла Витеньку и уж надавала так, как не приходилось ему ни разу быть битым, и он взревел тоже нестерпимо, Борис, Наталья выскочили на крик, но Катерина уже сама ревела белугой, лежала на кровати, уткнувшись в подушку, и ревела в голос. Никто не мог понять, как ей было жалко, душа на части рвалась, а Борис, увидев ребячью работу, сначала подумал о высоком качестве пианино – до дерева ведь не достали рубцы, только белая грунтовка с трудом выкрошилась, а до дерева не дошло, и отлакировано на совесть, – погладил рукой по рубцам, крошку смахнул. Да, сделано-то на совесть, подумал, а уж вторая мысль была о том, что музыка вообще-то не пострадала, а это главное. «Ладно, Катерина, перестань, подумаешь, дело какое, поправлю, перестань и ты хныкать, сам виноват». Наталья быстренько оделась, закутала Вовку (который впоследствии застрелился из охотничьего ружья) и ушла, наскоро и неловко распрощавшись, чувствуя себя виноватой. Катерина действительно считала виноватой Наталью, ее Вовку, потому что Витек сам не смог бы додуматься, обиделась на подругу, так что потом даже совсем почти расстроились их отношения, видеться стали редко.
Посеченное пианино и сейчас стоит в Витенькиной комнате, после пятого класса Витек бросил заниматься, не подходил к нему, оно стояло со старыми шрамами, слегка подправленными Борисом, стояло заброшенным. И две стопки хороших нот, аккуратненько сложенных, годы и годы лежали без движения. Заброшенное пианино как бы знаменовало собой, может быть, больше, чем что-нибудь другое, разлад с Витенькой, оно было как бы символом этого разлада, все время напоминало. Потому что, когда Витек играл еще, когда ходила два раза в неделю Елизавета Александровна, тогда все было хорошо. Теперь пианино молчит. И сам Борис Михайлович все реже и реже открывал крышку, а потом и вовсе перестал подходить к нему. На праздники и под веселую минуту играл на верной своей гитаре. К пустому пианино постепенно привыкли. Иногда лишь напоминало оно, да и то одному только Борису Михайловичу, о чем-то несостоявшемся, вроде что-то должно было состояться, но не состоялось.
19
Борис Михайлович не спал, не мог уснуть, он думал. Катерина давно уже затихла, сон сморил ее, а он все думал. Собственно, это так только говорится: думал. На самом деле ему не давала уснуть память. Она бросала его из одного дня в другой, из события в событие. Давно прошедшее и совсем недавнее одинаково было доступно и легко перемещалось в его растревоженной голове. А как еще это можно назвать? Конечно, думал, а все время память вертелась вокруг одного и того же, вокруг Витеньки, и все чего-то искала, все искала, все уловить чего-то хотелось ей. Вот пианино теперь. Заброшенное. Стоит там за стенкой, в Витенькиной комнате, они вдвоем молчат там, каждый сам по себе. Спит Витек или тоже думает себе что-нибудь? Дурачок, ну что ему надо?
Все самое лучшее там осталось, на Ленинском проспекте, в той двухкомнатной квартире, где этот коридор сапожком. Там Лелька университет заканчивала, Елизавета Александровна к Витьку приходила два раза в неделю, там он играл еще. Да и сами с Катей помоложе были. Там было хорошо. Сперва, как приехали, с Витенькой помучились немного, не с кем было оставлять его. Сам с Катериной на работу, Лелька в школу, Евдокия Яковлевна у себя на Потешной, а Витеньку не с кем оставить. Один дома оставался, душа у всех болела, помучились, конечно, пока не устроили с великим трудом в детский сад. Только тогда и вздохнули, началась хорошая жизнь. А садик был тут же, во дворе, в огромном зеленом дворе. А вышло вон как, вроде сдали его, вот-де не нужен нам Витек, чужой он нам. Вот получилось как. Теперь, задним числом, что-то такое Борис Михайлович улавливает, что-то, конечно, было похоже. С какими слезами оставался Витек в садике первые дни, водили вместе с Катериной и не могли унять Витенькиных слез. И сейчас еще в памяти стоит мокрое зареванное личико, мокрые отчаянные глаза, и сейчас еще страшно смотреть в те глаза, круглые, мокрые, отчаянные и проклинающие, что ли, в этом роде что-то. Страшно смотреть. «Да ничего, привыкнет, все так, а потом привыкают», – успокаивала нянечка и успокоила. Но оказалось, не прошло, так и остались те глаза. «Когда еще сдали меня в детский сад, я понял, что никому не нужен».
Дома-то хорошо. Зачем же уводить оттуда, зачем этот сад и вообще зачем выгонять из дома? Это же дом. Там кроме новенького пианино, кроме игрушек, машин, пистолетов, там еще на сосновом обрезке, на кругляше, намертво вделана настоящая наковальня и рядом молотки, плоскогубцы, отвертки, ключи, гвозди и гайки и разная проволока, которую Витек ковал на наковальне. На полу настоящий поршень с шатуном лежит, от настоящей машины. Зачем же уводить отсюда в какой-то детский сад? Ну, привык потом, обжился и так далее. На самом же деле не привык, не обжился, а только смирился. Живет человек, и через его душу проходит каждый час жизни, каждый день, каждая минута до тех пор, пока не закончится земной путь. Но не бесследно проходит, а оставляет на дне осадок. И Витенькина обида выпала в виде осадка на дно его души, не забылась. Все теперь по-другому увиделось Борису Михайловичу. Хорошие минуты, веселые, счастливые обернулись вдруг совсем другой стороной, которой как будто бы и не было тогда, она и не подозревалась. Вот праздник. Сидят они с Катериной на детских стульчиках, вдоль стенки, и другие родители сидят, а эти счастливые детсадовские дети показывают им представление, изображают, ходят по кругу, танцуют, взявшись за руки, поют, декламируют, расстроенное пианино бодро-весело дребезжит. Витек самый рослый в группе, он первым поставлен, на нем заячья маска, длинные заячьи уши, одно ухо подломилось, висит, а Витек стесняется, как спутанный, передвигается, подпрыгивает, когда воспитательница велит подпрыгивать, приседает когда надо, бежит по кругу и так далее, а глаза исподлобья глядят и движения подневольные. Он же большой, зачем ему эти дурацкие подпрыгивания? Но пианино дребезжит, подстегивает, воспитательница подает команды, и он подпрыгивает, бегает. Тогда Катерина смеялась, довольна была, как и другие родители. И Борис Михайлович тоже улыбался, вот, мол, Витек, дает жизни, а сейчас все так надрывает душу чем-то совсем противоположным. Хлопает оглушительно хлыст, нарядные лошади бегут по цирковому кругу, хлыстом поднимают одну лошадь на задние ноги, потом другую, нарядные животные кланяются зрителям, зрители смеются, им весело, смешно, они довольны, а в лошадиных ушах свистит бич, круп горит от ударов хлыста, бегут веселые лошади, на задние ноги становятся, кланяются. Или этих львов, звериных царей, длинным стеком заставляют на какие-то тумбочки подскакивать, усаживаться там, сидеть, потом перепрыгивать с одной тумбочки на другую, он бы, царь зверей, с большим удовольствием отгрыз голову этой сверкающей даме со стеком или с хлыстом, а вот прыгает по ее указанию, хоть рыкает иногда, но бегает послушно, прыгает и садится на тумбочку. Нет, не сравнение, конечно, там же дети, а тут звери, животные, нельзя сравнивать, просто в голову приходит этот цирк невольно. Ну, а без детского садика? Без этих навыков, коллективных? Вырос бы дома, у папы, мамы под крылом, а взрослым вдруг да придется по кругу ходить под пианино, подпрыгивать, приседать, когда не хочется ни подпрыгивать, ни по кругу ходить, ни приседать, тогда как быть, неподготовленному, без этих навыков? Нет, конечно, Витек глуп еще, не понимает. Не понимает, что не прав. Это ясно, что не прав, но ведь он и этого не понимает, а раз уж не понимает, значит, ему трудней, значит, тяжело ему. Как же они с Катериной тогда и не подозревали ничего такого, думали, наоборот, что ему хорошо там прыгать вместе со всеми, в игры играть, под команду или без команды, под пианино или без него, какая, собственно, разница? Ведь они же дети. Дети, а понимают. Сон ему приснился, страшный. Проснулся, мать позвал, плачет. Где папа? Катерина с кухни позвала Бориса, начали успокаивать Витька. Это уже в школу пошел он, во втором уже был. Как раз перед этим начитался в лифте сквернословия всякого, царапают же босяки хулиганские, и сопляки, и даже взрослые попадаются, пьянь отпетая, царапают на стенках в лифте похабщину всякую, не успевают стирать да закрашивать. Пришло время, и стал Витек обращать внимание на эти свинские надписи. «Плохие это слова, свинство это, невоспитанность, таких хулиганов наказывать надо, и ты, Витенька, никогда не повторяй вслух этих слов. Договорились?» – «Договорились, папа». А потом он то и дело стал слышать, как поблизости даже переругиваются друг с другом этими словами. И вот приснилось. Именно оттого и сон этот страшный приснился. Как раз после праздника было, на второй день. В первый-то день с Витьком на парад ходили смотреть, не на самый парад, не на Красную площадь, а на Калужской площади смотрели, как техника проходила, танки, орудия, особенно эти огромные ракеты, в лежачем положении везли их гигантские тягачи. Возле парка, у Крымского моста остановка была, стояли, и Борис еще подошел к одному, поднял Витеньку на руках, прямо туда, к водителю. «Витек, дай водителю конфетку», – и Витек протянул руку, а водитель взял конфетку, улыбнулся, спасибо сказал, поговорил немного, а потом тронулись они, а Борис и Витенька с тротуара смотрели, как ползли эти страшные ракеты, улица дрожала, асфальт дрожал под тяжестью, от гуденья, от грома моторов дрожала вся площадь и даже все дома на площади и мост. «Ну, как?» – спрашивала потом Катерина. – «Сильное впечатление». Понравилось Витеньке да и Борису тоже. А потом этот сон. Сидит утром в постели, плачет, содрогается, слезы кулаком вытирает, а они снова льются. Ну что? Уж когда окончательно поверил, что все это во сне, успокоился, тогда рассказал. Ну конечно же глупости. Что может присниться ребенку? Взрослому и то порой такая чушь придет во сне, что и не поймешь, откуда что взялось, а это ребенок. Директора обозвал во сне. Вернее, директрису школы обозвал теми словами свинскими, из лифта. Стояла она у входа, огромная, с большим животом, и пропускала мимо себя первоклашек, второклашек, вообще младшеньких, все они гуськом, убирая в плечи головы, проходили под ее материнскими глазами, а Витек сам не знает, почему оглянулся и обозвал ее словами, которые обещал отцу не повторять за хулиганами. Зачем обозвал, не знает. И директриса пошла на него, огромная, в черном вся, а он стал убегать, а она тоже побежала вслед и стала кричать: «Держите Мамушкина, Мамушкина, Мамушкина!» А потом пошли эти танки, пушки и эти страшные ракеты с тягачами, со всех сторон пошла артиллерия, «катюши» и остроголовые эти ракеты, и все на Витька пошли, гудят, догоняют, а она кричит: «Вот он!» – а он бежит, оглядывается, а из всех переулков, из всех улиц выползает страшная техника, преследует. Сил уже нету, завернул за угол, а там стенка глухая, некуда больше бежать, оглянулся, хотел назад куда-нибудь, а они вот они, закрыли все выходы, на него наваливаются, ревут, земля дрожит, сейчас раздавят, и Витек страшно закричал, а голоса нет, еще закричал и проснулся, дрожит весь, плачет, ничего не понимает. А все оттого, что слов этих мерзких начитался, наслышался. Как тут понять, что хорошо, а что плохо, что полезно ребенку, а что вредно? Думали, что детский сад – хорошо, а получилось наоборот. Парад смотрели – понравилось, и правильно, надо, чтобы дети знали, какая у нас техника, какая сила, это всегда было детям интересно, а вот в сон влезло, могло и заикой сделать мальчика. Никогда не узнаешь, как что обернется. Кое-что, конечно, превратилось в свою противоположность, неожиданно, но вообще там, на Ленинском, была хорошая жизнь, можно сказать, счастливая. Все как-то совпало. Там же и первый спутник запустили, радости было сколько. Когда запустили третий, Витьку тоже сон приснился, но ничего плохого, стихи приснились. Встал он и говорит матери, чтобы взяла карандаш и бумагу, а Катерина на работу собирались, некогда, а Витек просит. «Да возьми ты карандаш, – сказал Борис, – просит же человек». И Катерина взяла карандаш и бумагу. «Запиши, мама, стихи приснились, сочинились ночью.
Летают в небе три бога́…»
«Надо говорить бо́га, а не бога́». – «Нет – бога́, я так сочинил». – «Ну, хорошо, пускай будет так.
Летают в небе три бога́,
Летают и снимают.
Красное знамя труда. Все».
«Стихи очень хорошие, но Красное знамя труда уже было, уже песня есть такая». – «А я про другое Красное знамя труда, совсем про другое».


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)