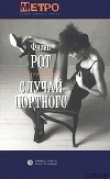Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Мари-Анна-Петер, Марианна с затаенными глазами, ушла в класс. Она не знала, что рядом стоял Витенькин отец, видел ее, разговаривал о ней с классной руководительницей, не знала, что Борис Михайлович совершенно несогласен с учительницей и ни за что и никогда не будет считать ее страшненькой.
На следующий день после встречи с Вадимом Марианна почувствовала, конечно, какое-то угрызение совести, совсем небольшое, но она никак не ожидала, чтобы Витенька мог так сильно обидеться, он прошел мимо, не заметил ее, в классе тоже ни разу не взглянул и на переменке прошел мимо. Тут только Марианна поняла, что с ним что-то серьезное, что мальчик он совершенно несовременный, может, оттого, что мать буфетчица, а отец, например, слесарь-водопроводчик, подумаешь, страдающий Вертер, дуется, как девчонка, может быть, думает, что плакать буду, ха-ха… Однако к последнему уроку Марианне сделалось почему-то совсем невыносимо. Кошки, которые скреблись и царапались внутри, готовы были выскочить наружу, и тогда она заревет навзрыд. Ей стало казаться, что, если она вот так уйдет после уроков домой, не сможет перенести ночи, не сможет дожить до завтрашнего утра. Поэтому подкараулила Витеньку на лестнице, перегородила ему дорогу, едва сдерживая себя от крика, выпалила в лицо ему горячим шепотом:
– Ты жестокий бог, я больше не буду любить его, но и тебя не буду любить, я лучше умру.
Глаза ее, густые и длинные, пылали гневом за черной челкой. Витеньке стало страшно, но он не изменил каменного лица и не сказал ни слова. Она закусила нижнюю губу, уступила ему дорогу и сбежала вниз.
На другой день Марианна в школу не пришла. За спиной у Витеньки шушукались, хихикали в ладошку, некоторые девчонки жалели про себя Марианну и Витеньку, даже сильно переживали, как свое собственное. Витенька страдал. О! Теперь он хорошо знал, что это такое. Все его прежние душевные неурядицы, даже смерть Вовки, казались вполне терпимыми и не такими страшными. Он бы, конечно, не стал распускаться, сразу бы все подавил, выбросил вон из головы, но тот день, когда они были у нее дома, те часы, минута за минутой, по сто раз в день проходили опять в его памяти, то одно, то другое, то все по порядку, как пришли они и как он ушел от нее, то все наоборот – с самого конца, а то даже начинало проходить перед ним, мучить его уже с того момента, когда они встретили Вадима, каждую минуту что-нибудь из того дня сидело в нем и не давало ему жить нормальной жизнью, мешало ему подавить все и выбросить. То мучительно хотелось ему к ней, то зубы ломило, так хотелось ему задушить ее, замучить, унизить, заставить плакать или же бросить перчатку под ноги этому Вадиму и стреляться с ним на Черной речке, только стреляться и… быть застреленным, убитым, пусть бы она увидела его убитым ее Вадимом. Он уже видел себя медленно падающим на снег, и кровь выступила у него на груди, быстро намокала белая рубашка, намокала красной кровью, он падает, а она летит к нему, и в глазах у нее… Нет, не проходит, а с каждым днем все хуже. Значит, она и Вадима любила, если говорит, что не будет больше любить? Как же это можно? Говорить можно все. Хорошо, что завтра практика, может быть, там хоть отойдет все, отступит, а то опять ходить по коридорам, в классе сидеть, где она рядом, где все о ней напоминает, а то еще и завтра не придет в школу, неизвестно даже, что хуже: когда придет или когда не придет.
Он хорошо проштудировал музыкальные пьески и теперь легко и с удовольствием играл в зальчике детского сада, а маленькие клопики – неизвестно почему, он их страшно полюбил, – маленькие клопики под его музыку ходили по кругу, весело подпрыгивали, перестраивались, приседали и бегали, а потом пели, хлопали в ладошки и плясали. Витенька сидел боком к залу, видел воспитательницу в белом халате и этих неловких, но очень старательных, с разнообразными и прекрасными рожицами, выразительными и невинными глазами мальчиков и девочек и никак не мог вспомнить, почему он так не любил свой детский садик, помнит горькую обиду, которая так и не прошла, обиду на родителей за то, что они отвели его в свое время в сад, но почему плохо было ему, почему он страдал там, особенно когда надо было вот так ходить по кругу, приседать и подпрыгивать, этого он не мог сейчас понять. Сейчас ему все это нравилось, и он играл с воодушевлением, и ребятишки это чувствовали и отзывались на это подчеркнутой живостью во всех своих играх, подпрыгиваниях, приседаниях, танцах и хлопаньях в ладоши.
Конечно, если бы кто из домашних оказался свидетелем Витенькиных занятий, он сгорел бы от стыда, он даже мысленно не мог себе представить, чтобы Лелька, например, мать или отец заглянули бы сейчас в этот зальчик. Но ему самому, без свидетелей, было тут хорошо. Конечно, он все время помнил о Марианне и вообще обо всем, но здесь, среди ребятишек, это не так мучило его, как-то отодвигалось в сторонку, оттеснялось подальше от него. После занятий Витек не сразу уходил, он немного беседовал с малышами, тоже было интересно. Он знал уже многих по фамилиям, ему нравилось называть их поименно. Его маленькие друзья, эти потешные клопы, окружали его после занятий, пищали, лезли с вопросами и даже цеплялись и держали его за брюки, он с удовольствием чувствовал, когда разговаривал с кем-нибудь из них, как сзади пара или тройка цепких ручонок держала его, теребила за штаны.
– А что это у тебя, Телькин? За спиной?
Телькин, круглощекий помидорчик, вынул из-за спины собаку.
– Это мой Барбос. Он очень пушистый, поэтому я начал учить его разговаривать.
Все прыснули со смеху, подняли крик, кто-то совал вперед свою собаку, раз уж зашла речь о собаках.
– А у тебя кто? – спросил Витенька у другого владельца собаки.
– Тоже собака.
– Как зовут се?
– Су-учка.
Опять крики и смех заслонили все, ничего не понять, не расслышать.
Ему было хорошо. И особенно хорошо оттого, что никто этого не видел и не слышал.
Дома опять он страдал. Валялся на тахте, смотрел в потолок и страдал. Телефонный звонок сбросил его с тахты, в два прыжка он оказался в прихожей, у аппарата. Звонил Феликс. Он был настоящим другом.
Они встретились в Центре, обменялись нежными тумаками и пошли к знакомой Феликса.
– Кто она, я тебе не скажу, – объяснял Феликс, – сам не знаю. Может быть, стенографистка высокого класса, может, переводчица, может, первая советница председателя Организации Объединенных Наций, муж ее – король Йемена, а может быть, бывший президент Франции, а может быть, его нет и вообще никогда не было. Ни о чем ее не спрашивай, она все, что найдет нужным, скажет сама. Расспрашивай о Париже, о Сьерра-Леоне, об окрестностях Санта-Крус. О чем угодно, только не о ней самой. Вообще, ты сегодня будешь гостем Прекрасной Незнакомки.
За внешним приятельством, за кажущейся легкостью отношений между Феликсом и Витенькой таились глубокая приязнь друг к другу и полное доверие. Не высказывая вслух, Витенька высоко ставил ум Феликса, дорожил его дружбой и втайне гордился ею. Феликс так же втайне верил в пока не раскрытый, грядущий Витенькин талант. Занимаясь еще в школе, в историческом кружке, он подготовил реферат по древнему Новгороду и недавно, будучи уже студентом историко-архивного института, опубликовал в историческом журнале первое свое исследование, первый опыт «К вопросу о грамотности жителей древнего Новгорода». И над этой ученой статейкой «К вопросу…» Феликс написал: «Гениальному поэту и мыслителю Виктору Мамушкину от гениальною историка российского народа». Тогда же, презентуя Витеньке свою работу, он говорил:
– У меня, Витя, замысел. Хочу пройти по следам историков от Скифии до нынешних дней, весь путь российского племени. У меня есть гениальное подозрение, что тут невпроворот вранья и ошибок. Жизнь свою посвящаю расчистке этого пути.
– Ну, ну, – сказал Витек, улыбаясь, а самого в эту минуту захватывал мощный прилив восторга перед другом.
Витек любил своего друга. Ему нравилась и новая внешность Феликса, изменившаяся после школы. Теперь он был одет как-то фундаментальней, отпустил баки по моде, и смоляные, отливающие синевой колечки покрывали его щеки и подбородок. Витенька сказал, что теперь он похож на сына Моисеева, Исмаила, который народил одно из величайших племен Земли, исмаилитов. Нравилось, что за сильной, почти потрясающей внешностью Феликса-Исмаила имели место глухой невыразительный голос и нежное сердце.
Они поднимались по лестнице, пренебрегли лифтом. Лестница, как и дом, была старой, широкой и сумрачной, окованной по углам еще царским железом. По ее тяжелым и мрачным ступеням можно спуститься только в ад, но Витенька и Феликс не спускались, а поднимались на третий этаж.
Им открыла ослепительная женщина. Ангельским голосом она приветствовала юношей, попросила раздеться и следовать за ней. В небольшой столовой, прямо перенесенной без всяких изменений со страниц иллюстрированного журнала, хозяйка, положив нежные руки свои на плечи Феликса, усадила его в кресло для отдыха, остановилась перед Витенькой, бесцеремонно разглядывая и любуясь им. Наглядевшись, сказала:
– А ты, Викто́р, вполне молодец! – И тоже усадила в кресло.
Витенька был немного растерян и не знал, нравится ему или нет эта женщина и то, что они пришли сюда. Пока он смотрел на все, как на представление или как будто читал книгу, хорошую или плохую – тоже не знал, и была в нем настороженность: что будет дальше? Женщина была легкой, сухопарой и роскошной. Роскошной ее делали удивительно красивые, певучие движения, яркий рот и главным образом ее брючный костюм из легкого, поблескивающего материала, раскрашенного так ярко, такими немыслимыми павлиньими хвостами и зоревыми вспышками, что кружилась голова. За просторной, навыпуск, блузой угадывалась тонкая талия, сильное и гибкое тело. В светлых волосах, уложенных едва заметными волнами, пряталось солнце. Лицо чистое, юное, без единой морщинки. И ангельский голос.
Вскоре пришла подружка, гладко прилизанная брюнетка, очень милая, почти очаровательная. Хозяйку звали Эмилией, подружку – Ташенькой.
Незаметно был сервирован стол. Из полированного холодильника-бара хозяйка понаставила изысканного питья: джины, виски с тоником, «Чин-Цано» со льдом и даже «Кока-кола», которую Витенька в глаза увидел первый раз. Когда сели за стол, среди заморских бутылок с шикарными цветными картинками – белая лошадь, рыцарь в доспехах и черт знает еще что, среди этих затейливых бутылок, в обществе этих совершенных женщин Витенька почувствовал себя в другой, не своей стране, а после первой, второй и третьей рюмки, после фужера какой-то изумительной по приятности смеси ему уже казалось, что он давно проживает в этой не нашей и чудной стране; Ташеньку называл Ташкой, а хозяйку Эмилию с наслаждением и уже нетвердым языком называл Эмильей.
– Эмилья, черт возьми, – кричал нежно надломленным голосом Витек, – давайте выпьем за вас, Эмилья, Магнон С’Эскамильо, Магнон С’Эскамильо – святое вино. За вас!
А музыка была поставлена тихая и прекрасная, каких-то ранних итальянцев. В ее струящемся волшебном потоке нежно надломленно звучал несчастный Витенькин голос.
Он помнил Марианну, еще на лестнице помнил, а теперь то и дело вспоминал и думал о ней с мстительной сладостью, пока не простил ее окончательно, и тогда на какую-то минуту захотелось к ней, к Пете, к ее глазам, ко всему Марианниному. Феликс держался опытнее, сидел прямо и красиво, не пьянел и говорил то и дело:
– Каков мой друг! А? Каков!
А друг, уже по-детски сутулясь, отвечал размягчение и пьяно:
– Вы посмотрите на него! Исмаил! Не правда? Вылитый Исмаил, сын Моисея, изгнанник!
И еще в этой раннеитальянской музыке звучал ангельский голос Эмилии, ее раннеитальянский смех. Она встала, озарив столовую радужными павлиньими хвостами и зоревыми вспышками, тронула рукой панельку золотистого ящика, и тут же врезалась на полную мощь, смяв и вытеснив раннеитальянскую, сегодняшняя бит-поп-рок-секс-музыка, тигры в гитарах, и почти очаровательная Ташенька поднялась и подошла к великолепному Феликсу, ослепительная Эмилия, Эмилья, руками нежной матери подняла Витеньку, и они стали топтаться вокруг стола, прижиматься и полностью, без какого бы то ни было остатка, отдаваться друг другу, то есть липнуть, растаивать, целоваться, танцевать.
Когда Витенька устал, он подтащил Эмилию к креслу и упал в него, а через минуту уже спал в этом кресле, не помнит, как уснул. Проснулся с улыбкой. Эмилия сидела за столом, курила.
– А где мой Феликс?
– Они ушли отдохнуть немного, – нарочно не раскрывая улыбку, а как бы сдерживая ее, ответила ангельским голосом Эмилия. – Он просил и тебя отдохнуть немного, мой милый Виктор. Хочешь выпить?
– Очень, – Витенька потянулся к столу.
Они выпили, и тогда Эмилия увела Витеньку отдыхать. Отдыхать легли они на широченной, пяти– или шестиспальной кровати, разверстой, как белое облако. Витенька успел только заметить, что вдоль кровати, по стене, к которой она была прислонена, тянулось узкое зеркало. Когда он лег, вернее, был уложен, увидел себя, лежащего в этом зеркале, слабо и неотчетливо подумал, вот он погиб, разделился надвое, на двух пьяных мальчиков.
Эмилия вставала, еще раз и еще приносила вина, они пили в кровати и опять отдыхали. В третьем часу ночи появился Феликс, не совсем одетый.
– Ну как ребенок себя чувствует? Как ведет? – спросил с улыбочкой.
– Одно очарование, – ответила Эмилия.
– А знает ребенок который час? Звонил ли он маме?
Витек вспомнил о доме, вяло шевельнулось в нем что-то, он отвернулся к зеркалу и попросил Феликса:
– Слушай, Исмаил, позвони, пожалуйста, они умрут там.
После двенадцати Катерина уже не знала, что подумать. Хотя они давно уже легли, но спать, разумеется, никто не мог. Борис Михайлович говорил, что Витек уже взрослый и может задержаться в какой-нибудь ребячьей компании или хотя бы у той девочки, там ведь тоже родители, может, и просто гуляет с кем-нибудь по улице, так что голову ломать и тем более стонать нечего. Но в третьем часу и он поддался всяким мыслям. Вдруг Катерина или сам Борис Михайлович вздохнет и скажет, что вот, дескать, мерзавец какой, что вот, дескать, об отце-матери не подумает, а может, лежит где-нибудь с проломленной головой у Склифософского или… ведь Москва какой город, пропадет человек, и следов не найдешь.
– Да что ты говоришь такое, разве можно такое говорить? – скажет он или она и опять молчат мучительно, перебирают каждый про себя самые невероятные варианты несчастных случаев, опять ждут чего-то, не спят, конечно. И вдруг в третьем часу – звонок! Катерина кинулась в прихожую, к телефону, поднялся и Борис Михайлович. Але! Але! Звонил Феликс.
– Это я, Катерина Максимовна. Пожалуйста, не беспокойтесь, Виктор со мной, с ним все в порядке. Позвонить не было возможности, спокойной ночи.
Повесил трубку. Катерина стояла босиком, совершенно ошеломленная.
Когда наконец опомнилась, то положила трубку и вернулась в комнату, а вслед за ней и Борис Михайлович.
– Знаешь, что он сказал? Я знала, что этот Феликс заведет Витеньку, он же красавчик, разве ж он может быть человеком? Начнет по девочкам ходить и Витеньку затаскает.
– Что он сказал такого?
– Сказал, что Витенька не может подойти к телефону, он с любимой находится. Что же это такое?.. Это ты довел ребенка. Ребенок должен бояться отца, а у нас что? О господи.
Какой уж там сон! Кое-как промучились до утра и встали с головной болью, а Катерина с больным сердцем.
Проснулся и Витенька на пятиспальной кровати с зеркалом, тоже с головной болью и с гадостным ощущением во рту и во всем теле. Где-то у ног его пласталась спящая Эмилия. Сперва увидел ее в зеркале, лежащей поверх одеяла, потом повернулся и стал смотреть на ее свалявшуюся голову, рыжую, дальше никли атласные груди, маленькие и пустые, с обмякшими и даже чуть сморщенными сосками, бледный и тощий живот.
Эмилия открыла глаза и показала крупные белые зубы, растянув улыбку.
– Что, ми-лый?
Витек хотел сказать, чтобы она накрылась, но не успел, спазм подкатил к горлу, и его бы вырвало на это разверстое белое облако, если бы он не вскочил и не выбежал вон, ища с полным ртом туалетную комнату. Когда он вернулся, тошноты уже не было, но еще сильней разламывалась голова, и не оставалось сил, чтобы одеться, а тем более выйти из дома, он мог бы свалиться где-нибудь на асфальте, на глазах у людей. Нет, он вернулся и лег.
– Ты пил все подряд, – сказала Эмилия, – а этого, милый мой мальчик, делать нельзя.
Она хотела пожалеть Витеньку, приблизилась к нему, но он со стоном отвернулся. Эмилия без своего ослепительного костюма, совершенно голая показалась ему скучной и омерзительной, особенно скучными и омерзительными были крупные белые зубы. И все остальное.
Она встала, приняла ванну, оделась и вернулась в спальню.
– Виктор, без меня никуда не уходить, отлучаюсь на два часа, не больше. – И ушла.
Витенька хотел уснуть, но не мог. Он начал стонать, это немного облегчило страдания.
Потом вошли одетыми Феликс и Ташенька, тоже просили не уходить, они еще вернутся.
Потом по квартире зашлепали чьи-то шаги, что-то открылось, хрюкнуло что-то, шаркнуло, потом заглянуло в спальню, остановилось у дверей, застыло, слушало Витенькин стон. Потом приблизилось, и Витек повернулся и увидел, встретился глазами с пожилой женщиной, сразу чем-то напомнившей ему бабу Олю.
– Я тут убираюсь, убираться пришла, – сказала она и подошла еще ближе. Спросила: – Болит? Что ж ты, сыночек, так-то?
Она вышла и вернулась с мокрым полотенцем, положила его на Витенькин лоб и попросила его полежать на спине, пройдет голова, только полежи так-то.
– Что ж она делает, Емилка эта, бессовестная?
Потом принесла на тарелке две груши, помытые, еще в капельках воды, поставила прямо на кровать, рядом с Витенькой.
– Покушай, может, легче станет. И уж не жди ее, Емилку, а уходи отсюдова.
Женщина скрылась в недрах квартиры, стала убираться, а Витек, полежав неподвижно, протянул руку, подержал немного холодную грушу, и захотелось ему именно груши, стал откусывать сочную, прохладную мякоть, и что-то успокаивающее начало медленно разливаться по измученному и гадкому его телу. Он ел все с большим и большим удовольствием и стал думать с незнакомой ему нежностью об этой простой женщине, похожей на бабу Олю, похожей частично на тех, кого он блистательно презирал, встречаясь с ними в магазинах, на улицах, вообще на каждом шагу. Подумал о бабе Оле, может быть впервые вспомнив за последние годы, что она его родная бабушка и что у него есть родной дедушка, с деревянной ногой, и ему захотелось вдруг на Незнайку, к бабушке и дедушке, в лес захотелось, на лыжи, и как-то незаметно он вдруг запрезирал самого себя и даже стал робко возвышаться в своих похмельных, раскаянных мыслях до каких-то обобщений насчет простых людей вообще, насчет – вон куда завело его! – простого народа и этих избранных паразитов, каким показался себе он сам, и Эмилия, и даже Феликс. Что-то в нем потихонечку переворачивалось и открывалось. И чем больше и ясней он проникался презрением к себе и вообще ко всем себе подобным, к этим паразитам, тем легче и светлей становилось на душе, в темные и мрачные глубины ее заглянул первый лучик дневного света. Он съел грушу и подумал, вот же везет дуракам, даже тогда, когда они делаются к тому же еще и скотами. Подумал про самого себя и встал. Оделся, нашел женщину, поблагодарил, извинился и еще раз поблагодарил и извинился и быстро ушел, как вор, которого не успели накрыть вовремя.
Улицы, метро, троллейбусы, пешеходов и пассажиров он увидел в это утро как-то непривычно, по-другому. А совсем же недавно, вчера еще, восторгаясь умом Феликса, был убежден, что в мире одни должны вкалывать, другие думать и те, кто думает, те главные люди, на них стоит жизнь, а те, кто вкалывает, должны только этим и заниматься, а собаки должны жить собачьей жизнью. Теперь ему хотелось на Незнайку, только на Незнайку под снегом, в лес, полный снегу, к дедушке и к бабушке.
Куда-то он шел, где-то спускался в метро, где-то выходил и в конце концов каким-то образом оказался в своем подъезде, в своем лифте, у себя дома.
Было воскресенье, испорченное и несчастное для родителей воскресенье. И сам себе испортил он не только это воскресенье, но и всю жизнь. Как он будет теперь жить? Женщины, о которых он так много читал, много знал чудных стихотворений, столько божественной музыки, оказывается, одна только гадость. После этой Эмилии он сам себе сделался мерзким. А Марианна? Тоже гадость? Нет, одна она только нет, все остальные – да! Марианна просто предательница, но не гадость. Все кругом и сам он омерзительны. А он, Витенька, нашел смысл в этой мерзости? Как же этот Феликс? Прекрасный Феликс? Может, он не тот, за кого я принимаю его? Какая теперь разница, тот или не тот… Ему надо на Незнайку, к дедушке, к бабе Оле.
Родители встретили Витеньку отчужденно, обиженными насмерть. Борис Михайлович прежде думал, что он отстал от молодежи, неправильно относится к сыну, думал, что вот переменился, вроде стал понимать теперь, стал идти навстречу Витеньке, и вроде что-то стало получаться из этого, но вот опять стал в тупик, не мог решить, как отнестись сегодня к этому негодяю, выходит, что он действительно плюет на больную мать, на отца, если мог до трех ночи мучить их, ни разу не вспомнить о них, а в третьем часу объявиться через чужого человека, не подойти даже к телефону, может быть, он и вообще о них не вспомнил, а этот Феликс сам от себя позвонил. Борис Михайлович мрачно молчал. Мать ругалась с причитаниями.
– Ну что же нам делать с тобой, себялюбец ты проклятый, смерти нашей хочешь, хочешь сам жить, живи, и сейчас можешь жить сам, жрать только что будешь, вот станешь когда-нибудь отцом, вспомнишь, да поздно будет… Господи…
Витек стоял истуканом. Мучительно было все это выслушивать, но он притерпелся и слушал. А когда замолчала мать, сказал:
– Ма, я поеду к дедушке.
– Еще что надумал?
– Я поеду к дедушке, мне надо.
– А школа?
– Я заболел.
Катерина всплеснула руками и села, обессиленная новым страхом.
– Чем ты заболел? Что с тобой?
– Просто мне плохо, я поеду.
До Нового года, до новогодних каникул оставалось пять-шесть дней, и Катерина, подумав немного, согласилась.
– Поезжай, черт с тобой.
В своей комнате она сказала Борису Михайловичу:
– Вот они, – сказала она, – ноктюрны твои, развесил уши, ноктюрны, ноктюрны…
38
На третий день после Витенькиного отъезда девичий голос замкнуто и тихо спросил по телефону:
– Можно Виктора?
– А кто его спрашивает? – спросила Катерина.
– Это неважно, попросите, пожалуйста.
– Как это неважно? Он болен.
– А подойти к телефону не может?
– Нет, не может.
– Извините, пожалуйста, это Марианна, он знает, скажите ему.
– Он болен.
– Я приду навестить его, можно?
Голос Марианны становился с каждым вопросом все неустойчивей и вот-вот мог оборваться какой-нибудь неожиданной выходкой или просто слезами. Катерина почувствовала это и сказала помягче, почти ласково:
– Витеньки нет дома, он у деда в деревне, только пожалуйста, Марианночка, не говорите об этом в школе.
– Скажите, как проехать туда?
– Девочка, туда нельзя.
– Извините…
Когда он сошел с автобуса и увидел накатанную дорогу в деревню, куда он ездил в последние годы только по обязанности и без всякой охоты, когда из-за пригорка показались в пятнах белого снега голубые маковки куполов старой церкви, давняя детская радость пришла к нему вместе с предчувствием непонятной тревоги. Он пошел быстрым шагом, почти побежал, чтобы скорей перевалить этот пригорок, увидеть знакомую крышу, убедиться, что все тут на месте. Справа и слева от дороги, до самого леса, лежали белые снега, не грязные, не потемневшие, как в Москве, а какой-то ошеломляющей, ничем не тронутой белизны.
Открыв калитку, потоптавшись у порога, оббив налипший снег, Витенька вошел в знакомый-презнакомый дом.
– Здравствуй, бабушка, – сказал он бабе Оле и бросил на пол, возле порога, рюкзачишко, куда положил несколько книжек, а мать сунула смену белья и каких-то городских продуктов.
– Витенька, внучек, – запела баба Оля, вытерла руки о передник и подошла обнять Витеньку. – Ну, здравствуй, не случилось ли чего?
– Нет, – сказал Витек, – ничего не случилось, просто я приехал, а где дедушка?
– Дедушка от коровы чистит, ступай зови его, обедать будем.
Витек вышел, заглянул в коровник, в полутьме увидел деда, отгребавшего лопатой навоз.
– Здравствуй, дедушка, – сказал он с порога.
– Это ктой-то? Внук, что ль? – отозвался дед, повернувшись на голос.
– Это я, дедушка. Бабушка обедать зовет.
– Один заявился?
– Один, – ответил Витек, поглядел на вопрошающего деда, прибавил: – Дома все нормально, просто я приехал, захотелось.
– Чего это тебе захотелось?
– Просто захотелось.
– Ну, что ж, это неплохо. – Дед стукнул деревяшкой, вышел на свет, оглядел всего внука, с ног до головы. – Вырос ты хорошо, женить можно. – Потом похлопал Витеньку, едва доставая до плеча, повторил еще раз: – Вымахал хорошо. Никак, борода хочет расти?
– Хочет, – согласился Витек.
– Ну, пошли, раз бабушка зовет.
За обедом Витек был послушен, послушно принимал все, что подавали, послушно отвечал на вопросы.
– Как там мать?
– Хорошо, на Новый год собирались к вам.
– Отец?
– Тоже хорошо.
– Лелька?
– У нее всегда хорошо.
– А дома-то как?
– Хорошо, дедушка, все в порядке.
Дед замолчал, молча ел, но все время косился на Витеньку. Потом отложил ложку в сторону, спросил строго:
– Ты вот что, внук, говори, что случилось?
Раньше Витек не стерпел бы этого, сейчас послушно повторил уже сказанное.
– Ничего, дедушка, не случилось, я же говорил тебе.
– Говорил…
Опять покосился.
– Говорил. А школу почему бросил?
– Я не бросил, просто несколько дней пропущу.
– Зачем?
– Ну, чего ты, дед, пристал? – вступилась баба Оля.
– Погоди, бабка. Зачем – спрашиваю?
– Я сильно устал, дедушка, хочу отдохнуть у вас.
– От чего ты устал так?
– Не знаю.
– Господи, да оставь ты его, пожалуйста, – взмолилась баба Оля.
– Учишься как? – продолжал допрос дед.
– Отметки у меня плохие, – признался Витек.
– Отчего?
– Неинтересно мне в школе.
– А где же тебе интересно?
– В общем-то нигде.
Дед потер ладонью колючую щеку.
– Значит, и правда устал.
Хлопнула калитка. Дед проворчал что-то, начал подниматься, но Витек опередил его, мигом выскочил во двор. Дед снова стал устраивать свою деревяшку под столом.
– Бабушка, дедушка, бабушка, дедушка, – передразнил он внука. – Больно уважительный стал. А малый честный, чтой-то у него неладное получилось… Не говорит.
Не успела баба Оля ответить, вернулся Витек.
– Пилу принесли. Куда ее?
– Повесь в сарае, на стенку.
Все бегом, бегом, одна нога тут, другая там. Что-то с ним неладное. У бабы Оли уже душа начала болеть.
– Ну, Витек, отдыхай, набирайся сил, – сказал дед, оделся и снова вышел во двор.
Витек за ним следом.
– Дедушка, может, помочь тебе? – спросил Витек. – Если нечего, я спать лягу, посплю немного.
Дед опять смерил Витеньку взглядом, теперь вполне миролюбивым, почти ласковым.
– Ты вот что, Витек. Принеси бабушке воды и ложись спи, отсыпайся. Вымахал ты хорошо, – снова повторил, но теперь уже с большим одобрением.
Баба Оля поблагодарила внука за воду, постелила ему в горнице и, когда тот лег, посидела рядом немного.
– Спи, внучек, спи, тепло тут и воздух чистый. Спи, а я пойду. – Но не уходила, продолжала сидеть. – Ты не заболел, случаем?
– Есть немного, бабушка, – засыпая, ответил Витенька.
– А что болит-то?
Витек повернулся к бабе Оле, стряхнул сон и сказал:
– Бабушка, у меня душа немного болит, душа заболела.
– Как это? – встревожилась баба Оля.
– Ничего особенного, бабушка. Это все быстро заживет… Бабушка, а у дедушки есть ружье?
– Чего это далось тебе ружье?
– Так просто. Есть или нет?
– Когдай-то было, ты у дедушки спроси, а теперь спи.
Витенька повозился немного и уснул.
Проспал он остаток дня и ночь, а поднялся вместе с дедом и бабкой рано, завтракали при лампочке. За ночь нападало снегу, завалило тропинки, двор, где были расчищены и протоптаны дорожки, – все теперь укрылось под белым пушистым покровом. Дед откидывал снег от порога, чистил тропинки. Возле вертелся Витенька в старых валенках, потом взял деревянную лопату и стал помогать деду. Отгребая и отбрасывая снег, прокладывая новые проходы, снежные траншеи, Витек ушел в работу и скоро почувствовал в румяном деревенском воздухе раннего утра, рядом с дедом, под его покашливание, под шипение отбрасываемого снега необыкновенное облегчение, близкое к полной невесомости. Сам он был легок, неощутим, как облачко морозного пара, потому что все, что налипло в Москве, чем оброс он там, отпало начисто и только держалось в почти неуловимой и невесомой памяти. Ему сделалось так легко и хорошо, что мысль о возвращении назад, как только она пришла к нему, показалась страшной.
– Дедушка, – сказал он деду, подойдя к нему с лопатой в руках, – у тебя есть ружье?
– Ружье? А как же, висит в чулане. Поглядеть надо, висело там.
– И патроны?
– Были и патроны. Ты что, на охоту хочешь сходить? Стрелять умеешь?
– Умею. А можно мне сходить? Сегодня?
– Отчего же, была бы охота.
– А жакан у тебя есть, дедушка?
– Это что еще?
– Ну такая пуля, на лося годится.
– На лося нельзя охотиться. Есть картечь, похлеще твоего жакана.
– А ты можешь зарядить мне картечью? Один патрон.
– Могу, только зачем тебе картечь?
– Может, кабан встретится, – наобум сказал Витек.
– Кабаны есть. Лучше не трогать кабанов.
– Я не буду трогать. На всякий случай.
– Давай заряжу.
– Дедушка, а можно сейчас?
– Сию минуту, что ли?
– Да.
– Чего ж нельзя, можно.
Дед и внук поставили лопаты и пошли в дом.
– Жалко, наш пес подох, вдвоем бы веселей, мог бы зайчишку поднять. Да я у соседа спрошу собачку, она пойдет с тобой.
– Мне не надо собачку, – отказался Витек, – я один хочу. Пойду один.
В чулане сняли с гвоздя ружье, вышли на снег, переломил дед двустволку, сощурился, заглянул в один ствол, в другой – грязно.
– Отстрелялся, дед, хватит, – сказал он и вздохнул. – Видишь вот, чистить надо, бери шомпол, тряпку и давай, а я погляжу, можно ль тебе в руки давать оружие.
Витенька улыбнулся.
– Какое это оружие? Это охотничье ружье.
– Знаю, что охотничье.
Витек сощурился, как дед, заглянул в один ствол, жутковатая, стремительная, мерцающая глубина открылась ему и как бы потянула внутрь, стала всасывать в себя Витенькину душу. Витек отмахнулся от этого, вроде волосы отбросил в сторону, на самом деле скрыл минутную дрожь. Потом заглянул во второй ствол, уже спокойней.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)