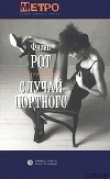Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Сейчас почищу, дедушка, – сказал он.
Витек не держал еще ружья в руках, но это не имело для него никакого значения. Холодильник, стиральная машина, радиоприемник, швейная машина – все железное, что окружало современного человека в домашнем быту, кроме телевизора, было доступно Витеньке, потому что все было менее сложным, чем магнитофон, который он делал собственными руками. Стоило ему увидеть, как дед переломил и снова сложил ружье, проверил курок, предохранитель, и все ему стало ясно. Со знанием дела он осмотрел дедовскую двустволку, протер шомполом стволы, подвигал предохранителем, сказал деду:
– Надо бы, дедушка, смазать немного, туго ходит.
– Ладно, ничего теперь у меня нет, сойдет и так. Только гляди, не балуй.
Витек опоясался патронташем, патрон с картечью положил в карман, стал на лыжи и вышел со двора.
За углом дедова дома, как только пересечешь замерзший ручей и лужу, где летом гогочут, днюют и ночуют гуси, начинается лужок, теперь заснеженная полянка, пройдешь по ней мимо церкви и полуразрушенной школы, потом пересечешь небольшой выгон, и сразу попадешь в лес. Витек пошел именно этим путем, а не в сторону Незнайки, которая тоже лежала теперь подо льдом и под снегом. За мостом через Незнайку, чуть перевалив холм, можно выйти в соседнюю деревню, но Витеньке хотелось поскорей в лес, и он пошел мимо церкви.
Он шел, ерзая лыжами по глубокому рыхлому снегу, чувствовал за спиной ружье, то и дело поправлял его. Он и раньше бывал в зимнем лесу, но бывать приходилось или с ребятами, или совершенно одному, но теперь они были вдвоем, он и ружье. Это было новым, этого он еще никогда не испытывал. Кругом глухо стояли заснеженные сосны, мрачные елки, непролазное и тоже забитое снегом мелколесье вставало на пути, и никакой лыжни, никакого следа на лесной дороге. Ружье тяжелило за спиной, чувствительно давило ремнем в плечо, а в кармане лежал патрон с картечью.
Сперва его обступала и не оставляла ни на минуту глухая тишина, когда он останавливался и прислушивался. Ни писка, ни звука. Полная тишина. Потом дятла услышал, тревожную пулеметную дробь его, стал разглядывать вершины деревьев, поворачивал во все стороны голову, но птицу не отыскать в темной хвое с белыми пятнами снега. Потом, когда снова прошел и снова остановился, снял ружье, разрядил его, чтобы еще раз заглянуть. Приподнял к глазам и заглянул. Теперь стремительно улетающая глубина была безжалостно зеркальной. Долго вглядывался в один ствол, потом в другой, и это глядение в зеркальную бездну холодило душу и было почему-то приятным. Наглядевшись, снова вложил в оба ствола патроны, поставил на предохранитель, вскинул ружье за спину и пошел, пошел по лесной дороге. С востока в просветы между вершинами дерев невидимое солнце рассеивало свою золотистую пыль, слегка подкрашивая, обдавая румянцем густую синеву снегов. Витенька только в далеком детстве, когда был глупеньким, очень любил цветы, и снег, и речку, и деревья, и вообще все, кроме туч, которые мешали солнцу освещать землю, да и то, когда говорил об этом, больше умничал, чем не любил на самом деле, на самом деле он любил все. А потом, как-то незаметно это случилось, перестал любить. Он даже помнит, как однажды вечером вот на этой же Незнайке отец показывал ему закат. Закат горел в полнеба, и много было разных красок, и церковные березы были розовые, и галки с криком летали над этими березами, по этому закату, и церковь светилась в розовом свете. «Смотри, смотри, – говорил отец, – красиво, видишь?!» – «Да», – сказал он тогда отцу, коротко, отмахнувшись, потому что запускал в лужу кораблик. Но отмахнулся не потому, что занят был корабликом, это он хорошо помнит, а потому, что уже начинал не любить. А уж как стал умнеть, мыслить начал, размышлять, тут окончательно отвернулся от всяких закатов, цветов и так далее, потому, наверное, что все эти закаты, березы и вообще вся эта мура были слишком доступны, доступны самым примитивным людям. «Ну посмотри», – говорил отец, настаивал, чтобы он посмотрел, и он повернулся и посмотрел с кислой миной и отвернулся. «Я уже видел», – сказал он тогда отцу. И уже никогда больше ничем не любовался. В лес ходили с ребятами, ездили за город не из-за красоты, а чтобы побыть вместе у костра, похулиганить немного, повольничать без родителей и учителей. Только поэтому. Продвигаясь сейчас по выпавшему ночью, еще рыхлому и пушистому снегу, Витенька все это вспомнил и задумался над этим делом. Между прочим, подумал он, что, если бы Вовка вот тут шел с ружьем, как он сейчас, он бы не выстрелил в себя жаканом или вот этой картечью. Не смог бы выстрелить. Вовка у товарища был в квартире, и на нем были тапочки, и он легко скинул тапочек и пальцем ноги нажал на спуск, поставил так ружье, чтобы дулом было направлено в сердце и чтобы ногой можно было достать до спуска, нажал – и получилось. А тут в валенках, неудобно. Валенки не стал бы он снимать. А может, и снял бы. Скорее всего нет. Скорее всего он приладил бы веревочку, чтобы дернуть за нее, а если бы не было веревочки, приспособил бы ремень. Ремень можно приспособить. А если бы ему хорошо стало? От этого снега, сверкающего голубым и розовым, от этих высоких сосен, от этого запрятанного за верхушками солнца, весь день будет плавать низко над землей, по своему зимнему пути, но свет все равно пробивается оттуда, из-за лесных макушек, достает и чуть-чуть золотит все в этом лесу.
Отчего так хорошо ему? Отчего так приятно касается и то и дело напоминает о себе довольно чувствительно ружье за спиной? Вот отчего. Оно сделало Витеньку как-то нечаянно взрослым, то есть совершенно мужчиной, совершенно большим, не таким взрослым, как он о себе думал до этого, а по-настоящему взрослым. Оружие, патроны, и один даже с картечью, он может сделать все, что только захочет, может себя убить, если захочет, конечно, может и не убивать. Он может все, что может сделать с собой человек вообще, сейчас он не мальчик, он в самой последней степени взрослый. Вот что сделало с ним ружье. И походка на лыжах у него совершенно другая, спокойная, уверенная, неторопливая, взрослая. Он идет с ружьем!
Интересно, куда же это он идет? Куда и зачем? Ах, да, поохотиться. Как это поохотиться? Когда это пришло ему в голову? И что это такое, поохотиться? Подстрелить кого-нибудь? Но кого? Кого подстрелить? Теперь он заметил, что на снегу много всяких следов, то мелкая-мелкая строчка перечеркнет дорогу, то глубокие провальные следы в три ямки, три, три, три, пока не скроется след, как трезвучия. И кое-где между ними чуть видные отметины, ножками кто-то задевал во время прыжка. Волк? Лиса? Заяц? Какой он охотник? Ничего он не понимает в этом. Трезвучия. Их можно, между прочим, проиграть быстро, очень быстро и совсем медленно, анданте-кантабиле или ларго, или даже граве. Вот так: трам… трам… трам… Нет, это неестественно, что-то похоронное получается. Вот престиссимо – это другое дело. Трезвучия молниеносно перечеркнули дорогу, наискосок от него, и пропали в ельнике, но пропали, скрылись так быстро, что в глазах остался мгновенный блеск, искра, ослепительная молния, она тут же вонзилась в зеленую тьму ельника, взлетела вверх как бы рикошетом и там где-то тоненько и льдисто дзинькнула: дзи-инь! Витенька прислушался, опять дзинькнуло, только помягче, понежней, вот так: си-инь! Он догадывался, что это какая-нибудь примитивная пичужка, но он и этого не знал, какая именно. Си-инь! И снова: си-инь! Витенька вздохнул и пошел дальше. Перешел просеку, дорога сузилась, он шел теперь как будто по белому тоннелю, над ним дугами нависали молодые тонкие березы и осинки, покрытые снегом, а то и лапник свешивался, перекрывал над ним дорогу, и было действительно похоже на тоннель. И шорох от шагов, от лыж, тут был слышен, но в голосе то и дело повторялось: си-инь! си-инь! Толчками пробивался он все дальше и дальше в глубь леса по тоннелю и вдруг: си-инь! Остановился, послушал, даже дыхание затаил, но полная тишина, никого и ничего, ни звука. Пичужка осталась позади где-то. И вот он снова сделал шаг, другой, и опять в голове ясно и отчетливо: си-инь! Одна и та же нота. Что-то обязательно должно последовать за ней, но ничего не следует. Си-инь! И ничего больше, никакого продолжения. Как будто кто-то собирался что-то сказать, что-то высказать, вымолвить какими-то необыкновенными звуками, но возьмет одну эту ноту – си-инь! – и никак не может произнести вторую, не знает, что дальше, колеблется, не решается сказать дальше ни звука, вроде и знает, а сомневается, вроде и не знает. Си-инь! Это у него часто встречается. Только зачем же он с моста-то сиганул? Куда это он сиганул? В Рейн? В голубой Рейн. Си-инь! Си-инь! Ах, это в «Пестрых листках», в первом листке. Софроницкий хорошо слышал эту ноту, он извлекал ее, доставал из волшебного лесного тайника, заставлял ее звучать и прислушивался к ней и как будто не знал, что дальше, куда дальше поведет его великий музыкант. Синь! И прислушивался. А в вариациях на тему Клары Вик только и слышно одну эту загадочную ноту, она одна там. Клара Вик. Когда он вошел в дом, там начинался концерт. Все сидели и ждали выхода музыканта, и вышла восьмилетняя девочка, она склонила ангельскую головку и села за рояль, долго не могла умоститься, а потом заиграла. Божественная музыка. Потом эта девочка, Клара Вик, стала его женой. Уже в шестнадцать лет она была великой пианисткой. В вариациях на тему Клары Вик все та же одинокая нота блуждает. И опять: си-инь! си-инь! Она. В каждом случае другая, но всегда она. С нее начинаются и «Симфонические этюды».

Вот эта нота.

Как будто бы такая же, как и все, что рядом с ней, но она главная, это опять о н а. Только теперь в ней предчувствие большой скорби, будущей трагедии. Потом она станет низкой нотой, без конца и начала, день и ночь будет преследовать его, спустится до «ля» в нижнем регистре, она погонит его в зимнюю стужу в одном халате и туфлях, заставит сигануть с моста в зимний Рейн. А когда рыбаки приволокли его, спасенного, домой, он уже не узнавал своей Клары. А ведь все началось с нее, с той нежной таинственной ноты. Си-инь! Си-инь! Нет, это не Клара. Марианна не может быть Кларой.
Витенька снял двустволку, передвинул ползунок предохранителя и пошел дальше с ружьем наперевес. Зачем? Ни за чем, просто так. Вот перед ним открылась просторная поляна. Витенька остановился, огляделся, уже подумал повернуть назад, как вдруг заметил справа, на высохшем дереве, от которого остался обглоданный ветром скелет, увидел на обглоданном скелете птицу. Она сидела неподвижно, собранная в комок. Витенька вскинул ружье, прицелился, как учили в школьном тире, посадил этот живой комок на мушку и нажал спуск. Его оттолкнуло назад, оглушило немного, на мгновение глаза его зажмурились от выстрела, однако он успел увидеть, как живой комок сорвался с обглоданного дерева и рухнул в снег.
Когда он подошел, в воздухе еще перепархивало несколько легких пуховых перышек, а в снегу, углубившись, провалясь на четверть, лежала птица. Он поднял ее за ноги, упало несколько капель крови. Птица была мертвая, большая и пестрая, черное с белым и на самом затылке, вернее, по всей голове, перья были окрашены в чистый и густой, как кровь, красный цвет. Сначала Витенька так и подумал, что это кровь. Дома дед сказал, что это дятел. Убивать дятлов нельзя, потому что они санитары леса.
39
– Ну как Витек хоть? – спросила наконец Катерина. Она все приглядывалась, приглядывалась и не верила своим глазам. Витек сидел за столом какой-то ясный, открытый, глаза открытые, смотрят на отца, на нее, на деда с бабкой открыто, хорошо, как раньше, как давно-давно, и голос хороший, чистый, не прячется ни от кого. «Как хочешь, дедушка», – деду говорит. «Я сейчас сам, бабушка», – бабке говорит. Встает, приносит. Сидели за новогодним столом, старый год пока провожали. Навезли из Москвы, из буфета Катиного, было чем проводить старый и Новый встретить. «Налить, что ль, ему? – дед спрашивает, бутылку красного вина держит в руках. – Налить, Витек?» – «Как хочешь, дедушка». – «Я-то хочу, а ты сам как?» – «Как папа скажет или мама». – «Да что ж, папа или мама, не люди, что ль? Налей, конечно», – мать говорит, и отец кивает, наливай мол.
– Ну как хоть у вас тут?
– А что? – отвечает дед. – Что ему у нас? У нас ему хорошо. Мы с ним тут дружно живем.
Катерина прикусила губу, плакать захотелось.
– Ну давай, сыночек, за старый год, – говорит она, переборов подступившую слезу. Протянула рюмку, чтобы чокнуться с Витенькой. – Давай, сынок, раз уж хорошо тут у вас.
– А чего ему с дедом плохо будет? – хвастался дед. – Парень он уважительный, дельный, на охоту ходил тут, дичину принес, убил все-таки…
У Катерины глаза вспыхнули.
– На какую охоту? С кем ходил?
– На обыкновенную, в лес, один ходил. Я вот и ружье подарил ему.
– Какое ружье? Да вы что, на самом деле? Отец, чего ж ты молчишь?!
– Зачем же, отец, ружье? – вмешался наконец Борис Михайлович.
– Ну, просит, дай, говорит, ружье, дедушка, жакан просил…
– Жакан? – воскликнула Катерина. – Как же можно? Жакан…
– Да нету у меня жакана, картечью зарядил ему.
– Картечью, о господи.
– Мам, ну что ты запричитала? Что я, маленький?
– Обращаться с оружием может, – сказал дед. – Почему не дать? Правда, кого убил, не скажу, – подморгнул Витеньке дед, – не буду говорить, это бывает по незнанию.
Катерина никак не могла успокоиться, возбудилась, в голове все этот Вовка стоял, но вслух не могла она говорить о Вовке, и Борис Михайлович о Вовке подумал, но Витенька сидит целый, нормальный, значит, ничего опасного, чего тут паниковать. Не все же, как Вовка?
– Ну, ладно, мать, чего паникуешь? Ты же видишь, вот он, твой Витек, ничего с ним не случилось.
– А чего может случиться? – удивлялся дед. – С ружьем обходиться умеет, почистил чин чином, патронташем опоясался, на лыжи стал и пошел себе, дотемна в лесу проходил. Что ж тут такого?
– Я дятла убил, – признался Витек и хорошо так засмущался. – Я не знал, что нельзя убивать дятлов.
– Дятла? – почему-то обрадовалась Катерина. – Какого дятла?
– Большого дятла, настоящего, – ответил дед.
Катерина засуетилась над столом, заприглашала, запредлагала, все еду свою, московскую, предлагала. «Вот икорка, мама, рыбку берите, давайте, а то никто не ест, – начала предлагать, переставлять тарелки без надобности. – Берите, мама, папа, Витенька, ты тоже не закусываешь». Баба Оля принесла горячую картошку, тоже поставила на середку, раздвинула посуду, устроила свою картошку горячую. Давайте вот картошечку, горяченькую, такой в Москве нету. Хорошо было за новогодним столом. Слава богу, все хорошо. И Катерина, и Борис Михайлович теперь уж окончательно убедились, что с Витенькой что-то произошло, в хорошую сторону повернулось. Мир наступил в их душах. А ехали, прямо на крыльях летели, на гвоздях сидели, тревога не оставляла их дома. И вот все хорошо, да так, что и придумать лучше нельзя. Хорошо, когда мир в душе.
– Сколько там времени? – спросила Катерина, ей стало весело. – Сколько, отец? Может, еще разик проводим старый год? Все-таки он не совсем плохой был, давайте.
Наполнили рюмки.
– Я потом выпью, – сказал Витек, – за Новый год, мне хватит.
– Молодец, – одобрил сына Борис Михайлович, – норму свою надо знать.
– Вот бы всегда так, – не удержалась, сказала Катерина и тем самым как бы признала, что всегда у них с Витенькой плохо. Но сейчас-то действительно было хорошо и хотелось разговаривать, с ним говорить и о нем, как давно-давно когда-то. – У нас Витенька такой, – разговорилась Катерина, – он если чего захочет, то уж сделает, он ведь у нас все может, швейную машинку мне починил, в мастерскую не брали, а он взял и починил. Вот нынче кончит школу, в институт пойдет.
– В институт? – спросил дед. – Дело хорошее.
– Я не пойду в институт, – сказал Витек, почему-то улыбаясь.
– Ну и в институтах не всем учиться, – сразу согласилась Катерина, – с головой и так не пропадет, а голова у него, слава богу, каждому б такую.
– Это верно, – сказал дед, посмурнел немного. – Не всем, конечно. А почему же ты не пойдешь, Витек?
– Мне, дедушка, перерыв надо сделать, выяснить кое-что надо.
– «Кое-что», – повторил с удовольствием дед. Ему понравилось это «кое-что». С запасом, значит, растет, микитит, не сразу все выкладывает. – А что же ты, внучек, выяснить хочешь, что тебе непонятно?
– Да много чего, дедушка, разное.
И это понравилось деду. Ну что же, интересно.
– Ты слышишь, Борис? Слышишь, отец, как сын твой разговаривает? – говорил и радовался при этом дед. – Тебе-то небось нечего было выяснять, пошел в город, стал к станку – и все выяснение. С головой Витек, молодец. Но все же?
– У нас, дедушка, в классе один учится, он ни во что не верит, кончу, говорит, школу, найду местечко себе потише, чтобы никто ко мне и я ни к кому, и буду, говорит, тихо вкалывать для собственного удовольствия.
– Да он просто дурак, – перебил Витеньку отец.
– Не просто дурак, – возразил дед. – Там, значит, семья такая, в семье дело.
– Он нищий духом, – сказал Витенька. – Это все так. Но почему он ни во что не верит? Нет, не потому, что дурак. Тут он не один. Есть, что с ним согласны, есть, которым все равно, они не то что не верят, а ко всему равнодушны, все эти заботы, о которых кричат по радио, в газетах пишут, их не трогают абсолютно. Есть и приспособленцы, все делают, что надо, но про себя не верят в то, что делают. А вот ты, дедушка, ты воевал, ногу оставил на войне, во что ты веришь?
– А ты отца спрашивал? – сманеврировал дед, но не потому, что не хотел ответить, а потому, что интересно было, хотелось остановиться на этом, поговорить. Вот тебе и внучек. Приосанился дед, задело его.
– Про отца я знаю, – ответил Витек. – Он верующий.
Борис Михайлович улыбнулся:
– В верующие меня записал.
– А ведь он т а м копает, там, Боря, – оживлялся все больше дед.
– Об этом мы говорили с ним, а вот институт – это для меня и для матери новость. Согласен, не все должны, по почему ты вместе с не всеми, в детском садике бабушкой хочешь работать? – Борис Михайлович вспомнил разговор с учительницей про детский садик, вспомнил, где Витеньку так любят. Неужели это на правду похоже?
– Во-первых, папа, любой труд надо уважать…
– Поддел, молодец, Витек, учи отца, учи, – перебил дед, подзадоривая внука.
– В детском садике ничего плохого нет, – дальше сказал Витек, – но это, конечно, мне не подходит. Мне нужно проверить все.
– Что все?
– Этого парня проверить, и вообще.
– И где же ты собираешься проверять? – допытывался отец.
– Пока не знаю. Надо думать. Конечно, не в институте.
– Зачем же вас учили десять лет? Ничему не научили? Если так, иди дальше, в институт иди, раз не ясно тебе.
– Одной теории мне недостаточно…
Дед притих, навострил ухо, Катерина и баба Оля потихоньку стали терять интерес к разговору, стали перешептываться, пропускать отдельные места.
– Это какой же теории? – вполне серьезно забеспокоился Борис Михайлович.
– Теории, основанной на насилии.
– Вот так ты и с учителем спорил? На обществоведении?
– Так.
– И за это он ставил пятерки?
– За это.
– И до сих пор стоишь, значит, на своем?
– В каком-то смысле.
– Вот видишь, отец, – обратился Борис Михайлович к деду, – со мной-то тебе легко было, ты вот с ними попробуй поговори.
– Ну, ну, копай, внучек, копай, – не терпелось деду, – давай дальше, дальше.
Однако заговорил снова отец, Борис Михайлович.
– Значит, – сказал он, – тебе насилие не подходит? Значит, ты согласен жить под царем, под татарами, под фашистами? Без силы их ведь не сгонишь с места?
– Ты говоришь о случаях частных, а я говорю о принципе. Насилие рождает только насилие. Откуда все началось, непросто вывести. Ты из середины берешь.
– Лельки тут нет, она бы тебе сказала, ты меня тут запутаешь. Только в одном меня не запутаешь: на земном шаре нету другой дороги для людей, кроме нашей дороги, ты плохо газеты читаешь, а то бы и сам понял, что это так… «Весь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…» – так говорится в нашем «Интернационале». Мы насилье разрушим. А ты говоришь, мы стоим на насилье. Нет, тут Лелька нужна, она бы тебе доказала. Вот интересно, Витек! Почему, раз ты такой ученый, почему Лелька, сестренка твоя, вписывается, а ты не вписываешься?
– Куда?
– Как куда? В нашу систему жизни.
– Это вопрос сложный. Просто у Лельки ума не хватает.
– А у тебя хватает.
– У меня тоже не хватает, но не так, а по-другому.
– Нет, она дочь рабочего и внучка крестьянина. Да ведь и ты тоже!
– А ты, папа, отец интеллигента, и тебе тоже не мешает побольше думать и хоть немножко читать, кроме своих газет.
– Ладно, надумал проверять нас, проверяй, мы этого не боимся. Только береги голову, не сломай.
Катерина отвлеклась от перешептывания с бабой Олей.
– Ну что вы на самом деле, – притворно возмутилась она, – завели волынку? Витек, что ты связался с отцом, он же неученый у нас, не запутывай его, ради бога.
– Нет, нет, внучек, копай, копай! Там копаешь, ты у меня до воды обязательно дойдешь. Может, мы не дошли, а ты дойдешь обязательно, – дед заговорил. – Вот я тебе отвечу, зачем я ногу на войне оставил, я же тебе не ответил еще. Сам пошел, по своей охоте, и вот отец твой по своей охоте, хотя и призывались, конечно. А не пустил б, все одно пошел. Почему? А потому что под фашистом не хотел жить.
– Ваша правда, дедушка, легче была, – сказал Витек. – Наша трудная. Ты кто: красный или белый? Красный. Значит, ложись за пулемет, стреляй по белым. Пришел немец. Не хочешь под немцем, ложись, стреляй.
Думали, когда садились за стол, не рано ли, до Нового года вон сколько времени, ждать до двенадцати долго. А тут глянули, за спором-разговором, а уж и двенадцатый подобрался, ударит сейчас.
– А ну-ка, отец, открывай шампанское!
Заскрипела старая пружина, и ударил первый удар двенадцатого часа, последнего часа старого года, земля поворачивалась к новому.
– Ну?! – подняла тонкий стакан с шампанским Катерина. – Ну?!
Глаза ее сияли от счастья.
40
Витеньке было хорошо в деревне. Мысль о возвращении в Москву, когда она приходила в голову, в первые дни казалась даже страшной. И вот прошли новогодние праздники, родители собрались домой, и Витенька подумал, что они уедут, а он останется, им надо, а ему еще рано, и было приятно, что еще рано, что не надо ему ехать в эту Москву. Он пошел провожать родителей до автобусной остановки, до шоссейной дороги. Уже вечерело, снега справа и слева от проселка до самого леса лежали густо-синие. Солнце еще пряталось где-то за лесными кряжами, но где именно, нельзя было понять в точности, потому что понизу стлались плотные неподвижные тучи. Морозило хорошо, снег под ногами скрипел сильно и приятно. Мать отставала то и дело, тяжело было ей идти, да и отец пыхтел в теплом своем пальто с барашковым воротником, Витеньке это пальто казалось непомерно тяжелым, он нес сумки и все время останавливался, поджидая родителей, какое-то время шел в ногу, вместе с ними. Разговаривали? Да. Почти всю дорогу разговаривали, но ничего интересного в их разговоре не было, так, всякая мелочь, необязательные слова. Правда, в одном месте, когда Витек подождал родителей и они поравнялись с ним, Борис Михайлович то ли вспомнил разговор за новогодним столом, то ли вообще хотел закрепить отношения, возникшие тогда, за тем столом, словом, ни с того как бы и ни с сего спросил Витеньку:
– Вот скажи ты мне, Витек, ты постой немного, дай мать отдохнет пока, вот скажи мне. Встаешь ты утром, ну, хоть завтра утром, а я назначаю тебя президентом, а если хочешь королем, премьером, кем хочешь, вот назначаю, скажи мне: что ты начнешь делать? Что сделаешь, ну то, чего тебе не хватает сейчас или с чем ты не хочешь считаться, что неправильно, по-твоему, и так далее. Давай, полная тебе власть! Давай! Вот о чем я забыл у тебя спросить.
Витек улыбнулся.
– Если бы я знал, – сказал Витек.
– Значит, не знаешь?
– Не знаю.
– Тогда давай вписывайся. Учись хорошо, в институт поступай, отца-мать слушайся и так далее.
– Ладно, папа, ты не волнуйся, я буду все делать, что надо и как положено, даже лучше, ты не беспокойся.
Катерина слушала и улыбалась.
– А что, Витек, если бы ты действительно стал у нас первым руководителем в государстве? А?
– Я бы, – сказал Витек, – вернул бы отцу пыжиковую шапку, чтобы он вернул ее Лельке, чтобы она вернула ее туда, где взяла, а к тебе, мама, послал бы ревизию, непьющую.
Борис Михайлович хмыкнул, а Катерина посумрачнела.
– Нет, – сказала она, – не будешь ты, сынок, хорошим сыном. Ладно, пошли.
Борис Михайлович, перед тем как тронуться с места, сказал невесело:
– Значит, ты нас с матерью и Лельку в том числе считаешь жуликами.
– Ничего я не считаю. Вы как все.
– Хорошо, что не хуже всех, – сказала Катерина.
И они пошли, растянувшись в цепочку.
И когда подошел автобус, и когда сели мать с отцом, и когда автобус, фырча и набирая обороты, отошел, Витеньке было хорошо, что он остался, а они уехали. Но когда автобус скрылся за выпуклостью шоссе, а Витек повернулся в сторону проселочной дороги, в сторону деревни, чтобы идти назад, вдруг показалось бессмысленным и невыносимым идти через этот взгорок, возвращаться к дедушке и бабушке, в сиротливую эту деревню, зажатую зимними лесами, засыпанную снегом, отгороженную от всего мира. Небо стояло низкое, набрякшее мертвыми тучами, в отеках и красноватых ссадинах. Он даже не поверил в такую быструю перемену в настроении, но это было так. Он ускорил шаги, разогрелся на ходу, отвлекся немного ходьбой, а войдя в дом и не ответив на бабушкины вопросы, проводил ли он отца с матерью, сказал:
– Бабушка, я тоже поеду.
– Когда поедешь?
– Сейчас.
– Что это надумал, внук? – спросил дед. – Не мать ли приказала?
– Да нет, дедушка, я просто вспомнил, что мне срочно надо по делу. Забыл, а по дороге вспомнил.
– Вспомнил – поезжай. Ружье, Витек, я подарил тебе, так что твое оно, хочешь – забирай, хочешь – оставляй тут. Хотя что же, брать нельзя, ты не имеешь права на ружье, только членам общества можно. Пускай висит.
– А ты, дедушка, член общества?
– Выбыл, перестал платить.
– Значит, и ты не имеешь права?
– Не имею. Теперь уже не имею.
– Ну, ладно, я пошел, до свидания, дедушка, до свидания, бабушка.
Витек бросил в рюкзак книжки свои, попрощался за руки с дедом и бабой Олей и вышел, почти выскочил из дома, спрыгнул со ступеньки порога, хлопнул калиточкой, без оглядки сразу перешел на рысь, как застоявшийся молодой иноходец.
Конечно же, он помнил. Все эти дни. То и дело вспоминал. Но когда вспоминалась Марианна, обязательно тут же рядом вставала Эмилия. Эмилия постепенно изменялась при воспоминании. Сейчас Витенька опять думал о них, перебирал их в подробностях, и сегодня Эмилия уже не казалась ему омерзительной. Он знал, что она гадость, но это он знал, тогда так чувствовал, тем утром, а теперь, хотя и знал, по не чувствовал так, чувствовал, что ему хочется к ней, просто очень хочется. С Марианной ему хотелось точно так же, как с этой Эмилией, но с Марианной вот что. Если она сама подойдет и скажет, тогда он постарается забыть этого Вадима и вообще все плохое. Он думал о них и не заметил, как добежал, как подошел автобус. Он и в автобусе думал о них. Тут поспокойней было, отвлекали пассажиры, движение, думалось медленнее, спокойнее. Между прочим, вдруг вспомнил: зачем же он бежал, собственно, из Москвы? Почему так рвался в деревню? Почему? Только тут явилась в его памяти женщина, похожая на бабу Олю. Как же он совершенно забыл о ней? И когда вспомнил эту женщину, убиравшуюся в квартире Эмилии и называвшую Эмилию Емилкой, тогда вспомнил и то, зачем бежал в деревню. Ведь он бежал в деревню, чтобы там, в лесу где-нибудь, в глухом месте, хорошо, если бы ружье у деда нашлось бы, чтобы один на один, в полном одиночестве решить: надо ли продолжать эту грязную волынку или как Вовка… Вот зачем. Нет, значит, он другой, значит, он должен жить, он хочет к Эмилии и поедет к ней, может быть, даже сегодня. И вообще это «быть или не быть» надо выбросить из головы раз и навсегда, он другой породы, не Вовкиной. Думать надо о другом. Думать надо о смысле, о назначении. Не искать, есть смысл или нет смысла, а искать, в чем он. Когда он сошел на своей остановке, все в нем как-то успело определиться, и он с удовольствием чувствовал вокруг себя каменные громады домов, каменные проезды, каменные арки, с удовольствием шел в окружении строгих каменных линий, обрадовался городской луне, выползшей из тучи за каменным углом, а когда поднялся от проспекта на свою широкую, но коротенькую улицу, похожую на сквер, перед ним открылось оконтуренное мягкими огнями небесное сооружение университета. Все-таки нет, все-таки он городской человек. Человек большого города. Тут его родина, тут все, в том числе и смысл и назначение. Тут надо искать.
– Здравствуйте, я ваша тетя, – растянула с радостной улыбкой Катерина, открывшая дверь на Витенькин звонок. – Нагостился? Не поссорился?
– Нет, мама, домой захотелось. Мне никто не звонил?
– Звонят какие-то. – Голосом мать намекала на что-то, но сказать об этом не нашлась как. Повела кормить его. Отец тоже вышел на кухню, присел с сигаретой. Не морщился Витек, не отмалчивался, разговаривал нормально, только спешил отчего-то, ел быстро, запивал быстро молоком, руки быстро ходили, спешил куда-то.
– Куда спешишь? – спросила Катерина.
– Никуда не спешу, просто проголодался.
Борис Михайлович молча наблюдал за сыном, как он ел, разговаривал с матерью. Вроде налаживалось что-то. Было похоже, как будто бы Витек их возвращался к ним откуда-то, из какого-то долгого отсутствия.
Витек на самом деле торопился. Точно еще не знал куда, но торопился. Не знал, потому что не мог решить, кому звонить первой, Марианне или Эмилии. Зимний вечер был давно уже темен, как ночь, но времени было еще немного.
– Звонила Марианна и еще какая-то, – сказала Катерина, и Витенька пошел звонить Марианне, но позвонил Эмилии.
– А-а, – протянул ангельский голосок в трубке и тут же заговорил Феликс.
– Наконец-то, – сказал Феликс. – Мы о тебе целый час говорили, звонили, но теперь, к сожалению, хотя, какого черта, ты приезжай немедленно, Эмилию провожаем, завтра она улетает. Проводим, и все, давай.
Выпросив рублевку, Витек стал одеваться. Куда и зачем, как всегда, осталось без ответа, хотя сегодня Витек отступился немного и на повторный вопрос все же ответил:
– Ну, по делу нужно, провожаем товарища, за границу улетает.
– Ты хоть не выпивай там, сынок, – попросила Катерина.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)