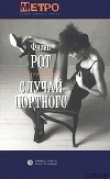Текст книги "Витенька"
Автор книги: Василий Росляков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
А Витек с Вовкой возились под разукрашенной елкой.
Первую ночь, после того как сожгли Вовку, Катерина осталась ночевать у Натальи. Нарыдались обе, наплакались. На другой день Борис Михайлович с Катериной, не заходя домой, прямо с работы опять пришли к Наталье. Разделись, стали ужин готовить. Наталью заставили затеять блины, Катерина взялась картошку чистить, Бориса Михайловича за чем-то в магазин послали. Лишь бы не сидеть сложа руки, не надрывать душу, а как-нибудь отойти от Вовки, от того, что нет его больше у Натальи, уже никогда он не придет больше ни из школы и ни с улицы, ни от товарища какого, ниоткуда больше не придет он. Нельзя сидеть на одном месте, ничего не делать, стали над ужином хлопотать. А потом стали ужинать. Долго сидели, разговаривали потихонечку, отвлекали Наталью. Прежние годы вспоминали, даже Вовку маленького вспомнили, приучались вспоминать Вовку, ведь о нем теперь всю жизнь Наталья будет только вспоминать. И вот начали потихонечку. Новый год вспоминали, как сидели тогда, как ребята, Вовка и Витек, на машинах деда-мороза возили под елкой, а потом стишки читали. Борис Михайлович басом вспомнил: «Заступитесь за меня, раздавите муравья». И Наталья, хотя глаза были наплаканные, первый раз раздвинула губы, улыбнулась немножечко. Значит, скоро жить будет, спаслась Наталья, первый раз немножечко улыбнулась. И уже поспокойней сама стала говорить, дневник принесла, положила на стол, вслух сама не могла еще, но слушала, как читали Катерина, Борис Михайлович. Умный какой парень, а так поглядишь – и не подумаешь, что у него в голове было. Борис Михайлович прочитал:
– «Наконец-то я задал себе вопрос: есть ли смысл жить и стоит ли? Получилось, что нет. И вот интересно, ничуть не страшно. Совершенно не страшно. Так в чем же дело? За чем остановка?» Все. Больше ничего нет.
– Наталья, – сказала Катерина. – Ты спрячь пока этот дневник, пусть пока полежит один.
Наталья вздохнула. Нет, не будет она прятать. С чем же она жить тогда будет, если спрячет?
– Нет, я теперь всегда с ним буду, – сказала Наталья.
А Борис Михайлович вроде успокоил, сказал:
– Теперь время такое. Вот мы, я, например, мог ли я задавать себе такие вопросы? Да когда было-то? Когда задавать? Надо было пробиваться в люди, кусок хлеба зарабатывать, да и вообще все тогда вперед смотрели, такие вопросы и в голову не приходили. А теперь все у них есть…
– Боря, – взмолилась Наталья, – ну мне-то легче от этого?
– А правда что, – поддержала Наталью Катерина.
Но Борис Михайлович говорил для того, чтобы увести от мысли, что Наталья вроде виновата, что она вроде проглядела Вовку, не дай бог, чтобы не думала так и чтобы знала, что и никто так не думает. Поэтому он и дальше стал развивать свою мысль:
– Вот посылали нас с завода на выставку, устроили эти стиляги самоволку, навезли картин своих, железок всяких, радиаторов, вроде скульптура, по-ихнему, смех один, а люди смотрят. Послали нас повлиять. «Мало вам Третьяковки?» Это я говорю одному бородатому. Есть, правда, нарисовано хорошо, портреты и так вообще, но этого мало, больше все мазня какая-то, ничего не поймешь, то узоры, то решетки, то вообще не разберешь. Радуги какие-то, кляксы. А то еще в нише висит пальто, обыкновенное пальто, сильно поношенное, зимнее, видать, на вате, но без воротника, висит передом к публике, серое, и кашне длинное висит, вроде на нем надето, кашне малиновое, тоже сильно полиняло уже и потерлось. Ну, что это? Остановились мы с нашим, заводским. Что это? Глядим, подпись под этим пальто, вроде как под картиной, фамилия этого горе-художника и название картины, то есть пальто. Не помню, как называется. Ну что это? Я спрашиваю, а наш заводской говорит: «Смотри, говорит, рукав-то в карман засунут, правый; значит, говорит, правой руки нету у него, наш брат, фронтовик. А из другого кармана бутылка с кефиром выглядывает. Из магазина, что ли, шел? Бутылку кефира нес, одну бутылку. Один, что ли, живет? Наверно, один, попалась какая-нибудь дура, бросила безрукого, главное, ведь правой руки нету». – «Наверно, не так уж сладко живется бедолаге», – это я говорю. А наш заводской говорит: «Да уж наверно, не икрой-колбасой питается, а вот кефир несет». Так мы расстроились, что хоть беги, ищи его, наш же брат, фронтовик. Вот понавешали! Выставка называется. Но это не все. В самом начале на полу сидят трое, девка и двое парней, сидят в гнезде, как грачи делают, из палок, веточек, но большое гнездо, на трех человек. Сидят. А написано так: «Высиживайте яйца!» И еще: «Тише, идет эксперимент!» До чего додумались, мазурики. Парень крикнул кого-то, чтобы подменили его, чтобы посидел кто-нибудь, а ему выйти, что ли, надо было, в туалет, наверно, встал он, а под ним действительно яйца лежат. Ну что ты скажешь? Как тут влиять? А потом еще попадались сидячие. Этих штук шесть было. Сперва подумал я, одни девочки, потому что волосы аж на спину спускаются, вроде косы расплели. Нет, гляжу, девок всего две только, остальные ребята, чуть, может, Витька нашего постарше, но сильно немытые, джинсы на всех латаные, свитерочки грязненькие, на шее у кого рубашка перекинута и под подбородком узлом завязана, одна зашивает что-то, вроде заплату ставит на чем-то. Эти хиппами называются, хиппи, по телевизору показывали. Но там понятно, в тех странах, там действительно кто во что горазд, там даже в президентов стреляют, но у нас зачем? Делать им нечего, какие у нас могут быть хиппи? А вот сидят. И похожи на тех, что в телевизоре показывали. Сидят и ничего не делают, даже яйца не высиживают. А ведь у каждого мать-отец, дома ждут, наверное, может, и не знают, где они, субчики, и что делают. Тоже, небось по делу, мол, пошел. А сам пошел вот сел и сидит. Хиппи. Правда, тут я не стерпел уже. «Чего, говорю, расселись, чего сидите тут?» – «А мы, – говорит один волосатик, – не сидим, мы выражаем». – «Что же вы выражаете?» – «А вот, говорит, смотрите и думайте, если не понимаете, мы помочь вам ничем не можем». И говорит вежливо, не так чтобы свысока, а вежливо, глазами смотрит снизу вверх, а глаза умные, как у собаки. Просто жалко ребят. В глазах жалобное что-то. А сидят. Кто их заставляет? Никто, конечно. Да, а написано над ними: «Да здравствует свобода!» При чем тут свобода? Ну чьи они дети? Чьи? Ведь родители есть же, работают, конечно, не сидят же где-нибудь. Точно не сидят, а работают, наши ведь, советские люди, а дети ихние не то чтобы комсомольцы там, а вот хиппи. Откуда? Все у них есть, дома все есть, ведь жрать-то домой пойдут с этого сидения, ведь едят же они что-нибудь, конечно. А дома все есть, в холодильнике, не надо добывать самому, как мы добывали, вот и давай яйца выводить курам на смех, хипничать и так далее. Вот время какое. А на заводе, у нас хоть возьми, людей не хватает, на стройках тем более народу не хватает, а они сидят. А с другой стороны, жалко их, ребята, девчонки наши ведь, не чужие. Хорошо, хоть Вовка и Витек в эти хипписты не попали, а могли бы и попасть, тоже сидели бы.
Господи, что хорошего?! О чем он говорит? Вовки-то уже нет, сожгли в крематории, через неделю пепел выдадут, опять рыдать будет Наталья. Разговорился.
А Витек все играл. После своей первой ночи лег он перед рассветом, проспал допоздна, а как встал, сразу к пианино. Моцарта открыл, стал листать с каким-то нетерпением, как будто опаздывал куда или как будто у него собирался кто отнимать этого Моцарта. Полистал, стал пробовать. Конечно, не получалось. Но Витек начал добиваться, пробиваться начал к нему, сидел уже несколько часов, уже Евдокия Яковлевна робко открывала дверь, завтракать звала или хотя бы умыться, ничего не могла понять, что это случилось такое с Витенькой. Утром, когда уходили на работу Борис Михайлович с Катериной, она с испугом рассказывала им, что у Витеньки всю ночь свет горел и сам он на балкон выходил, стоял там, как бы не вышло чего. Выследила старая, она давно уже всего бояться стала, ночью дверь проверяет, замок защелкивает, и свет в Витенькиной комнате напугал ее, а зайти тоже боялась, теперь рассказывала. Катерина тут же побежала к Витьку, но он спал сладко, и она ругнула про себя старую мать, успокоилась. Ушли они. А Витек, как проснулся, как сел, так и сидел все, играл. В школу не пошел, даже и не подумал пойти. Скажет что-нибудь, отговорится. Сперва Моцарта терзал, потом начал копать всю стопку нот, раскидал и все пробивался в уже забытое. Поскольку родители после работы сразу к Наталье ушли, не было их, Витек так и не поднимался, сидел. Перед вечером уже все-таки сбегал на кухню, похватал что-то на ходу – и опять к пианино. Сразу, приступом, не мог он взять этого Моцарта, вернулся к своим детским пьесам, к легкому, потом начал гаммы гонять, дотемна гонял гаммы, понял, что приступом не взять, перестроился, завел себя надолго, решил постепенно, каждый день, чтобы уж наверняка пробиться туда. Куда? Зачем пробиваться? Почему он завел себя на длительное упорство, на это упрямство? Подспудно, почти бессознательно он пробивался к жизни.
Подсознательно понимал, что за что-то ухватился, что выведет его это что-то к смыслу. И он как чокнутый начал гонять гаммы, почти что истязал себя этими гаммами, до того истязал, что в конце концов ему вдруг захотелось – раньше бы сам не поверил – захотелось курить, затянуться дымом. Пробовал когда-то в школьном туалете, не понравилось ему, стошнило от сигареты, решил, что не будет курить. Он, правда, и раньше еще решил, давно, когда написал стих свой о космонавтах, «Летают в небе три бога́», тогда решил, что станет космонавтом и поэтому не будет курить, курящих ведь не берут, так отец говорил, и он не стал, хотя ребятишки баловались и Вовка баловался, а Феликс вообще курит открыто. И вот захотелось, потянуло. В отцовской комнате порылся и без труда нашел сигарету, вышел на балкон, закурил, начал затягиваться по-настоящему, даже голова закружилась, ноги ослабли, выбросил окурок во двор и вернулся в комнату, прилег, полежал немного, потому что не мог ни стоять, ни даже сидеть, ослаб весь. И опять сел играть. Потом свет зажег и при свете играл: гаммы, арпеджио, пьески, опять гаммы и арпеджио, пробивался к жизни.
32
Отец и мать пришли поздно. Разделись и сразу к Витеньке. Он лежал пластом, уронив ноги на пол, лежал как-то поперек тахты, и руки по обе стороны лежали, как плети. Катерина присела, ладонью потрогала Витенькин лоб. Ни с места не стронулся, не шевельнулся.
– Заболел?
Вместо ответа Витек встал еле-еле, медленно, с усилием.
– Что с тобой? – мать спросила.
Витек пожал плечом. Глаза отсутствующие. Борис Михайлович, как только вошел, тут же заметил беспорядок на пианино, ноты разбросаны. Подошел, собрал кое-как.
– Кто это? – спросил он.
– Ну я, я, – сказал Витек. Вроде отбивался от приставаний.
– Зачем раскидал? – опять Борис Михайлович спросил с тайным предчувствием, со своей догадкой.
– Ну играл я.
И тут Катерина услышала запах табака.
– А ну-ка дыхни, – наклонилась над Витенькой. – Отец, да он курил тут. Курил?
Витек перевел отсутствующие глаза со стены на пол, на коврик под ногами, сказал равнодушно, вполголоса:
– Курил.
Катерина всплеснула руками. Тихо отворилась дверь, вошла Евдокия Яковлевна.
– В школу он не ходил, – сказала она. – Вас нету дома, а меня он слушать не желает.
– Ты иди, мама, – устало отмахнулась Катерина.
– Я уйду, уйду, – обиделась та. – Мне уже и слева нельзя сказать.
У Бориса Михайловича сложно было на душе. Во-первых, Витек играл, первый раз за столько лет. Девочки? Так говорила Елизавета Александровна. Нет, не они. Они уже давно названивают. Вовка? А почему в школу не пошел? Почему курил? Как бы тут дров не наломать, осторожней надо. И он осторожно спросил:
– Витек, а что ты ночью делал? Почему не спал ночью? Бабушка говорит, что не спал всю ночь.
– Ну что вы пристали все? – чуть ли не взвизгнул Витек. – Не спал, курил, повеситься хотел. Что вам надо от меня?
Катерина заплакала, засморкалась. Отец ожесточился.
– Оставь его, мать, пошли отсюда, – сказал он и повернулся к выходу, вышел.
Мать сидела, хлюпала, вызывала в Витеньке жалость. Может, и вызвала, но он повалился снова поперек тахты и стал смотреть в потолок, про мать вроде совсем забыл, есть она, нет – ему все равно. Катерина поплакала, посморкалась в платок и тихонько вышла, совершенно разбитая, в одну минуту заболевшая. Там, у Натальи, действительно горе, и ничего, посидели, погоревали, а вчера даже наревелась с Натальей, и ничего, а тут в одну минуту сердце заболело, вот-вот приступ начнется. Из-за чего? Просто из-за того, что такой вот сын растет.
Еще ночью Витек вспоминал родителей и жалел их, жалко ему стало, и раньше бывало жалко, но, как только появлялись они перед глазами, начинали лезть, выпытывать, приставать, в душу начинали лезть, становилось невыносимо, становились невыносимыми, и никакой жалости к ним не оставалось, хотелось скрыться, сбежать куда-нибудь от их приставаний. Даже когда они ничего не говорили, а только смотрели на него, придут, увидят его и в глаза начнут молча заглядывать, вроде тоже спрашивают, опять в душу лезут, от одного этого тошно становилось. Они, конечно, видят, понимают все, мать молча переживать начнет, отец грубить, срываться, начнет шпынять по мелочам, права свои показывать, и хоть беги куда-нибудь с глаз.
Ночи стали лучшим временем Витька. Он приохотился к ним, перестал спать, на балкон стал выходить по ночам, там думать над пропастью черного колодца. И стал стихи сочинять. В одну из таких ночей и в дневничке написал насчет этого, что тяжко жить нелюбимым у нелюбимых родителей. Он сильно стал уходить в себя, все глубже закапывался, отгораживался, бросил оркестрик свой, который, правда, уже распадался сам по себе, Феликс налег на занятия – ему предстояли выпускные экзамены, другие ребята готовились в армию, подходило время. Потух навсегда Витенькин паяльник, последний раз мать убрала его со стола, с полу, вокруг наковаленки все его диоды-триоды, весь этот радиомусор, который разрастался каждый раз снова после очередной уборки, но после последней уборки уже ничего не появилось: все осело в ящиках стола, раскассирован был по частям, а потом и вовсе исчез последний Витенькин магнитофон. Все это было забыто. Одна только голая наковаленка на сосновом комле тыкалась в глаза без всякого дела. Витек ушел в музыку, пианино стонало под его руками сперва в отсутствие родителей, а потом и в их присутствии, Катерина уже стала умолять Витька отдохнуть от музыки, дать ей отдохнуть, или она с ума сойдет, через стенку достает, голова раскалывается. Ушел в писание дневника, в сочинение стихов, в самого себя. Все вокруг него потускнело и окончательно потеряло всякий смысл. Он отчетливо понял вдруг, что никого не любит, трудно переносит людей, его стали раздражать культурные собаки, которых выгуливали в их дворе владельцы фокстерьеров, овчарок, мопсов, спаниелей и других отвратительных тварей. «Собаки должны жить собачьей жизнью», – сказал он одной своей однокласснице, которая гуляла с маленькой черненькой собачонкой без хвоста, с обнаженным коричневым задом и выпуклыми идиотическими глазами, тоже в коричневых кружочках. Когда его посылали в магазин, там он с особой силой переживал отвращение к магазинной толпе, среди которой было много старых женщин, матерей, бабок, домохозяек. Все они, почти без исключения, виделись ему набитыми всякой едой. Ему казалось, что все, что лежало за прилавком: мясо, колбаса, горы масла, рыбы, куры, молоко и сыр, огромные скопления пищи, – все это шло прямым ходом в утробы этих прожорливых, никому не нужных, снующих туда-сюда старых тяжелых дам и старух. А если кто-нибудь из них вдруг обращался к нему с укоризной или же с неудовольствием или, напротив, ласково справлялся о чем-нибудь, он вынужденно оглядывал какую-нибудь полуторацентнеровую даму с крокодильей физиономией в бородавках, в дряблых, но увесистых подбородках, оборачивался на ее обращение и замечал, что эти центнеры имеют довольно осмысленные глаза на рыхлой физиономии, а в глазах одна-единственная забота, одна-единственная мысль о колбасах, он содрогался внутренне и цепенел. «Странный ребенок», – скажет с удивлением дама. Или: «Странный молодой человек», – скажет она и отведет в сторону прилавка свои осмысленные глаза. А взбитые накладные волосы ее, перехваченные шерстяной тряпкой по моде, профиль дряблого, но вымазанного в красную губную краску рта будут переворачивать в нем все внутренности, и он умотает в другую очередь.
Спокойно, не задевая Витенькиных чувств, проскальзывали в его глазах молодые лица обоего пола, но только когда проскальзывали нейтрально, в своем обычном состоянии или в своем стремительном и веселом или, напротив, озабоченном беге куда-то. Но когда плясала свадьба над головой, на верхнем этаже, плясала всю ночь, а к утру вывалилась во двор, на улицу, и под эту первобытную гармошку они продолжали отбивать свою «мотанью» с глупыми или полупохабными частушками, когда он и она, жених и его дура, затянутая в постыдно-похоронную кисею, когда все они шлялись по улице, вынося туда, горланя всем и каждому о своей великой тайне, о великом событии, что он и она будут с сегодняшнего дня вместе спать в одной постели, – тогда и молодые не спасали Витеньку от навалившейся на него мизантропии. Он стоял на балконе, смотрел на это шествие молодых, на этот шабаш, и тяжелые, противные мысли мучили его…
33
Кое-как переведенный в десятый класс с тройками, Витек не захотел никуда уезжать из города, все лето пробыл в Москве. Даже во время отпуска родителей не поехал с ними в деревню, к деду, остался дома. Как только вспомнил бабку Олю – сю-сю-сю-сю, представил себе деда с его деревянной ногой, рассказами о собственных подвигах, с его жеванием нижней губы, всегда ему плакать хочется, когда рассказывает, – стало противно, и он остался дома. «Надо, – сказал родителям, – заниматься буду». – «Смотри, как хочешь, заниматься можно и в деревне». Словом, июнь, июль и август Витек играл, спасался игрой, писал стихи, спасался писанием стихов, и чтением, и мрачными размышлениями по ночам. Особенно когда родители уехали в деревню. В эти дни никто не мешал ему гибнуть и снова жить и даже наслаждаться жизнью, потом опять уходить в свои глубины, в самого себя, где было так хорошо и безрадостно. Он сильно продвинулся в музыке. Он вырос, пушок обметал его подбородок и верхнюю губу, взгляд стал медленным и глубоким. Он сделался вполне юношей, и мне хочется отдохнуть от него немного. Вот его стихи. Пусть говорит сам.
Володе Пальцеву
Мой бедный друг, я знаю, знаю,
Давно изведал ту тщету.
Бывает счастье?
Да, бывает!
Жар-птицу схватишь на лету,
В руках комок живой забьется
И тихо: «Отпусти… Зачем?»
И так печально улыбнется,
А ты опять стоишь ни с чем.
* * *
Гуляет ветер в чистом поле.
Куда ни глянь – белым-бело.
Я вас любил, чего же боле?
Теперь и это умерло.
Мы каждый – со своею долей,
Жизнь там, где пелось и мело.
Но пусто-пусто в чистом поле,
Куда ни глянь – белым-бело.
* * *
Сергею Есенину
Сажусь к столу, бумагу придвигаю,
И хочется начать таким стихом:
«Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком».
Тех журавлей уж нет. Куда они умчались?
И почему во мне такая грусть?
А голос журавлиный отвечает,
Что все прошло, назад уж не вернуть…
Да, все прошло, и сожалеть не надо.
Но только не о том я говорю.
Ведь он и сам мечтал стальной громадой
Увидеть нищую страну свою.
И может, все сбылось, не знаю я, не знаю,
А если не сбылось, так сбудется потом.
Но все же, все же роща золотая
Отговорила милым языком.
И я как будто вижу эту рощу
И поля опустевшего простор,
И влагу дней тех чувствую на ощупь,
И влага та мне застилает взор.
А я гляжу, в безмолвии глотая
Внезапно подступивший к горлу ком.
Да, все прошло, и роща золотая
Отговорила милым языком.
* * *
И пусть у гробового входа…
А. С. Пушкин
Уснули голоса тревоги,
И тихо, тихо, как во сне,
Родятся медленные строки
И умирают в тишине.
Здесь все знакомо, все конечно
В пределах глаз, в пределах рук.
И где-то в глубине сердечной
Стучит: «Пора, пора, мой друг…»
Так вот они: покой и воля.
Ужель пришла моя пора?
И делится заветной долей
Со мною сам отец пера?
34
Катерина и Борис Михайлович вернулись из деревни загорелыми и немножечко сбросившими свои тяжелые веса, ходили бодрей, говорили бойчее и громче, чем полагалось дома, в городской квартире. Катерина пригнула к себе вскользь и на одно мгновение показавшего свою улыбку Витеньку, поцеловала в макушку, отец потрепал его за волосы. Рады были. А уже во вторую минуту в глазах Катерины и другое выступило, вроде тревожного вопроса: как тут у вас, ничего такого не случилось?
– Ну как тут у вас? – на Витеньку, на Евдокию Яковлевну посмотрела, ответа хотелось хорошего.
Витек пожал плечами. Евдокия Яковлевна немного поколебалась и сказала:
– Я ничего не знаю.
– Как не знаешь? Ты говори, мама, говори. – Катерина почувствовала что-то нехорошее за недомолвками матери. – Чего ты ничего не знаешь? Говори!
– Я не знаю, – повторила Евдокия Яковлевна, и лицо ее морщинистое скуксилось. – Он запирал меня…
– Куда запирал?
– В мою комнату запирал.
Ничего нельзя было понять. Вмешался Борис Михайлович.
– Что вы тут, как дети, разнюнились. Кого запирал? Кто запирал? В чем дело? – и так далее.
Евдокия Яковлевна заробела немного, перестала кукситься, начала говорить без хлюпанья, даже на грубоватый тон перешла:
– Играл он тут день и ночь, соседи жаловались, на балконе ночью курил. А тут ходить к нему стала шпана всякая, как налетят, все вычистят из холодильника, понакурят, понаплюют, даже томатную пасту съедят, ничего не оставят, стала говорить – не нравится ему, кричит на меня и запирать стал, как эти на порог, так сразу запирает меня, один раз насильно затолкал в комнату и запер, ключ нашел специально, не выпускает, пока не разойдутся.
Витек молчал, замкнувшись. Все молчали. Потом Борис Михайлович сказал:
– Витек!
– Что она лезет всегда?! – огрызнулся Витек.
– Какая такая шпана? – спросил отец.
– Это я, – сказал Витек, – и мои товарищи. Феликс, например.
– Мама! – взмолилась Катерина. – Что ты вмешиваешься? Что тебе сделали ребята? Ну поели томатную пасту, да ради бога, тебе что, жалко? Они растут, им надо есть побольше, господи. Напугала только…
И потихоньку все разбрелись кто куда. Ворча и обижаясь, ушла к себе Евдокия Яковлевна. Борис Михайлович вошел вслед за Витенькой в его комнату и уже одному пригрозил:
– А вот курение ты оставь, а то не посмотрю, что борода растет, выпорю. Понял?
– Понял, – сказал Витек в том смысле, что понял, но курить все равно не перестанет.
Но отец не уловил этого смысла, удовлетворившись ответом, оставил Витька. Конечно, ему хотелось посидеть с сыном, поговорить о чем-нибудь, о чем угодно, о пустяках каких-нибудь, о деревне, своем отпуске, о Незнайке, вообще, как это водится между людьми, но Витек не любил разговаривать вообще, с отцом, конечно, с матерью, со своими дружками не хуже других разводил пустую болтовню, еще как, с шипением, со смехом, за живот хватается от смеха, но дома кривится, как от оскомины, когда ему что-нибудь скажут, чтобы просто разговор затеять, обычный, принятый между людьми, тем более между своими людьми. Нет, тут он сразу умным делается, кривится, как от оскомины. И Борис Михайлович больше в отместку, что не может найти никакого предмета для разговора с сыном, чем за это курение, – сам-то начал курить намного раньше, куда от этого денешься, пусть себе курит – но в отместку сказал, что выпорет, и строгость напустил на себя. А ведь месяц не виделись, хотелось, конечно, посидеть, порасспросить, как и что, чем занимался тут, о чем думал и так далее. Не получается. А пока Катерина разбиралась с привезенными из деревни чемоданами, Витек полежал-полежал у себя и сел к пианино, заиграл, и сердце отцовское сразу же подскочило до верхней точки, до самого горла, там колотилось от нежности, от любви к сыну. Долго сидел и слушал за стенкой, глядя на Катерину, которая разбиралась в чемоданах и, видно, тоже слушала, не зажимала ушей, не стонала, что голова раскалывается. Долго слушал и думал, что неправильно они относятся к Витеньке и зря наваливаются на него, какие-то дурацкие пустяки ставят на первое место, заслоняют ими главное, а ведь главное – вот оно. Какая душа у Витеньки чистая, благородная. Разве может эта музыка выходить из какой другой души?! Глупые, старые дураки-идиоты!
Борис Михайлович встал и пошел к Витеньке. Немного постоял за спиной, посмотрел на нотные страницы, написанные не по-русски, непонятно, а музыка, значит, написана там понятная, и не одному Витеньке, но и ему, старому дураку, сердце к самому горлу подкатывается, это тебе не радио, не телевизор и не Наташка, куда там Наталье?! Тут хоть реви, обливайся слезами. Он стоял и чувствовал к Витьку такой прилив нежности и обожания, как в ту давнюю ночь в деревне, когда, маленький, он умирал у них на руках и сами они с Катериной тоже умирали от страха и любви. Ведь это же он, их Витек, вон как вытянулся, на голову выше отца с матерью, сидит сейчас все тот же Витек, и его руки, сильные и умные пальцы, как они сильно и нежно касаются, бегают по этим клавишам… Никогда не думал, что доживет до этого. Он подошел совсем близко и, боясь помешать Витеньке, не смея погладить его по голове или хотя бы коснуться его плеча, спросил:
– Сынок, скажи нам с матерью, что это играешь ты, как называется?
Витек, не отрываясь от нот, чуть вывернул голову, сказал, что играет ноктюрны Шопена.
– Ага, ноктюрны Шопена, понятно. Играй, сынок, а на бабку ты не обращай внимания.
И тихо ушел Борис Михайлович, Катерине сказал, что Витек играет ноктюрны Шопена, куда там Наталье до него!
– Ноктюрны Шопена? – переспросила Катерина, ей было так приятно выговаривать эти красивые слова, не чуждые теперь для нее, потому что они Витенькины, то есть их слова, ихней семьи. Ноктюрны Шопена…
Борис Михайлович даже на работе говорил про эти ноктюрны. «А, Борис Михайлович! А, привет!» И так далее. «Как отдохнул, что новенького?» – «Да вот отдохнул, в порядке, сын все эти ноктюрны Шопена играет…» – «Ноктюрны?» – «Ноктюрны Шопена, а ты что думал?» – «А что тут думать, растут ребята, они теперь все могут». – «Все, да не все», – возразил Борис Михайлович.
Он и на другой день, на работе, все еще думал, что Витек у него не как все, что особенным растет, да, трудным, сложным, но особенным, не как все. Даже дядю Колю припомнил, прав был старик, мудрый был человек, когда еще Витька угадал, а вот сами они с Катериной из-за всякой ерунды все загоняют Витеньку в угол, от себя отталкивают, душу его по мелочам коверкают. У людей босяк босяком растет, а гордятся, вот, мол, мой, то-то да то-то. Подумаешь, в футбольную команду пробился или на завод пошел, за станком уже стоит, невидаль. А нашего кто поймет? Кто будет гордиться, если сами шпыняем? А он играет как! Послушали бы мои работяги, не поверили бы, что сын. Музыканту с телевизора далеко до него.
А тогда, в день приезда, когда Витек за стеной играл ноктюрны Шопена, Борис Михайлович Катерине говорил:
– Нет, Катя, неправильно мы относимся к Витеньке, грубо, портим его грубостью.
– Это все ты рычишь, как чуть что, сразу орать.
– Я, один я. Ты вот мать, ты его, как мать, приблизь, что ли, тебе это положено, мне-то, отцу, неудобно по головке гладить, а тебе… пожалей ты его раз-другой, рубашку ему новую купи, в десятый класс перешел, можно бы и костюмчик купить.
– Если бы ты всегда был такой умный, не писал бы он про нас, не обижался, ты виноват, отец.
Катерина оставила свои занятия и подошла к Борису Михайловичу, глядя в глаза ему, сказала, вроде мысль осенила ее счастливая.
– Ты вот вместо слов, – сказала она, – взял бы сейчас и вышел с Витьком, прошелся бы, в магазин заглянули вместе, купил бы и рубашку, и костюмчик, надо с сыном бывать почаще.
И тут же Катерина решительно вошла к Витеньке.
– Витек, – деловито приказала она, – закрывай-ка свою музыку, сходите с отцом в магазин, а я уберусь в квартире, у тебя уберусь, тут как поросята ночевали, давай, Витек! – И сама, не дожидаясь, взяла ноты, положила на место и закрыла крышку пианино.
Борис Михайлович удивлялся и даже завидовал Катерине, так просто она распоряжалась с Витенькой, не задумываясь, как тот отнесется к ее крутым распоряжениям, к этим безоговорочным жестам: хлоп, хлоп – сложила, закрыла, давай, уметывайся, мне убираться надо. Или: «Хватит, голова раскалывается от музыки твоей». И Витек подчиняется, принимает это как надо, даже если и огрызнется, видно, что не обижается. Ведь грубо же, некультурно, не даст доиграть до конца, рраз, закрыла, захлопнула крышку, и никаких разговоров. А если она каждого уговаривать станет, уламывать, ждать, никогда не сможет управиться по дому. Конечно, она права, но Борис Михайлович так не может. А теперь Витек смирился в ту же минуту, поднялся, стал одеваться, спросил только, может, он сам сходит, принесет что надо.
– Идите вместе, – приказала Катерина, – все равно мешать будете, у меня стирки сколько, уборки. Идите.
Дала сумку в руки, сказала, что купить к обеду. В прихожей провожала, а тут звонок – Лелька позвонила. Витек взял трубку. Ах, Витюленька, папуленька, мамуленька, приехали? Лё-лё-лё, ля-ля-ля и так далее. Передал трубку матери, поморщился.
Мужчины вышли. Через час прискакала Лелька. Ох эта соблазнительница, расцвела на чужую беду, дурака какого-то ответственного водит. Дурочка, пора бы и за ум браться. И радовалась Катерина, и мучилась. Хорошего бы мужа ей, как бы хорошо.
– Доиграешься, Леленька.
– Мамочка, оставь ты свое. – Чмок, чмок в щеки мамочку свою. – Мне хорошо, чего тебе надо еще. Как там дед с бабкой? О! А мы, мамочка, в Гаграх отдыхали, ты себе не представляешь!
Мужчины шли вверх по Ленинскому, старательно обходили встречных пешеходов, старательно пересекали перекрестки, вообще старались идти, чтобы быть вроде сильно занятыми хождением, потому что говорить не говорили, не знали, о чем говорить, и старались идти, не по привычке, как все люди, не автоматически двигаться вместе с общим потоком, а старательно, неловко обманывая друг друга, что сильно заняты оба тем, что идут, обходят встречных, пересекают перекрестки. Легкий длинноногий Витек немного впереди, грузный, тяжелый отец немного позади. Витек оглядывается, поджидает отца, потом опять идет впереди. Конечно, сначала Борис Михайлович попытался.


![Книга Несмолкаемая песня [Рассказы и повести] автора Семён Шуртаков](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-nesmolkaemaya-pesnya-rasskazy-i-povesti-243627.jpg)