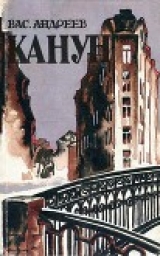
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 26 страниц)
С лишним год прожил Ванька у Ломтева.
Костя приучил уже его к работе. Брал с собою и оставлял «на стреме».
Сначала Ванька боялся, а потом привык.
Просто: Костя в квартире работает, а ему только сидеть на лестнице, на окне. А если стрема – идет кто-нибудь, – позвонить три раза.
Из «заработка» Костя добросовестно откладывал часть на Ванькино имя.
– Сядешь если – пригодится, – говорил Костя. – Хотя в колонию только угадаешь, не дальше, но и в колонии деньги нужны. Без сучки сидеть – могила.
Славушка за год еще больше разросся и растолстел, здоровее Яшки-Младенца стал. Но подурнел, огрубел очень. Пробиваются усы. На вид вполне можно дать лет двадцать. Костю не боится, не уважает. Ведет себя с ним нагло.
И со всеми так же. Силою хвастает.
– Мелочь! – иначе никого не называет.
Озорничает больше, несмотря на то что старше. Костины гости как напьются, Славушка принимается их разыгрывать, в бутылку вгонять. Того за шею ухватит, ломает шею, другому руки выкручивает. Силу показывает.
И все боятся. На руку дерзкий. Силач.
Ванька ему пятки чешет каждый день беспрекословно.
Над всеми издевается Славушка. Больше же всего над Балабою-Игнаткою. Больной тот, припадочный. Как расскипидарится – сейчас его припадок начинает бить.
Славушка его всегда до припадка доводит.
Игнатка воды холодной боится – Славушка на него водой и прыскает. Орет, визжит Игнатка, будто его бьют. Рассердится – драться лезет, кусается.
А Славушка его все – водою. Загонит в угол, скрутит беднягу в три погибели и воду – за воротник, – тут Игнатка и забьется.
А Славушке потеха. Удивляется.
– Вона что выделывает, а? Чисто таракан на плите, на горячей.
Мучитель Славушка.
Коку Львова на тот свет отправил. Озорством тоже.
Кока был с похмелья, с лютого. Встретился на беду со Славушкою в Екатерингофе и на похмелку попросил.
А Славушка и придумал:
– Вези меня домой на себе.
Кока стал отнекиваться:
– Лучше другое что-нибудь. Не могу я!.. Тяжелый ты очень.
– Пять пудов, на той неделе вешался. Не так, чтобы чижолый, а все же. Ну, не хочешь, не вези!
И пошел.
Догнал его Кока.
– Валяй, садись! Один черт!
Повез. Шагов двадцать сделал, что мышь стал мокрый.
– С похмелья тяжело… Боюсь – умру.
– Как хочешь, тогда – прощай!
Кока и повез. И верно – умер. Половины парка Екатерингофского не протащил.
Славушка пришел домой и рассказывает:
– Коку Митькою звали. Калева задал – подох.
Не верили сначала. Потом оказалось – верно.
– Экий ты, Славка, зверь! Не мог чего другого придумать! – укорял Ломтев.
– Идти не хотелось, а извозчиков нету, – спокойно говорил Славушка. – Да и не знал я, что он подохнет. Такой уж чахлый.
– Так ты его и бросил?
– А что же мне его, солить, что ли!
А спустя несколько времени разошелся Славушка с Костею.
Прежний его содержатель – Кулясов – с поселения бежал, на куклима жил. К нему и ушел Славушка.
Пришел как-то домой, объявил:
– Счастливо оставаться, Константин Мироныч!
– Куда? – встрепенулся Ломтев.
– На новую фатеру! – улыбнулся Славушка.
Фуражка – на нос, ногу на ногу. Посвистывает.
Ломтев сигару закурил. Спичка прыгала. Волновался.
– К Андрияшке? – тихо, сквозь зубы.
– К нему, – кивнул Славушка.
– Тэк.
Ломтев прищурился от дыма.
– К первому мужу, значит?
Улыбнулся нехорошо.
Славушка ответил спокойно:
– К человеку к хорошему.
– А я, стало быть, плохой? Тэк-с. Кормил, поил, одевал и обувал.
– И спал – добавь, – перебил Славушка.
Ломтев повысил голос.
– Спал не задарма. Чем ты обижен был когда? Чего хотел – имел. Деньги в сберегательной есть. Андрияшка, думаешь, озолотит? Не очень-то. Мяса столько не нагуляешь – не закормит. Вона отъелся-то у меня, сам знаешь.
– Откормил, это верно, – сказал Славушка. – Чтобы спать самому мягче, откормил за это.
Подал руку Ломтеву:
– Всех благ!
Ломтев вынул из бумажника сберегательную книжку – выбросил на стол. Сказал с раздражением:
– Триста пятьдесят заработал за год. Получай книжку!
Славушка повертел книжку в руках. Положил на стол.
Нахмурился:
– Не надо мне твоих денег.
Ломтев опять швырнул книжку.
– Чего – не надо? По правилу – твои. Имеешь получить.
Славушка взял книжку, запрятал в карман.
Толстые щеки покраснели.
– Прощай! – сказал тихо и пошел к двери, слегка нагнув голову.
– Так и пошел? – крикнул вслед Костя грустно и насмешливо.
Славушка не оглянулся.
4
Люди бывают разные.
Один что нехорошее сделать подумает, и то мучается, а другой отца родного пустит нагишом гулять, мать зарежет – и глазом не моргнет. Человечину есть станет да подхваливать, будто это антрекот какой с гарниром.
Люди, с которыми встречался Ванька, были такими.
Человечины, правда, не ели – не нужно этого было, ну а жестокость самым первым делом считалась.
Все хорошее – позорно, все дикое, бесстыдное, грязное – шик.
Самый умный человек, Ломтев Костя, и тот поучал так:
– Жизнь что картежка. Кто кого обманет, тот и живет. А церемониться будешь – пропадешь. Стыда никакого не существует, все это – плешь. Надо во всем быть шулером – играть в верную. А на счастье только собаки друг на дружку скачут. А главное, обеспечь себя, чтобы никому не кланяться. Ежели карман у тебя пустой – всякий тебе в морду плюнет. И утрешься и словечка не скажешь, потому талия тебе не дозволяет.
Ванька усваивал Костину науку: до совершеннолетия сидел в колонии для малолетних преступников четыре раза, девятнадцати лет схватил первую судимость. Одного его задержали – Костя успел ухрять. Все дело Ванька принял на себя – соучастника не показал, несмотря на то, что в сыскном били.
В части, в Спасской, сиделось до суда хорошо. Знакомых много.
Ваньку уже знали, торгашом считали не последним – свое место на нарах имел.
Воспитанный Ломтевым, Ванька был гордым, не трепло. Перед знаменитыми делашами и то не заискивал.
И видом брал.
Выхоленный, глаза что надо, с игрою. Одет с иголочки, белья целый саквояж, щеточки разные, зеркало, мыло пахучее – все честь честью.
Сапоги сам не чистил – старикашка такой, нищий Спирька, нанимался, за объедки: и сапоги, и за кипятком слетает, чай заварит и даже в стакан нальет.
Каждый делаш холуя имел – без этого нельзя.
Мода такая! А не следовать моде – потерять вес в глазах товарищей.
Модничали до смешного. Положим, заведет неизвестно кто моду курить папиросы «Бижу» или «Кадо» – во всей части их курить начинают.
Волынка, если не тех купят.
– Ты чего мне барахла принес, жри сам! – кричит, бывало, деловой надзирателю.
– Да цена ведь одна! Чего ты орешь? Что, тебя обманули, что ли!
– Ничего не понимаю! Гони «Бижу»!..
Или вот пюре…
Ломтев эту моду ввел.
Сидел как-то до суда в Спасской, стал заказывать картофельное пюре – повар ему готовил за плату. Костя никогда казенной пищи не ел.
Пошло и у всех пюре.
Без всего: без мяса, без сосисок.
Просто – пюре.
Долго эта мода держалась.
В трактирах, во время обходов, из-за этого блюда засыпались.
Опытный фигарь придет с обходом – первым долгом в тарелки посетителей:
– Ага! Пюре!
И заметает. И без ошибки – вор!
Так жили люди!
Играли в жизнь, в богатство, в хорошую одежду.
Дорого платили за эту игру, а играли.
Годами другие не выходили из-под замка, а играли. Собирались жить.
И надежда не покидала.
Выйдет другой на волю. День-два погуляет и снова на год, на два.
Опять – сыскное, часть, тюрьма. Сон – по свистку, кипяток, обед, «Бижу», пюре.
А надежда не гаснет.
– Год разменяю – пустяки останется, – мечтает вслух какой-нибудь делаш.
А пустяки – год с лишним.
А жизнь проходила. Разменивались года.
«Год разменяю!» – страшные слова.
А жизнь проходила.
И чужая чья-то жизнь. Многих, кого ненавидели, боялись и втайне завидовали кому эти мечтающие о жизни… жизнь проходила.
Война… Всех под винтовку. Кто-то воевал, миллионы воевали.
А тут – свисток, поверка, молитва, «Бижу», пюре – модные папиросы, модное блюдо.
Конец войны досиживал Ванька-Глазастый в «Крестах». Третья судимость. Второй год разменял.
И вдруг – освободили.
Не по бумаге, не через канцелярию, не с выдачею вещей из цейхгауза.
А внезапно, как во сне, в сказке.
Ночью. Гудом загудела тюрьма, словно невиданный ураган налетел.
Забегали по коридору «менты», гася по камерам огни.
И незнакомый, пугающий шум – пение.
В тюрьме – пение!
Помнит Ванька эту ночь. Плакал от радости первый раз в жизни.
И того кричащего, на пороге распахнутой одиночки, запомнил Ванька навсегда.
Тот, солдат с винтовкою, с болтающимися на плечах лентами с патронами, в косматой папахе, – не тюремный страж, не «мент», а солдат с воли, кричал:
– Именем восставшего народа, выходи-и!
И толпилось в коридоре много: и серые, и черные, с оружием и так.
Хватали Ваньку за руки, жали руки. И гул стоял такой – стены, казалось, упадут.
И заплакал Ванька от радости. А потом – от стыда. Первый раз – и от радости, и от стыда.
Отшатнулся к стене, отдернул руку от пожатий и сказал, потеряв гордость арестантскую:
– Братцы! Домушник я… Скокер!
Но не слушали. Потащили под руки. Кричали:
– Сюда! Сюда! Товарищ! Ура-а!..
И музыка в глухих коридорах медно застучала.
Спервоначалу жилось весело. Ни фараонов, ни фигарей.
И на улицах, как в праздник, в Екатерингофе, бывало: толпами так и шалаются, подсолнухи грызут.
В чайнушках – битком.
А потом – пост наступил. Жрать нечего. За «саватейкою», за хлебом то есть, – в очередь.
Смешно даже!
А главное – воровать нельзя. На месте убивали.
А чем же Ваньке жить, если не воровать?
Советовался с Ломтевым.
У того тоже дела были плохи. Жил на скудные заработки Верки-Векши, шмары.
Плашкетов уже не содержал – сам на содержании.
Ломтев советовал:
– Завязывать, конечно, нашему брату не приходится. Надо работать по старой лавочке, только с рассудком.
А как с рассудком? Попадешься, все равно убьют. Вот тебе и рассудок!
Умный Ломтев не мог ничего верного посоветовать.
Время такое! По-ломтевски жить не годится.
Бродил целыми днями Ванька полуголодный. В чайнушках просиживал до ночи за стаканом цикория, ел подозрительные лепешки.
А тут еще, ни к чему совсем, девчонка припомнилась, Люська такая.
Давно еще спутался с нею Ванька, до второй судимости было дело. А после сел, полтора года отбрякал и девчонку потерял.
Справлялся, искал – как в воду.
И оттого ли, что скучно складывалась жизнь, оттого ли, что загнан был Ванька, лишенный возможности без риска за жизнь воровать, почву ли потерял под ногами – от всего ли этого вдруг почувствовал ясно, что нужно ему во что бы то ни стало Люську разыскать.
С бабою, известно, легче жить. Костя Ломтев и тот на бабьем доходе.
Но главное не это. Главное, сама Люська понадобилась.
Стали вспоминаться прежние встречи, на Митрофаньевском кладбище прогулки.
Пасхальную заутреню крутились как-то всю ночь. И весело же было! Дурачился Ванька, точно не торгаш, не деловой, а плашкет. И Люська веселая, на щеках ямки, ладная девочка!
Мучился Ванька, терзался.
И сама по себе уверенность явилась: не найдет Люськи – все пропадет.
Раз в жизни любви захотелось, как воздуха!
С утра, ежедневно, путался по улицам, чаще всего заходил к Митрофанию.
Думалось почему-то, что там, где гулял с Люською когда-то, встретит ее опять.
Но Люська не встречалась.
Вместо нее встретил около кладбища Славушку.
Славушка его сразу узнал.
– Глазастый! Черт! Чего тут путаешься? По покойникам приударять стал, чего ли?
Громадный, черноусый, широченный. Московка – на нос. Старинные, заказные лакировки – нет, таких людей теперь не встречается.
Под мухою. Веселый. Силач.
Здороваясь, так сжал Ванькину руку – онемела.
– Работаешь? Паршиво стало, бьют, стервецы. Кулясова знаешь? Убили. И Кобылу-Петьку. Того уж давно. Теперь, брат, иначе надо. Прямо – за горло: «Ваших нет!» Честное слово! Я дело иду смотреть, – понизил тон Славушка. – Верное. Хочешь в компанию?
– В центре? – спросил Ванька.
– Не совсем. На Фонтанке. Баба с дочкою. Вдова. Верное дело.
Ванька слушал. Повеселел. Дело есть! Что же еще и надо?
Осведомился деловито. В прежнюю роль делаша входил:
– Марка большая?
– Чтобы не соврать – косых на сорок! Честное слово! Я, знаешь, трепаться не люблю… Шпалер есть у тебя?
– Нет.
– Чего же ты? Нонче у любого каждого плашкета – шпалер. Ну, да я достану. Значит, завтра? Счастливо, брат, встретились. С чужим хуже идти. Со своими ребятами куды лучше.
На другой день опять – на кладбище…
Славушка действительно достал наган и для Ваньки.
Похвастался по старой привычке:
– Я, брат, что хошь достану. Людей таких имею.
Торопливо шел впереди, плотно ступая толстыми ногами в светлых сапогах, высоко приподняв широкие плечи.
Ванька глядел сзади на товарища, и казалось ему, что ничего не изменилось, что идут они на дело, как и раньше ходили, без опаски быть убитыми.
И дело, конечно, пройдет удачно: будет он, Ванька, пить вечером водку, с девчонкою какой-нибудь закрутит, а может, и Люська встретится.
«Приодеться сначала, – оглядывал протирающийся на локтях пиджак. – Приодеться, да. Пальто стального цвета и лакировки бы заказать».
Хорошо в новых сапогах. Уверенно, легко ходится. И костюм когда новый, приятно.
Стало весело. Засвистал.
Свернули уже на Фонтанку.
В это время из-за угла выбежал человек, оборванный, в валенках, несмотря на весеннюю слякоть.
В руках он держал шапку и кричал тонким жалобным голосом:
– Хле-е-ба-а! Граж… да… не… хле-е-ба-а-а!..
Ванька засмеялся.
Очень уж потешный был лохматый, рваный старик, в валенках с загнутыми носками.
Славушка посмотрел вслед нищему:
– Шел бы на дело, чудик!
Недалеко от дома, куда нужно было идти, Славушка вынул из кармана письмо:
– Ты грамотный? Почитай фамилию. Имя я помню: Аксинья Сергеевна. А фамилию все забываю.
Но Ванька тоже был неграмотный.
Когда-то немного читал по-печатному, да забыл.
– Черт с ней! Без фамилии! Аксинья Сергеевна, и хватит! – сказал Ванька. – Хазу же ейную знаешь?
– Верно. На кой фамилия? Похряли! – решил Славушка, поднял воротник пиджака и глубже, на самые глаза, надвинул фуражку.
У дома, где жила будущая жертва, – рынок-толкучка.
Ванька, догоняя Славушку в воротах дома, сказал:
– Людки тут много. Черт знает!
А Славушка спокойно ответил:
– Чего нам людка? Пустяки. Тихо сделаем. Не первый раз.
Долго стучали в черную, обитую клеенкою дверь. Наконец за дверью – женский голос:
– Кто там?
– Аксинья Сергевна здеся живут? – спросил Славушка веселым голосом.
– А что надо?
– Письмецо, от Тюрина. Дверь отворилась.
Высокая худощавая женщина близоруко прищурилась.
– От Александра Алексеича? – спросила, взяв в руки конверт. – Пройдите! – добавила она, пропуская Славушку и Ваньку.
Ванька слышал, как женщина захлопнула дверь.
И в этот момент Славушка, толкнув его локтем, двинулся за женщиной.
– Постой! – сказал странным, низким голосом.
Она обернулась. Ахнула тихо и уронила письмо. Славушка держал в руке револьвер.
– Крикнешь, курва, убью! – опять зашептал незнакомым голосом.
Ванька сделал несколько неслышных шагов в комнату, оставив Славушку с женщиной в прихожей.
Револьвер запутался в кармане брюк. С трудом вытащил.
И когда вошел в комнату, услышал тихое пение.
Ах, моя Ривочка,
Моя ты милочка.
«Дочка. «Ривочку» поет», – подумал Ванька и направился на голос.
Пение прервалось. Звонкий девичий голос крикнул:
– Кто там?
Девушка в зеленом платье показалась на пороге.
– Кто?..
И, увидев Ваньку с револьвером, бросилась назад в комнату, пронзительно закричав:
– А-а-й! Ка-ра-ул!..
Ванька вскрикнул, кинулся за нею.
Испугался крика ее и того, что узнал в девушке Люську.
– Люська! Не ори! – придавленным голосом прокричал, схватив ее за руку.
Но она не понимала, не слышала ничего.
Дернув зазвеневшую форточку, звонко закричала:
– Спасите! Убивают! Налетчики!
Ванька, не соображая что делает, поднял руку с револьвером. Мелькнуло в голове: «Никогда не стрелял».
Гулко и коротко ударил выстрел. Оглушило.
Девушка, покачнувшись, падала на него.
Не поддержал ее, отскочил в сторону, не опуская револьвера.
Голова ее глухо стукнулась о пол.
Вглядевшись пристальнее в лицо убитой, увидел, что это не Люська, а незнакомая девушка, и замер в удивлении и непонятной тревоге.
А в той комнате, которую только что пробежал Ванька, раздался женский заглушенный крик и два выстрела, один за другим.
Ванька стоял с револьвером в протянутой руке.
Тревога не проходила.
А из комнаты рядом послышался испуганный Славушкин голос:
– Ванька! Черт! Хрять надо! Шухер!
Ванька выбежал из комнаты, столкнулся со Славушкою.
У Славушки дрожали руки и даже усы.
– Шухер! Хрять!
Побежал, на цыпочках, к двери. Задел нечаянно ногою лежащую на полу, свернувшуюся жалким клубком женщину.
Ванька побежал за ним.
Слышал, хлопнула выходная дверь.
В темном коридоре не сразу нашел выход. Забыл расположение квартиры.
Слышал откуда-то глухой шум.
«Шухер!» – вспомнил Славушкин испуганный шепот.
Тоскливо заныло под ложечкою, и зачесалась голова.
Тихо открыл дверь на лестницу, и сразу гулко ударил в уши шум снизу.
Даже слышались отдельные слова:
– Идем! Черт! Веди! Где был? В какой квартире? – кричал незнакомый злой голос.
И в ответ ясно разобрал Славушкино бормотание.
«Сгорел», – подумалось о Славушке.
Отступил назад, в квартиру, и захлопнул дверь.
Прошел мимо одного трупа к другому.
Не смотрел на девушку.
Шапку снял и бросил зачем-то на подоконник.
Со двора раздавался шум. Кто-то громко сказал: «В семнадцатом номере. Ну да!..»
Ванька поспешно отошел от окна.
В дверь с лестницы стучали.
В несколько рук, беспорядочно, беспрерывно.
Ванька вздрогнул.
Тонко и словно издалека зазвонили каминные часы.
Стал напряженно вслушиваться в неторопливый тонкий звон, и казалось – с последним часовым ударом прекратятся там, за дверью, стук и крики. «Три», – сосчитал.
Звон медленно затих.
Стук не переставал. И крики, удаленные комнатами и закрытыми дверями, казались особенно грозными.
– Отворяй, дьявол!..
– Эй, отвори, говорят!.. Эй!
Пошел. Ноги еле двигались.
Стучали все так же громко, в несколько рук.
И вдруг откуда-то, со двора или с лестницы, – прерывистый, умоляющий крик:
– Православ… ные! У-у!.. А-а-а!.. Правосл…
Оборвался.
И когда затих, Ванька понял – кричал Славушка.
Вспомнились вчерашние Славушкины слова: «Убивают на месте».
Вынул револьвер из кармана.
Положил его на пол, за дверью.
Робкая надежда была:
«Без оружия, может, не убьют…»
5
А в дверь все стучали.
Уже не кулаками – тяжелым чем-то.
Трещала дверь.
«Ворвутся – хуже», – тоскливо подумал Ванька.
Вспомнил, что, «засыпаясь», надо быть спокойным.
Не грубым, но и не бояться.
По крайней мере не доказывать видом, что боишься.
Ломтев еще так учил.
«Взял и веди». «Не прошло, и не надо…»
Подумав так, успокоился на мгновение.
Подошел к двери, повернул круглую ручку французского замка.
В распахнувшуюся дверь ворвались, оттеснив Ваньку, люди.
Кричали. Схватили.
– Даюсь! Берите! – крикнул Ванька. – Не бей, братцы, только!..
– Не бей? А-а-а! Не бей? А вы людей убивать?
– Не бей!
– Ага! Не бей!
– Ага!
Глушили голоса.
Теребили, крепко впившиеся в плечи, в грудь, руки.
А потом – тяжелый удар сзади, повыше уха.
Зашумело в ушах.
Крики точно отдалились.
Вели после, по лестнице, со скрученными за спину руками.
Толкали. Шли толпою, обступив тесным кольцом.
Каждую секунду натыкался то на чью-нибудь спину, то на плечо.
Ругались.
Ругань успокаивала. Хотелось даже, чтобы ругали. Скорее остынут.
Когда вывели во двор, запруженный народом, увидел Ванька лежащего головою в лужу, с одеждою, задранной на лицо, Славушку.
Узнал его по могучей фигуре и толстым ногам в лакированных сапогах.
Страшно, среди черной весенней грязи, белел большой оголенный живот.
И еще страшнее стало от вдруг поднявшегося рева:
– А-а-а! Тащи-и!.. А-а-а!..
Шлепали рядом ноги, брызгала грязь. Раз даже брызнувшей грязью залепило глаз.
В воротах теснее было – там столпилось много.
Опять ругань. Опять ударил кто-то в висок.
– Не бей… – сказал Ванька негромко и беззлобно.
Из ворот повели прямо на набережную.
И сразу тихо стало.
Только мальчишеский голос, звонкий, в толпе, прокричал:
– Пе-етька! Скорей сюды! Вора топить будут!
От этого крика похолодело в груди.
Уперся Ванька. Брызнули слезы.
– Братцы! Товарищи!..
Умоляюще крикнул.
От слез не видал ничего.
И вспомнилось, как освобождали его в революцию, из тюрьмы. Оттого ли вспомнилось, что вели так же под руки, оттого ли, что крик такой же был несмолкаемый. Или оттого, что всего второй раз в жизни людям, многим, толпе, тысячам, понадобился он, Ванька-Глазастый.
Схватили за ноги, отдирали ноги от земли.
– Православные! – крикнул Ванька, и почудилось ему: не он кричит, а Славушка.
А потом перестали сжимать руки – разжались. Воздух захватил грудь, засвистел в ушах.
Падая, больно ушибся о скользкое, затрещавшее и не понял сразу, что упал в реку.
Только когда, проломив слабый весенний лед, погрузился в холодную воду, сжавшую, как тисками, бока и грудь, тогда взвыл самому себе не понятным воем.
Хватался за острые, обламывающиеся со стеклянным звоном края льдин, бил ноющими от холода ногами по воде.
А по обеим каменным стенам-берегам толпились, облепив перила, люди.
И лиц – не разобрать. И не понять – где мужчины, где женщины.
Черная лента – петля, а не люди.
Черная лента – змея, охватившая Ваньку в холодное беспощадное кольцо.
Рев с берега возрастал, гудело дикое, радостное:
– Го-го-го!.. О-о-о!..
– А-а-а! Го-го-го-о-о!
И нависало что-то на ноги, тянуло вниз, в режущий холод.
С трудом, едва двигая цепенеющими ногами, барахтался в полынье Ванька.
И в короткое это мгновение вспомнилось, как шутя топили его в Таракановке мальчишки.
В детстве, давно. Не умел еще плавать. Визжал, барахтался, захлебывался. А на берегу выли от восторга ребятишки.
А когда вытащили, сидел когда на берегу, в пыльных лопухах, – радостно было, что спасли, что под ногами твердая, не страшная земля.
И сейчас мучительно захотелось земли, твердости.
Собрав последние силы, вынырнул, схватился за льдину, поплыл вместе с нею.
А вверху, с берега опять детский веселый голос:
– Эй! Вора топют!
Впереди, близко, деревянные сваи высокого пешеходного моста.
Отпихнулся от налезавшей с легким шорохом на грудь льдины, поплыл к сваям.
А с моста, на сваю, спускался человек.
– Товарищ, спаси-и-и! – крикнул Ванька.
И непомерная радость захватила грудь.
– Милый, спаси-и!
Заплакал от радости.
А человек, казалось, ждал, когда Ванька подплывет ближе.
Вот – протянул руку.
Крик замер на губах Ваньки. Только слезы еще текли.
В руке у человека – наган.
Треснуло что-то. Прожужжало у самого уха. Шлепнулось сзади, как камушек, булькнула вода.
Снова треснуло. Зажужжало. Шлепнуло. Булькнуло.
И еще: треск, жужжание.
‹1924›







