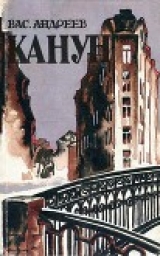
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 26 страниц)
– Хоть легонький аккомпанементик! Жаль, понимаете ли нет, не захватил партитуру.
– Ладно. Сегодня как-нибудь, а завтра – блины.
Николай Иваныч тронул клавиши.
Народу было значительно больше, чем обыкновенно бывало у Смириных, но Роман Романыч не смущался.
Наоборот, чувствовал необыкновенный подъем духа.
Голос его зазвучал уверенно:
Куда, куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?
Видел серьезные, внимательные лица. Заметил, как брат Веры одобрительно кивнул головою.
Роман Романыч встретился глазами с Верою.
И жарко, словно из самого сердца, полился его голос:
Что день грядущий мне готовит?
И еще жарче и проникновеннее:
Чего мой взор…
Но вдруг Тамара Чертенок шумно сорвалась с места и, хохоча, выбежала из комнаты. А следом за нею – Вера.
И Николай Иваныч, опустив крышку пианино и откинув голову, долго и тихо смеялся, повторяя сквозь смех одну и ту же фразу:
– Тяжелый случай.
У Романа Романыча задрожали руки и колени, а внутри стало неприятно пусто.
Он сел на диван и непонимающими глазами окидывал присутствующих.
Но те старались не встречаться с ним глазами.
«В чем дело?» – тоскливо думал Роман Романыч.
И вот писатель, сидевший с закрытыми глазами и, казалось, дремавший, поднял голову и обратился к брату Веры:
– Ну, Володенька, номер! Уж каких чудаков у тебя не перебывало, а этот всех хлеще. То он инженер, то тифлисскую газету «Заря Востока» на оперу перекладывает и играет в ней персидского царя. А теперь вот «чаво» загнул.
Перевел мутный, пьяный взгляд на Романа Романыча и сказал зло и грубо:
– Ну, «чаво»! Пой, смеши людей, коли взялся. Артист!
16
МОСТ
Роман Романыч запил.
После рокового четверга он пошел к Иуде Кузьмичу поведать свое горе.
Застал приятеля пьющим в компании двух женщин и трех мужчин. Ни с кем из них Роман Романыч не был знаком.
Иуда Кузьмич был уже в солидном заряде.
Пока Роман Романыч здоровался с ним и знакомился с его гостями, Иуда Кузьмич уже успел дважды чему-то посмеяться и дважды произнести: «Спаса нет».
А когда Роман Романыч на его вопрос: «Ну как, лорд, делишки на счет трудкнижки?» – уныло ответил:
– Все мои радужные надежды, понимаете ли нет, рухнули. Остался я, короче говоря, с носом, – Иуда Кузьмич прыснул, захлопал в ладоши, словно чему-то чрезвычайно радуясь, а затем, касаясь поочередно груди каждого из сидящих за столом, захлебываясь и чуть не валясь со стула от смеха, заговорил:
– Шла японка с длинным носом, подошла ко мне с вопросом: «Как избавить этот нос, чтобы больше он не рос?» Я японке отвечаю, головой притом качаю: «Очень глупый ваш вопрос. А на что же купорос? Вы купите купоросу, приложите его к носу, а потом, потом, потом отрубите топором».
Иуда Кузьмич долго и мучительно смеялся сквозь крепко сжатые зубы.
Изнемогая, прошептал:
– Спаса нет!
А затем, обратясь к Роману Романычу, сказал:
– Ты, Ромка, не обижайся! Это просто к слову пришлось. Ребятишки у нас на дворе так считаются, когда играют. Понял? А забавно все-таки. Топором, а?
Он снова было заржал, но сдержался.
Роман Романыч, видя, что с Иудой Кузьмичом в настоящую минуту говорить о серьезных вещах более чем когда бы то ни было бесполезно, решил залить горе вином и присоединился к выпивающим.
С этого раза он стал ежедневно по вечерам приходить к Иуде Кузьмичу с предложением составить компанию.
Иуда Кузьмич, способный пить во всякое время дня и ночи и при любых обстоятельствах, без лишних слов принимал предложения приятеля.
Пили когда где: в квартире Иуды Кузьмича, в пивных и ресторанах.
Напиваясь, Роман Романыч забывался. Тоска утихала.
Но по утрам, после пьянства, тоска усиливалась. А кроме того, появлялось чувство угнетенности, тревоги и неопределенного страха.
Однажды Роман Романыч и Иуда Кузьмич зашли в тот самый ресторан, где когда-то Роман Романыч встретил клиента в сером костюме.
Было еще рано. Часа четыре дня.
Музыка не играла. Посетителей было немного.
Тишина пустынных зал, пустые эстрады, небьющий фонтан, в бассейне которого, в темной воде, неподвижно мокли лепестки мертвых цветов и окурки; чахлая, словно неживая, запыленная зелень вокруг бассейна – все это напоминало позднюю осень, умирание, навевало тоску и усталость.
Чтобы утихла тоска, Роман Романыч выпил подряд две рюмки. В голову ударило, но тоска не проходила.
А Иуда Кузьмич был, как всегда, весел.
Смотрел смеющимися глазами на официантов и посетителей. Выпивая, крякал и говорил:
– Первая – колом, вторая – соколом.
Подмигивал:
– А ты, Ромка, не вешай голову, не печаль хозяина. Пей, пока пьется, – все позабудь!
Связался с мальчишкою-газетчиком. Задал ему загадку: «Без окошек, без дверей – полна комната людей».
– Угадаешь – двугривенный огребешь.
Мальчишка несколько секунд напряженно думал, краснея до волос, сопя широким носом.
Выпалил с торжеством:
– Тюрьма. Ага!
Иуда Кузьмич захохотал, ткнул вилкою в огурец.
– Чудак! Огурец, а ты – тюрьма.
– Какие же в огурце люди? Сам ты чудак, – обиделся мальчишка и отошел от стола.
– Разрешите получить, граждане! Сейчас сменяюсь, – сказал подошедший официант.
Приятели расплатились.
Затем Иуда Кузьмич подозвал нового официанта.
– Тут, друг ситный, все в порядке. А теперь дай парочку пива, чтобы жить не криво!
Он подхохотнул, подмигивая.
– Слушаю, – улыбнулся официант.
И вдруг обратился к Роману Романычу:
– Здравствуйте, гражданин! Я вас было не признал. Давненько не были-с.
Роман Романыч недоумевающе посмотрел на официанта, а тот продолжал:
– Никак с прошлого года. С осени. Ну да-с. Вы еще тогда за тем вот столиком расписались. Помните? Семечками от этой, как ее, от гранаты.
Роман Романыч вздрогнул, а Иуда Кузьмич хохотнул:
– Значит, знакомы. Товарищи по несчастью.
– Кто же не знает гражданина…
И официант назвал фамилию, от которой Роман Романыч опять вздрогнул, а Иуда Кузьмич сморщился и оскалил сжатые зубы.
А когда официант ушел, он затрясся от смеха:
– Спаса нет, Ромка! Как он тебя назвал-то, а? Потеха. Знакомые. Друзья с полночи.
Роман Романыч еще не успел ничего ответить, как к столу подошел человек и остановился около самого Романа Романыча.
Роман Романыч взглянул на подошедшего и узнал в нем, толстом и бритоголовом, приятеля клиента в сером костюме.
«Дядя Саша», – подумал Роман Романыч, смущаясь и чему-то радуясь.
А тот бесцеремонно придвинул стул к столу и грузно сел.
Роман Романыч молча, выжидающе смотрел на него, а Иуда Кузьмич, оскаливаясь и осторожно подмигивая, толкал под столом своей ногой ногу Романа Романыча.
Дядя Саша глубоко вздохнул.
Улыбнулся жалко и вместе насмешливо, слегка выпячивая нижнюю губу.
И, не спуская глаз с Романа Романыча, заговорил сипловатым, но звучным голосом:
– Похож. Замечательно похож. Действительно, можно обознаться.
Вдруг схватил руку Романа Романыча пухлой горячей рукою, задышал пивом:
– Похож. Но не он. Его нет. Слышите? Нет его больше.
Задышал тяжело, словно поднялся в гору. Продолжал жалобно, как будто собирался заплакать:
– Умер этот великий человек. Умер страшной… трагической смертью.
– Как? Убили? – прошептал, пугаясь, Роман Романыч.
– Сам себя убил… Сам… Не в этом дело.
Дядя Саша снова схватил руку Романа Романыча и, все сильнее волнуясь, зашептал плачущим голосом:
– Нет его! Нет! Понимаете? И не явится взамен его никто. Вот в чем дело. Ник-то!
Лицо его исказилось мучительной гримасою.
Маленькие, заплывшие глазки остро впились в лицо Романа Романыча.
– Понимаешь, – продолжал он, переходя на «ты». – Не будет другого. Второго Пушкина – нет. Лермонтова кто заменил? И его не заменят. Отзвучала нежная скрипка. Скрипка умерла. Понимаешь? Скрипки больше нет.
«Музыкант, – подумал о приятеле дяди Саши Роман Романыч, – заслуженный скрипач филармонии».
– Отзвучал его необыкновенный голос, – продолжал дядя Саша. – Умолк певец, и замолчала лира.
«Певец», – подумал Роман Романыч, и сердце его сладко замерло.
Он нетерпеливо зашевелился на стуле и смущенно начал:
– Извиняюсь, гражданин…
Но дядя Саша выкрикнул, и по голосу его было слышно, что он крепко пьян:
– Он ошибся!
И уже тише:
– Он не те песни пел. Новые люди – новые песни. А у него не было новых. А надо новое, новое и только новое. В нашу эпоху – вчерашнего не существует. В нашу эпоху каждый день – эпоха. И еще: надо уметь и любить, и ненавидеть. Это старая истина. А что-нибудь одно – нельзя. Иначе тюрьма, более страшная, чем каменные замки и крепости. Тюрьма собственного одиночества. Выход из нее только…
Дядя Саша провел ребром ладони вокруг шеи.
– Вот… Или с моста – в воду.
Он усмехнулся и указал пальцем на графин:
– Или – вот. А это – та же петля.
– Извиняюсь, – опять начал Роман Романыч, но дядя Саша слегка дотронулся рукою до его плеча.
– Одну секундочку. Я говорю все это вам, как это ни странно, потому что вы похожи на него. И не только лицом и волосами…
Он пристально посмотрел на волосы Романа Романыча и раздумчиво продолжал:
– Даже пробор, как у него. С правой стороны. Это редко бывает у мужчин.
Встряхнул головою и расширил глаза, точно борясь с дремотой.
– Да… Не только, повторяю, лицом… А костюм? А шляпа? Это же ваша шляпа?
– Моя, – опустил глаза Роман Романыч.
– Ну вот… Я и говорю… Он избрал себе сценою мир. Но не вышел к людям, а остался за кулисами. В гриме, в костюме, но за кулисами, перед зеркалом. И от зеркала так и не отошел. И не разгримировался. Занавес опущен. Значит, грим, костюм, бутафорию – прочь. Иди к людям. Узнай их. Полюби и возненавидь. Возненавидь и полюби – иначе нельзя. А не стой перед зеркалом. Не плачь под гитару, под гармонику. И не люби только лошадей и собак. А он, к голосу кого, затаив дыхание, с перебоями сердца прислушивались люди, не любил людей. И поэтому был одинок. Он, которого знал весь мир, был одинок. От нелюбви одинок. Добровольно одинок. А разве так можно? Если не любовь, то тогда что же? Любовь – жизнь… А он не мог. Он одинокий был. Даже во внешности его, в заграничном его костюме, в американской палке и в такой вот шляпе – во всем этом чувствовалась эта одинокость, обособленность, не нужная никому. И даже ему…
Дядя Саша опустил голову и замолчал.
Роман Романыч воспользовался паузой:
– Извиняюсь… Ведь они… ваш товарищ покойный были… оперный?
Дядя Саша поднял голову, брезгливо поморщился.
– Какой оперный? Он же не был актером. Ты – его двойник и не знаешь, кто он был. Костюм, шляпу носишь, как у него, и не знаешь, кто – он…
Дядя Саша поднялся, шумно отодвигая стул:
– Довольно! Не желаю метать бисера. Адью…
Иуда Кузьмич подмигнул ему вслед.
– Кланяйтесь нашим, когда увидите своих!
Роман Романыч взялся за шляпу.
– А ты куда? – удивился Иуда Кузьмич.
– Домой. Дело есть.
– Брось! Я же еще пару заказал. И музыка уже пришла. Оставайся. Чего ты?
Но Роман Романыч отрицательно мотнул головой и подал приятелю руку.
Глаза у него были совсем трезвые.
Роман Романыч шел быстро.
Сердце билось учащенно. Но был спокоен. Голова ясна.
Думал только об одном: «Надо переодеться».
Оставаться в таком, как у того, костюме нельзя.
Надо как можно меньше быть на него похожим.
Старался не смотреть на встречных.
Казалось, что все глядят на него с удивлением, чуть не со страхом.
Вспомнив, что хотел недавно продать синий костюм, подумал: «Хорошо, что не продал. Этот продам».
С моря дул сильный ветер.
Прямые твердые поля шляпы вздрагивали от ветра.
«Шляпу тоже не надо», – подумал Роман Романыч, всходя на мост.
Мост – длинный, с четверть версты, высокий. Середина – как холм.
На мосту ветер дул сильнее. Было трудно идти.
Пешеходы, наклонив головы, крепко придерживали головные уборы.
Сильный порыв ветра чуть не сорвал шляпу с головы Романа Романыча.
Он придержал шляпу, но сейчас же отнял руку.
Остановился у перил. Нагнул голову, потряхивая ею.
Шляпа все слабее держалась на голове.
Сильнее потряс головою.
Подумал, даже вслух сказал: «Сейчас».
Ветер сдернул шляпу.
Роман Романыч пошел. Не посмотрел, как шляпа долетела до воды.
Оттого ли, что непокрытую голову освежал ветер, мысли стали яснее и спокойнее.
Встретилась девушка. Чем-то напомнила Веру.
Потом вспомнился последний позорный четверг у Смириных.
Мысль о том, что Веру не придется больше видеть, не пугала, не нагоняла тоски, как все это время.
Подумал: «Разве она – одна? Можно еще много встретить прекрасных девушек».
Вспомнились слова дяди Саши: «В нашу эпоху – вчерашнего не существует».
Стало совсем легко.
Пошел еще быстрее.
Ветер трепал кудри, то взбивал их над лбом, то сбрасывал на глаза.
Роман Романыч поминутно откидывал их со лба.
И вдруг подумалось, что волосы делают его особенно похожим на того клиента в сером.
«Даже пробор на правой стороне», – как говорил дядя Саша.
К себе в магазин Роман Романыч пришел переодетым в толстовку и синие брюки.
Алексей только что отпустил единственного клиента.
– Ну-ка, Алеша, – сказал Роман Романыч, садясь в кресло, перед зеркалом, – пока свободен, сними-ка, понимаете ли нет, мою шевелюру. Волос страсть как лезет. Бритвою, понимаете ли нет, лучше всего. Наголо.
Далее Роман Романыч видит в зеркало, как Алексеева машинка оставляет среди густых волос дорожку за дорожкою. Ряд за рядом, как скошенная рожь, уныло падают тяжелые пряди золотистых волос на грудь, прикрытую белым пеньюаром, с груди – на колени.
Движением колен Роман Романыч сбрасывает их на пол.
И ему становится необычайно радостно.
Такую необычайную радость он испытывал давно, еще мальчиком.
Тогда он только что перенес серьезную болезнь: скарлатину или дифтерит.
Тогда все, что видел, слышал, казалось новым, необыкновенным, радостным.
Чахлый городской сквер с десятком деревьев и пыльной травой, в котором он и раньше сто раз бывал, после болезни поразил его.
Он ходил в нем, как в сказочном лесу.
А вечером, когда сад закрылся, мальчик перелез через ограду и с бьющимся от страха и радости сердцем срывал единственные цветы захудалого сквера – кашку.
Вспомнив теперь о кашке, Роман Романыч сказал Алексею:
– Завтра – праздник. Поедем сегодня, понимаете ли нет, за город. С ночевкой. На вольный воздух. Чего тут киснуть? Покупаемся, на солнышке пожаримся.
Добавил тихо, мечтательно:
– Цветов, понимаете ли нет, наберем.
1929
ИГАРСКИЙ БАЛОК
Полярная быль
Участник недавней Карской экспедиции, корреспондент одной из московских газет, делясь со мною впечатлениями от поездки, рассказывал между прочим о порте Игарка (на реке Енисее, в Туруханском крае).
– Я не по своей воле с 1910 по 1913 год жил в Туруханском крае; несколько раз бывал и в станке (селении) Игарка.
В те годы, при царе, в Игарке было всего два дома, принадлежавшие мелкому торгашу Суркову или Сушкову.
А теперь Игарка – порт!
Я спросил участника Карской экспедиции:
– Кто первый житель Игарки? Так сказать, ее основатель?
На это он небрежно ответил:
– Вероятно, какой-нибудь туземец, по имени – Егорка.
Но если бы московский корреспондент был более любознательным, то туруханские старожилы рассказали бы ему занятную, страшную и романтическую историю о первом игарском жителе, не Егорке, а Степане Середе, убийце, каторжнике и палаче.
Это было в 90-х годах. Тогда политических ссыльных было мало в Туруханском крае. Были преимущественно уголовные, отбывающие после каторги поселение, и лишенцы или общественники, то есть высланные по постановлению сословия, к которому они принадлежали.
Царем и богом дикого тогда Туруханского края был пристав, он же наместник края и он же судья, Беневский.
Царское беззаконие и произвол особенно ярко олицетворились в этом диком, сумасшедшем человеке.
Беневский ездил на людях, как на лошадях, в буквальном смысле слова (впрочем, это производили в Туруханском крае и до него, и после полицейские и чиновные власти), ямщиков, даже несовершеннолетних и любого пола, Беневский бил плеткою, выбивал зубы. «Везти» Беневского считалось страшным несчастьем, при Беневском, и только при нем, мог безнаказанно творить зверства купец Сотников, прозванный инородцами Ло́ндуром (то есть человек-зверь), отрезавший должникам носы и уши. И Беневский однажды ударом шашки отсек ухо восьмидесятилетнему крестьянину.
Впоследствии за отрезанные уши, за езду на людях, за выбитые зубы и Беневского, и Сотникова постигла кара: спящего зверя-пристава зарубил топором пятнадцатилетний его лакей и любовник, крестьянский мальчик; Сотникова убил его работник-якут.
Так вот, в страшную эпоху правления Беневского в Туруханский край прибыл, отбывший срок каторги, убийца и каторжный палач Степан Середа, родом из Белой Церкви, Киевской губернии.
Сопровождали Середу его жена и теща.
Зверь Беневский отнесся к палачу снисходительно. Рыбак рыбака видит издалека.
Он предложил поселенцу по доброй воле избрать местожительство.
Середа поехал искать себе подходящее место.
В станках, с людьми, он почему-то жить не захотел и поставил землянку на высоком левом берегу Енисея, далеко за Северным полярным кругом.
А вскоре выстроил и избу.
А затем как-то быстро приобрел лодку, ружье, рыболовные снасти, то есть все необходимое для местного жителя.
Туруханцы говорили, что Середа изготовлял и сбывал фальшивые деньги.
По их мнению, он потому и не захотел жить в деревнях, вместе с людьми.
Возможно, это так и было.
Во всяком случае, Середа вскоре по приезде стал процветать: завел мелкую торговлю разным товаром и более крупную – спиртом, нанял в работники остяка. Словом, зажил припеваючи.
А кроме торговли и местного промысла Середа занимался еще промыслом «повсеместным» – игрою в карты, для чего специально ездил в тундру в тунгусские чумы и в соседние станки.
Этот промысел давал Середе по-видимому наибольший доход.
Брал он проигрыши и деньгами, и натурою: пушниной, оружием, порохом, дробью, съестными припасами, одеждою.
Однажды выиграл у урядника револьвер (не казенный, а лично принадлежащий уряднику); другой раз приобрел, также посредством игры, бало́к.
Балок – это нечто вроде кибитки, но защищен балок от ветра и холода со всех сторон; стенки его и верх – из оленьих шкур в несколько рядов – холода почти совсем не пропускают; в сильные морозы можно находиться в балке без верхней одежды; балки – не особенно высоки, в них можно только сидеть и лежать; залезать в балки надо через маленькую дверцу, которую затем можно закрыть изнутри на задвижку или на крючок.
Своим приобретением Середа очень гордился.
В то время в Туруханском крае было балков очень мало: у пристава, у миссионера-попа, у катехизатора и у двух-трех купцов.
Середа выиграл балок тоже у купца. Купец Далуцкий много раз за хорошие деньги пытался выкупить у Середы бало́к, но Середа никак не хотел с ним расставаться.
В нем же Середа страшно окончил свою жизнь.
Было так. В край прибыли поселенцы, бывшие каторжники – Поддубный, Дубенецкий и Глинка.
Все трое – родом из Белой Церкви, земляки Середы, вместе с ним были и на каторге.
Всех троих связывало кошмарное преступление: Поддубный заподозрил или уличил свою жену в измене и, при соучастии своих друзей Дубенецкого и Глинки, наказал изменницу: забил деревянный клин несчастной женщине пониже живота.
Прибывшие трое поселенцев не понравились приставу Беневскому.
Они были неуважительны и грубы, изъяснялись исключительно на каторжном диалекте.
– Я вас пошлю туда, где вы жизни не рады будете, – посулил им пристав.
– Дальше солнца не пошлешь, – ответил за всех Поддубный.
По описанию туруханцев, Поддубный – чистый «варнак» (разбойник): глаза у него были «кровяные», усы висели до самой груди.
Беневский сдержал обещание: отправил поселенцев к Середе, в нынешнюю Игарку, причем послал ему, все равно как своему стражнику, предписание, в котором говорилось, чтобы он, Середа, «утихомирил» всех троих и держал их в ежовых рукавицах.
Недавний палач не постыдился земляков и, хвастая, показывал им приставское письмо.
Надежды Беневского Середа оправдал: сделал жизнь землякам второй каторгой.
Лишенные всяких жизненных средств, Поддубный, Дубенецкий и Глинка вынуждены были работать на Середу, за что получали жалкие объедки с его стола. Одежда, которую он им дал, когда наступили холода, была настолько плоха, что все трое еще до наступления настоящей зимы поморозились.
За леность, непослушание, дерзость, а иногда и ни за что Середа жестоко избивал своих земляков и товарищей по каторге.
На стороне Середы были все шансы: физическая сила, которой он в высшей степени обладал, оружие, работник-остяк, такой же дикий и сильный, как Середа, и преданный ему как собака. Главное же: поддержка пристава, и вообще полиции, и источники существования, находящиеся в его руках.
С осени до весны, в мучениях голода и холода, часто избиваемые, прожили Поддубный, Дубенецкий и Глинка у страшного своего земляка.
Однажды, избивая провинившегося в чем-то Дубенецкого, Середа, в припадке гнева, выстрелил в него из выигранного от урядника револьвера.
Привезенный в город Туруханск в больницу раненый стал жаловаться приставу на самоуправство Середы, но Беневский, прервав его жалобы, спросил:
– Куда ранен?
– В грудь, ваше благородие, в самую грудь, – ответил Дубенецкий.
– Жаль, что не в самую голову, – сказал пристав и не стал составлять протокола по поводу происшедшего.
Дубенецкий выздоровел, но начал чахнуть. Он был ранен навылет в левое легкое. Пристав снова отправил его к Середе.
Разговор пристава с Дубенецким дошел до Середы. Жизнь Поддубного и его товарищей стала еще невыносимее. Середа широко пользовался правом безответственности, данным ему приставом. Для земляков он ввел настоящий каторжный режим и играл в домашней каторге роль начальника. Разговаривая с ним, земляки должны были держать руки по швам, при входе его в лачугу, где они помещались, они должны были вставать и стоять «навытяжку». Издевались над ними и жена Середы, и его работник.
Последнему Середа не раз говорил:
– Ежели что заметишь – бей в голову. Я отвечаю.
Положение Поддубного и товарищей было безвыходным. Бежать некуда: «наниз» (то есть вниз по Енисею), к Ледовитому океану, – безумие, «вверх», к Туруханску, – схватят стражники, в глубь берега, в тайгу, – опять гибель.
Единственно, что можно было сделать, это – убить Середу. Но это уже только месть, а не спасение. После этого – опять каторга.
Но лучше каторга, чем такая жизнь, – такое мнение особенно поддерживал Дубенецкий, пострадавший от Середы больше других: он харкал кровью.
Приступать к действиям земляки пока не решались, но уже таили где-то добытые или самодельные ножи.
А Середа, как бы нюхом зная об их замысле, усилил бдительность.
Приближаясь к землякам, он уже не командовал, как раньше: «Руки по швам!», а «Руки вверх!» Затем работник обыскивал их.
На ночь, по приказанию Середы, работник связывал всех троих и спал с ними в их лачуге. Но все эти меры не помогли.
Весною, когда открылась вода и пришел из Енисейска первым рейсом пароход «Туруханец», привезший в край вместе с «легальными» продуктами и тайный – водку, участь Середы была решена.
Середа грузил на пароход пушнину, рыбу и дрова, перевозил с парохода продукты и, конечно, спирт и вино; к нему, кроме того, наехали знакомые, в том числе и бывший владелец балка купец Далуцкий, играть в карты.
За хлопотами Середа не заметил, как исчезли трое его земляков.
Они вместе с ним грузили на пароход его товар и перевозили купленный им с парохода на берег и как-то вот исчезли. И унесли с собою две бутылки спирта, принадлежащие Середе.
Гости Середы, в частности и Далуцкий, впоследствии рассказывали, что исчезновение земляков Середы подействовало на него сначала удручающе: он прямо высказал мысль, что Поддубный и товарищи что-нибудь затевают против него, и не верил, что они удрали на пароходе.
– Куда им бежать? Что они, сами не понимают, что ли? Все равно же их пригонят ко мне.
Унесенный земляками спирт также убеждал Середу в том, что они ушли недалеко, на время.
– Для храбрости им нужен спирт…
Середа нервничал и играл плохо. Жена открыто выражала свою досаду и несколько раз, увлекшись и не замечая игроков, чуть не показывала ему, как надо передергивать, но вовремя спохватывалась.
В этот день Середа был в большом проигрыше. Первый раз за все время пребывания в Туруханском крае.
К ночи он напился, и состояние его стало бодрым.
Об исчезнувших земляках он говорил:
– Никуда не денутся. Мои будут. Не сегодня завтра Казимир Ромуальдович их мне доставит.
По-видимому, опьянев, он верил в то, что «враги» уехали на пароходе.
А гости, вероятно, все-таки опасались остаться у Середы. Ночью они все уехали на прибывших за ними лодках.
Берега огласились пением и криками гармоник.
Звуки эти послужили невольным сигналом таившимся невдалеке в лесистых берегах Поддубному и двум его товарищам.
Еще чернели вдали, на далеко видной поверхности реки, точки уплывших лодок, а пьяный работник Середы был разбужен грозным шепотом:
– Где хозяин, говори?
Три ножа блеснули перед сонными глазами остяка.
Он клялся, что не знает, – они его душили, резали и жгли огнем. Весь пол в избе был залит кровью. Пахло жженым мясом. Наконец остяк уже не отвечал ни слова.
Та же участь постигла и тещу Середы. Но она тоже ничего не знала.
Старая ее кровь смешалась с кровью богатыря-остяка.
Поддубный и его двое друзей тихо, без сапог, рыскали по всем закоулкам.
Зверь спрятался, притаился, но он – жив, он, может быть, следит за ними.
Недаром исчезли ружья: и его, и остяка.
И они, выйдя из дома, не шли, а ползли. Боялись неожиданной пули врага. И дрожащий от гнева и неудачи длинноусый Поддубный клялся шепотом, что выпустит себе кишки и выбросит их в Енисей.
Он жаждал крови, хотя бы это даже была его собственная кровь.
Но вот ползущий впереди Глинка шепнул, указывая пальцем на стоящий балок:
– А не там?
И все как-то сразу вспомнили, что Середа, нередко даже вместе с женой, спал в балке.
Совсем бесшумно, не дыша, подползли к балку и притаились, стараясь не проронить ни единого звука.
И вдруг в балке что-то зашевелилось, проворчал сонный голос. И сразу же, как по сигналу, воткнулись в кожаные стенки балка три ножа. Выдернулись, опять воткнулись. И опять. И опять…
Раздался дикий, заглушенный меховыми стенами женский крик:
– Степан! Ай!
А ножи втыкались, выдергивались. Опять втыкались. Из балка – выстрел, второй, третий.
Нападавшие, прячась от выстрелов, плотно прильнули к земле, но ножи их, подгоняемые яростью и страхом, все кололи и кололи.
А из балка уже не выстрелы, а ненавистный, но не грозный, как раньше, а умоляющий голос:
– Братцы! Возьмите все. Женку даже возьмите. Что хотите с ней делайте…
…Четверых зарезанных: Середу с женой, его тещу и остяка Поддубный с товарищами свезли на середину реки и выбросили в воду.
Трупы с камнями на шее пошли ко дну… «Рыбам на закуску», – как сказал Поддубный.
А потом пили и пили. Сожгли дом Середы со всем имуществом и свою лачугу.
А потом их везли к приставу, скованных по рукам и ногам.
Жители станков выбегали на берег поглядеть на «варнаков» с «кровяными» глазами…
Дом Середы со всем скарбом сгорел дотла.
Остался один балок, изрезанный, прорванный ножами, внутри залитый и забрызганный кровью, смешавшейся с вином.
У Середы в балке был маленький бочонок с красным вином. Он им защищался, подставляя бочонок под удары. Бочонок был проколот, вино вытекло.
Балка никто не взял. Даже бывший его владелец, Далуцкий, отказался.
И балок стоял очень долго на высоком безлюдном берегу.
Издали он походил на могилу без креста.
Теперь балка – могилы – давно нет.
Могила полиции, каторги и палачей – затоптана.
Теперь Игарка – советский порт.
‹1930›







