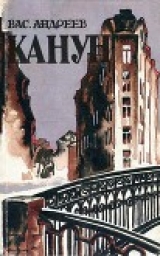
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 26 страниц)
КОМРОТЫ ШЕСТНАДЦАТЬ
Повесть
1
Шестнадцатая, она же штрафная, рота, особо выделенная из полка, была как бы гауптвахтой, но с той разницей, что если содержащиеся на гауптвахтах проводили время праздно и если лодыри шли «на губу» отдыхать, то в шестнадцатой все без исключения работали, труд был положен в основу дисциплины. Так что лодырей шестнадцатая отнюдь не прельщала, а, наоборот, отпугивала. И охотников попасть в нее не находилось.
Шестнадцатая не только заменяла полковую гауптвахту. В ней главным образом содержались штрафники, присылаемые из ревтрибунала и особого отдела N-ской армии.
Помещалась она в отдельном здании, служившем при царе казармой одному из гвардейских конных полков.
В шестнадцатой было четыре взвода.
Первый взвод составляли трудноисправимые, иначе – злостные штрафники, второй – исправляющиеся, третий – почти исправившиеся, четвертый – караульный – взвод состоял из бывших штрафников и кадровых красноармейцев.
Рота производила городские ремонтные работы, а кроме того, работы за городом – заготовку дров для Петрограда.
Городок, где стояла шестнадцатая рота, не являлся ни военным, ни торговым, ни промышленным.
В нем были лишь красивые здания, дворцы, парки с многочисленными фонтанами, статуями.
Большинство зданий пришло в ветхость, парки были запущены, фонтаны не били.
С первых же дней своего пребывания в городе шестнадцатая рота заставила заговорить о себе. Ею быстро исправлялся пришедший почти в полную негодность городской водопровод, чинились мостовые, по которым местами невозможно было ходить, ремонтировались здания.
Некоторые из жительниц города даже спрашивали командира роты о том, будут ли действовать фонтаны.
Если такой вопрос задавала девушка или молодая женщина, комроты, обнажая улыбкой сверкающие на смуглом лице зубы, ласково произносил:
– Со временем усе будет действовать.
Когда же спрашивала о фонтанах какая-нибудь из «бывших барынь», командир хмуро отвечал:
– Фонтаны – плешь, мадам.
О шестнадцатой роте говорили всюду. По ней проверяли время. Все знали, в какие часы в ней побудка, вечерняя поверка, когда штрафники идут на работу и с работы, когда обедают, пьют чай.
Жителями часто и в шутку и всерьез произносились такие слова, как «саботажник», «дезертир», «злостный штрафник».
Расшалившимся ребятам взрослые говорили:
– В шестнадцатую бы вас, озорников!
Или:
– К комроты шестнадцать – на выучку.
Даже те, кто знали фамилию командира, называли его в глаза: комроты шестнадцать.
Называли его так и ребятишки.
Они играли «в шестнадцатую».
Крупные и сильные из мальчуганов, исполняя в игре роль командира, подражали его мерной военной походке и кричали товарищам, изображавшим штрафников:
– У первый взвод отправлю!
2
Был послеобеденный час майского солнечного дня.
В канцелярии шестнадцатой роты остро пахло селедками. Четвертый день на обед давали селедочный суп.
После «куриного бульона», как в шутку прозвали похлебку из куреной воблы – блюда, с месяц не сходившего с ротного стола, селедочный суп всем, за исключением каптенармуса и переписчика, очень нравился.
Каптенармус отдавал свою порцию супа вестовому роты, добровольцу из пригородного селения, а переписчик ел суп только холодный и то чаще всего довольствовался выловленной из него селедкой.
И теперь на подоконнике нестерпимо сверкал на солнце медный бачок переписчика с еще не тронутой обеденной порцией. Поверхность супа в бачке была мутно-лиловой.
У окна, за большим столом, сидели командир и переписчик.
Комроты подписывал бумаги.
Это было для него самым неприятным делом. Все эти арматурные списки, рапорты и препроводительные записки писались из экономии на маленьких листиках бумаги. Места для подписи оставалось мало. К тому же и перо плохо слушалось командира: делало кляксы, зацепляло за мохнатую бумагу.
Поза у комроты напряженная, наморщенный лоб в поту, губы крепко сжаты, дыхание задержано.
Комроты всегда расписывался не дыша.
Переписчик Тимошин, невысокий, молодой, с мелкими чертами лица, чистенький, приглаженный, скучающе смотрел, как из-под пера комроты робко выползали уродливые буквы.
Несколько поодаль, за столом поменьше, на табурете, вплотную придвинутом к стене, сидел вестовой – белобрысый, веснушчатый подросток, крепко сбитый из широких костей и толстого мяса.
Толстяк только что съел две порции супа – свою и каптенармусову – и, приятно отяжелев, боролся с дремотой: таращил слипающиеся глаза, терся о стену спиной, о ножки табурета босыми квадратными ступнями. При этом издавал крошечным вздернутым носиком такое мощное сопение, что комроты сказал:
– Прошка, сопи культурнее!
Замечание командира ненадолго отогнало дремоту. Прошка, ухмыляясь, повторил несколько раз про себя показавшиеся ему забавными слова командира, но затем веки снова стали тяжелеть, истома охватывала тело. И опять начиналось почесывание и сопение.
Переписчик, уставший наблюдать за мучительной работой командира, зевая, сказал:
– Расписывались бы, Иван Афанасьевич, не полностью. Вот как адъютант полка. Две буквы и росчерк.
Комроты закончил подпись на арматурном списке, сделал выдыхание, поднял на Тимошина очень светлые, немигающие глаза, резко выделяющиеся на смуглом лице.
Несколько секунд молчал, словно вспоминая что-то, и не отводил глаз от лица переписчика. Потом глубоко вздохнул и произнес отчетливым, но слегка сиплым голосом:
– Адъютант когда и разговаривает – у глаза не смотрит. А по-моему, говоришь – глаз не прячь, расписываешься – ставь фамилию полностью. Надо честно!
Комроты отыскал на столе среди бумаг деревянный мундштук с криво сидящей в нем цигаркой, вычиркнул спичку и отвел ее в сторону, чтобы не ударяла в нос вонь. Закурив, продолжал:
– Ты, товарищ Тимошин, имеешь образование, прошел пять классов гимназии. А меня учил старикашка лет восьмидесяти с гаком. Больше матерился, чем учил. Ругаться научил по-настоящему, а читать – кое-как. Арифметику до умножения не дошли – ослеп мой учитель. Ну, а писать не на чем было, да и нечем: ни бумаги, ни карандашей. Да и учитель мой, кажется, писать не умел. После, как он помер, сообразил я на земле писать. После дождика очень отлично выходило. Да глуп я был – усе имя писал. Надо бы фамилию. Впрочем, ведь не знал я, что буду командиром шестнадцатой, – усмехнулся комроты и потер бритую, отливающую серебром голову, – да… Так и писал на земле, не имея таковой, – ткнул он пальцем в бумагу, – оттого и не наладился писать мелко и связно, усе с интервалами получается. Буква – интервал, буква – интервал. А бумажонки маленькие, поместиться на них трудно.
Опять усмехнулся, сказал раздумчиво:
– Знаешь, товарищ Тимошин, когда я эти бумажки подписываю, мне иной раз вспоминается история о том, как старорежимный генерал Суворов воевал со сладким стюднем. Слыхал такую историю?
Переписчик отрицательно качнул головой и положил перед командиром новую бумагу для подписи, а вестовой, окончательно поборовший дремоту, заранее улыбаясь, насторожился.
– Был Суворов у дворце, на обеде, – начал комроты, пыхтя цигаркой. – Ну, там, понятно, князья, княгини, царь Николашка…
– Суворов не при Николае был, – заметил переписчик.
– Не Николашка, так другая сволочь. Ты чего? – посмотрел комроты на прыснувшего в кулак вестового. – Еще рано смеяться… Ну, значит, сидит уся эта шпанка, музыка жарит «Боже, царя» и усе, что полагается, официанты подают на стол. На первое, конечно, не наш вот суп с селедкой, а настоящий бульон с пирожками, на второе тоже не свинина с картошкой, а антрекот с фрикадельками – или как там? Одним словом, соус провансаль.
Прошка, зажав ладонями рот, задрожал от смеха.
Таких смешных слов, как «антрекот», «фрикадельки» и «соус провансаль», он отродясь не слыхивал.
– На третье – сладкое, – продолжал рассказчик. – И опять же не компот, а какой-то сладкий стюдень. Забыл, как называется.
– Наверно, желе, – сказал Тимошин.
Прошка не выдержал, не ожидая и от Тимошина смешных слов. Он упал грудью на стол, зашаркал ногами, визжа:
– Жиле… жилетка! Ой, не могу!
– Эка дурень, – спокойно сказал комроты и выбил из мундштука окурок. – Так вот эту желе Суворову, понимаешь, никак не поддеть ложечкой. Ложечка-то – блоху кашей кормить. Старается Суворов, серчает, а желе – шлеп да шлеп обратно у тарелку. Не выдержал Суворов – пьяный был, – бросил ложку и выругался. «Сколько, говорит, городов узял, а такого дерма узять не могу».
Комроты замолчал, стал крутить цигарку. Прищурясь, посмотрел на чуть усмехнувшегося Тимошина, потом на Прошку, удивленно раскрывшего рот. Спросил его:
– Чего ж не смеешься?
Тот нерешительно ухмыльнулся:
– А как воевал-то… со стюднем?
– Вот так и воевал.
Прошка разочарованно вздохнул.
– Нескладная сказка.
– Расскажи складнее, – насмешливо сказал комроты и обратился к Тимошину. – Мне эту историю один старикашка рассказывал. Он служил у Суворова ординарцем.
– У Суворова? – засмеялся Тимошин. – Да ведь Суворов-то лет полтораста назад умер. Соврал ваш старикашка.
– Может, и соврал, – спокойно согласился комроты, – старики – любители врать. От скуки врут. Только я тебе к тому это рассказал, что, по-моему, лучше воевать, чем с разной мелочью возиться, с бумажками вот с этими… Однако заболтались! Какое там еще желе осталось?
– Вот приказ по роте. Больше ничего.
Комроты прочитал поданную ему переписчиком бумагу.
– Надо отдать у приказе, – начал он, но в это время в канцелярию вошел грузный человек в щегольском френче с ремнями, в узких синих брюках с красными кантами, в светлых сапогах офицерского фасона.
– А, товарищ Любимов! – сказал комроты.
Лицо вошедшего было красно, потно. Смущенно улыбаясь, он почтительно пожал руку командира, раскланялся с переписчиком, сел на придвинутый им табурет.
– Редко, редко к нам заходите, – ласково улыбнулся комроты. – У меня, кстати, к вам просьба, товарищ Любимов.
– Слушаю.
– На будущей неделе, у воскресенье, у театре будет концерт. Перед началом, понятно, митинг. Хотелось бы оркестр. Как бы это, товарищ Любимов?
– С огромным удовольствием, – улыбнулся тот.
– Ну и прекрасно. Спасибо. А у вас ко мне дело? Я и не спросил.
– Я… видите ли…
Любимов нерешительно кашлянул, оглянулся на переписчика, придвинулся вместе с табуретом к комроты.
Тимошин отошел в сторону, Любимов что-то зашептал.
– А препроводительная? – громко спросил комроты и через секунду – еще громче: – Встать!
Тимошин удивленно взглянул на поднявшегося с места и ставшего, как на учении, Любимова.
– Прошка! – сказал комроты. – Комвзвода три, живо!
Паренек, стуча твердыми пятками, выбежал из канцелярии.
– Иван Афанасьевич, – тихо произнес Любимов.
– Комроты шестнадцать, – так же тихо поправил комроты.
– Товарищ комроты…
Не слушая его, комроты обратился к вошедшему командиру третьего взвода:
– Товарищ Панкратов! Отправь штрафника Любимова у вверенный тебе взвод! Пять суток, согласно распоряжению командира полка.
Любимов шагнул было к нему, но четко, как по команде, повернулся кругом, щелкнул каблуками и вышел из канцелярии.
За ним последовал Панкратов.
Стоящий у дверей Прошка, пропуская выходивших, смотрел на них смеющимися глазами, прикрыв рот толстой веснушчатой рукой.
Комроты, машинально перекладывая на столе бумаги, тихо говорил:
– Пришел, как у гости. Без конвоира, препроводительная у кармане.
Встряхнул головою, громко спросил:
– Что у нас там, товарищ Тимошин? Приказ? Ах да! Надо отдать у приказе о переводе Суркова Николая из второго взвода у первый. Пиши!
Он побарабанил пальцем по столу.
Переписчик приготовился писать.
– Пиши, – повторил комроты, – штрафник второго взвода Сурков Николай за саботаж у работе переводится у первый взвод…
Подумал секунду, добавил:
– …с возложением на него, Суркова, самых дивных работ.
– Дивных? – усмехнулся переписчик. – Непонятно и смешно.
Комроты подождал, пока переписчик допишет, потом сказал строго:
– Когда этого пресловутого Суркова пошлют у нужниках очки чистить, ему усе будет понятно и не смешно.
Он вобрал в себя воздух и стал подписывать приказ, крупно, криво, с кляксами и с «интервалами».
3
Вечером того же дня, когда начальник полковой музыкантской команды Любимов получил пять суток ареста, в шестнадцатую звонил по телефону командир полка.
Произошел такой разговор:
– Комроты шестнадцать? Говорит Горбулин. Я отправил к тебе Любимова.
– Он сам пришел. Без конвоира.
– Это все равно.
– Нет, не усе разно. Штрафники как таковые направляются у шестнадцатую роту под конвоем.
– Брось формальности! Где он сейчас?
– На ремонте мостовой.
– Эх! Разве нельзя было использовать его иначе? В канцелярии, например.
– Он тоже просил. Только у канцелярии сейчас мало работы. Товарищ Тимошин один справляется.
– Знаешь, товарищ комроты шестнадцать, Любимов просрочил увольнение, пробыл два лишних дня в Петрограде. Вот и вся его вина.
– Товарищ комполка! Просрочить увольнение усе равно что дезертировать из части.
– Да, но запасной полк – тыловая часть. Не забудь это, товарищ комроты.
– Не забудьте, товарищ комполка, что вы и поступили с Любимовым как с тыловиком – дали усего пять суток.
Комроты слышал, как комполка проворчал: «Черт».
– Алло! Я слушаю, – сказал комроты.
Ответа не было. Подождал с минуту. Повесил трубку, усмехнулся.
– Серчает наш Горбулин.
– Товарищ командир, – нерешительно сказал переписчик. – У нас нашлось бы дело для начальника музыкантской команды.
– А тебе одному не управиться?
– Нет, не в этом дело… А только можно и для него подыскать.
– Не годится, – покрутил головой комроты. – Чем другие штрафники хуже его? Пришлось бы нам с тобой – и мы бы узяли у руки кирку или лопату. Что, не узял бы?
– Конечно, взял бы.
– То-то и есть. Так же и Любимов. А ты чего зубы скалишь? – спросил комроты ухмыляющегося вестового.
– Ничего, – ответил тот, но не выдержал, прыснул в кулак.
– Ничего, а ржет. Что смешного?
– На товарища Тимошина. Лопату, говорит, взял бы.
– И ты возьмешь, если надо будет.
– Я-то возьму, а он что с ней стал бы делать?
И мальчишка опять прыснул.
– Дурень! Что надо, то и делал бы. Вот субботник будет – увидим, кто из вас кого переработает.
– Я его загоняю, – уже не смеясь, уверенно произнес мальчуган.
Вошел комвзвода Панкратов.
– Вернулись? – обратился к нему комроты. – Как работали?
– Хорошо работали.
– Усе хорошо?
– Все.
– И Любимов?
Панкратов улыбнулся.
– Любимов старался. Только ему тяжело. Жирный. А старался. Глядя на него, и лодыри эти – Постоловский и Фролкин – стали нажимать. Все хорошо работали.
– Вот, – сказал комроты, слегка дотрагиваясь до руки переписчика, – комполка да ты говорите: «Дать Любимову дело у канцелярии». А выходит, что когда у него у руках лопата – пользы больше. Лицо командного состава у рядах красноармейцев и показывает пример. Молодец, товарищ Любимов! – горячо сказал комроты, оборачиваясь к Панкратову. – Скажи ему, что я благодарю. И прошу стараться усе пять суток… И… пущай не серчает. С ним поступлено справедливо.
По уходе Панкратова комроты говорил переписчику:
– Ведь у чем суть, товарищ Тимошин? Дай мы Любимову работу у канцелярии – что тогда скажут штрафники? Начальству, мол, везде хорошо, даже у шестнадцатой. Сидит, мол, перышком водит, а мы у земле копаемся.
– Это верно, – согласился Тимошин.
– Вот! Сам понимаешь. А тут усе на одном положении: и комсостав, и красноармейцы. Тому – лопату, этому – кирку, и дело в шляпе. Да и Любимов, спасибо ему, не подкачал. Даром что жирный, а сознательный.
Он засмеялся, довольный своей шуткой.
Он был в веселом настроении. Но продолжалось оно недолго.
Из штаба полка принесли бумагу.
Комполка писал:
«С получением сего немедленно освободить начальника музыкантской команды товарища Любимова».
– Та-ак, – протянул комроты, вертя в руках бумагу.
Глянул потемневшими глазами на штабного вестового, сутулого парня с лукавым лицом, глухо спросил:
– Командир в штабе?
– Никак нет!
– Домой ушел?
– Никак нет! Сейчас в парке видел их, с женой.
– Под душистой веткой сирени или… под белой акацией?
– Никак нет! Сидели у пруда, на зеленой скамеечке.
– Это то же самое… Прошка! – позвал комроты.
Паренек подбежал, застыл, выпятив грудь, вскинув осыпанное веснушками лицо.
– Позови Панкратова!
– Комвзвода три? – угодливо вопросил Прошка.
– Командарма четыре! – бешено крикнул комроты. – Дурень! Сколько у нас Панкратовых?
– Один, – прошептал оторопевший Прошка.
– Одного и позови, – неожиданно спокойно сказал комроты.
Панкратову он молча показал предписание комполка.
Панкратов пожал плечом и вышел.
С Любимовым, пришедшим проститься, заговорил ласково:
– Спасибо, товарищ Любимов, за добросовестную работу.
– Помилуйте! Работал-то всего два часа. Да и работа – пустяки. Трамбовал, – показал Любимов руками, как утрамбовывают, и тихонько засмеялся.
– Дело не у часах, а у качестве, – слегка наставительно сказал комроты.
Проводил Любимова как гостя. Вышел на площадку лестницы, а когда тот с нижней площадки откозырял ему, комроты помахал рукой:
– Усех благ.
Вернувшись в канцелярию, молча просидел за столом добрых четверть часа. Медленно свернул толстую цигарку, прикурил, закашлялся, бросил цигарку в консервную банку, служившую пепельницей, сказал с досадой:
– Испортил Горбуля усю обедню.
4
Прошка бесшумно вошел в канцелярию, сел на свой табурет и засопел.
Веснушчатое толстощекое лицо его было как распаренное, пухлые малиновые губы выпячены. Казалось – вот-вот заплачет.
– Чего дуешься? – спросил Тимошин.
Сопение усилилось. Наконец Прошка угрюмо пробасил:
– В третьем взводе болтают.
Комроты выдохнул из груди воздух, точно вынырнул, – он расписывался. Отложил перо.
– Что болтают?
– Про меня сперва, – чуть слышно пробурчал мальчуган, – дескать, толстомясый.
– Факт! Еще?
– Ему, мне то есть, в канцелярии благодать, умирать, говорят, не надо.
– Правильно говорят. Зачем умирать? Дальше?
– Про вчерашнего, про начальника… Как его?
– Любимов? Ну?
– Недолго, дескать, мурыжили. Часок поработал – и свободен.
– Ну?
– Ну и все. Смеются.
– Пройдись у штаб, – сказал комроты и сердито добавил: – Тут бумаги срочные, а ты по взводам шляешься, дурацкие речи слушаешь. Смотри, попадешь у два счета у первый взвод.
Прошка хмуро принял бумаги от улыбавшегося Тимошина и неторопливо, вразвалку вышел из канцелярии.
По улицам он обычно ходил распевая или посвистывая. Сегодня же ему было не до песен. Проклятые штрафники испортили настроение! И чего смеялись? Толстомясый! Что ж из этого? Он не виноват, что таким уродился. Люди разные бывают: толстые и тонкие. А каким лучше быть, еще не известно. Вот штрафник Прыгунов, что больше всех дразнится, – тощий, зато как схватится бороться – всегда под низом. А ведь Прыгунову двадцать пять лет, а Прошке – четырнадцать.
Такие мысли бродили в белобрысой, круглой, как шар, Прошкиной голове, не защищенной от лучей майского полуденного солнца.
Прошка свернул в парк. Здесь было прохладно, сильно пахло сиренью и еще чем-то хорошим.
Прошка так глубоко вздохнул, что воздух, как ему показалось, проник даже в живот. Замедлил шаг и, зажмурясь, сильнее втянул в себя воздух. Стало приятно и так радостно, что захотелось смеяться и петь.
Прошка уже затянул было: «Соловей, соловей, пташечка», но, увидя сидевших на скамейке мальчишек, громко о чем-то спорящих, принял деловой вид и пошел быстрее.
При его приближении мальчишки замолчали, а когда он прошел мимо, зашушукались. Затем один из них пропел:
Чудный месяц плывет по дорожке.
«Чудный месяц – по дорожке. Никак меня разыгрывают? – подумал Прошка. – Я ведь по дорожке иду. Не иначе как про мою это харю, про толстую».
Услышал сзади шаги, тихий смех. Обернулся.
Мальчишки, шедшие за ним скорым шагом, сразу остановились, запели хором:
– Толстый, жирный – поезд пассажирный!
Кровь горячо прилила к Прошкиным щекам.
Он погрозил кулаком:
– Я вам!
Один из мальчуганов, ростом с Прошку, – остальные были поменьше, – выступил вперед, крича с напускным задором:
– Даешь сюда, толсторожий!
А в грудь Прошки стукнула еловая шишка, брошенная кем-то из ребят.
Задирания пятерых мальчишек только рассердили, но не испугали Прошку. Городских мальчишек он не боялся, считая их «воздушными», «тонконогой командой» и «негожими на кулак».
Поэтому, сунув в карман штанов бумаги и тетрадь, заменяющую рассыльную книгу, Прошка двинулся на обидчиков с угрозой:
– А вот я с вас макарон наломаю, тонконогая команда!
Мальчишки бросились бежать.
Впереди всех понесся главный забияка, только что вызывавший Прошку на бой.
Прошка от неожиданности опешил, разинул рот.
«Эва, как толстомясого забоялись», – подумал удивленно.
Злость и обида мгновенно испарились. Прошка погнался за ребятами, крича во всю силу своих здоровенных легких:
– Тю-у-у!
Так, бывало, кричал в деревне, пася овец.
А мальчуганы и бежали, как овцы: жались друг к дружке, толкались.
Один из них стал отставать, оглянулся на Прошку, шмыгнул с дороги в кустарник.
Прошка устремился за ним. Бегал он быстро, а его босым твердокожим ногам было не больно ступать по сухим веткам, шишкам.
Мальчик же, тоже босой, бежал неуверенно, поминутно спотыкался, отдергивал от земли, словно ожигаясь, то одну ногу, то другую.
«Непривычный босиком», – сразу определил Прошка и усилил погоню.
Выбежали на поляну.
Мальчик, настигаемый Прошкой, кидался то вправо, то влево.
– Умаешься, зайчонок! – весело покрикивал преследователь.
Он почти схватил мальчугана. Тот отпрыгнул в сторону, споткнулся и упал.
Прошка с разбегу плюхнулся на него, вскрикнул торжествующе:
– Есть!
Мальчуган отчаянно забарахтался под ним, закряхтел, суча ногами по земле.
– Ша-лишь, – протянул Прошка, тяжело наваливаясь на него грудью.
Мальчик перестал барахтаться, прохрипел:
– Пусти! Больно.
Прошка поднялся. Встал и мальчуган, содрал с головы кепку, устало вытер ею лицо, потное, обрызганное ржавой водой.
Дышал он порывисто, раскрытым ртом. Глядя на Прошку робко и удивленно, тихо пробормотал:
– Тяжелый очень… Чуть не задавил.
«Притворяется», – подумал Прошка и закричал деланно-сердито:
– А ты чего задирал, тонконогая команда?
Черные глаза мальчика испуганно дрогнули.
– И не думал даже, – заговорил он слезливо, – честное слово, мальчик, не думал! И ребят отговаривал. Я не дурак задевать деревенских, да еще таких здоровяков, как ты.
– А зачем бежал?
– Испугался… Думал, бить будешь.
– Буду! – нахмурясь и подступая к мальчугану, сказал Прошка.
– Бей! – сказал с безнадежной решимостью мальчик. – Бей, силы у тебя много. Только не за что! Да и что тебе меня бить, – беспомощно развел он руками, – на одну ладошку посадишь, другой придавишь – и мокренько будет.
Прошка, чтобы скрыть улыбку, вызванную словами мальчугана, медленно провел мясистым кулаком под маленьким носом. Под ним, кстати, было мокро.
«Занятный», – подумал он о мальчике. Не хотелось с ним расставаться. Старательно ковырял ноздрю круглым и красным, похожим на морковь пальцем, раздумывая, что сказать, что делать, но придумать ничего не мог.
Вспомнил, что надо идти в штаб. Вытащил из кармана смятую тетрадь, разгладил на коленке.
– Заболтался с тобой, а тут – срочные дела. Идем! – слегка толкнул мальчугана. – Марш!
Тот покорно пошел, опустив голову, потом уныло спросил:
– Куда идем-то?
– Куда велю, – строго сказал Прошка. – Направо! Марш!
Когда вышли на аллею, крикнул:
– А ну, шагай веселей! Не то раздавлю.
Мальчик испуганно оглянулся, пошел быстрее.
Прошке стало жаль его, поравнялся с ним, обнял за шею, сказал ласково:
– Боязливый очень.
У подъезда здания, где находился штаб, велел мальчику дожидаться. Выйдя, удивился, что тот стоит на прежнем месте, похвалил:
– Молодец, что не убежал. Теперь за это я тебя не трону. Пойдем к домам. Как звать-то?
– Колька.
– А лет сколько?
Прошка засмеялся, что складно вышло. Улыбнулся и мальчик:
– Четырнадцать.
– Не похоже. От силы можно дать двенадцать, – с сожалением вздохнул Прошка, – мне тоже четырнадцать, а вона я какой. Толстомясый, верно?
Ему уже нравилось, что он толстомясый.
– Деревенские вообще здоровые, толстые, – сказал Колька.
– От воздуха. Воздух в деревне пользительный.
На улице, недалеко от казарм шестнадцатой роты, Прошка, прощаясь с новым приятелем, погладил его по плечу:
– Ты хороший, Колька, смиренный, не хулиганил. Хочешь, будем товарищами?
– Будем, – согласился Колька, и черные глаза его весело блеснули. – А звать тебя как?
– Прошка… Знаешь, когда тебя кто тронет из мальчишек, скажи мне.
– Ладно! Ну, прощай! Надо домой.
Колька побежал. Прошка посмотрел ему вслед, потом исступленно замаршировал и запел весело, но необычайно фальшиво:
Соловей, соловей, пташечка,
Кинареечка жалобно поет!
Подходя к казармам шестнадцатой роты, оборвал пение и с разинутым ртом поспешил во двор казармы – там выстроились штрафники, а вдоль шеренги расхаживал комроты.
Прошка захватил только заключительные слова его речи:
– Итак, повторяю: Любимов отозван у вверенную ему команду по случаю срочных делов. И еще повторяю: он с фронта не дезертировал, а просрочил увольнительную по независящим обстоятельствам. Так что стыдно третьему взводу как самому сознательному сеять провокаторские слухи.
Комроты остановился, кашлянул, сделал два шага назад, скомандовал:
– Смирно!
Шеренга застыла.
– Налево! Ать, два!
Горнист затрубил.
Третий взвод возвращался в казарму.
5
Начальник полковой музыкантской команды Любимов сдержал обещание – дал оркестр для митинга в городском театре.
Спектакли ставились бесплатно для военных и детворы, с взрослых вольных взималась грошовая плата. Но, попросясь, мог и взрослый без денег пройти в театр. Красноармейцы, дежурившие у входа, обычно пропускали безбилетных.
Шестнадцатая рота всегда присутствовала на спектаклях. Кадровый ее состав и даже штрафники считались или, во всяком случае, считали себя почетными зрителями.
На это имелись основания: театр многим был обязан шестнадцатой роте. Она отремонтировала театр, из штрафников были театральные рабочие – плотники, уборщики и монтер, кудрявый злостный дезертир, называвший себя электриком; из штрафников же набирались статисты, изображавшие толпу, солдат и т. д.
Пьесы ставились фронтовые, с битвами, расстрелами. Во время хода действий неумолчно гремели выстрелы, одиночные и пачками.
Первое время стрельба в театре тревожила живущих в ближайших домах людей, но скоро жители привыкли к стрельбе и, заслыша ее, говорили:
– Спектакль начался.
Городская публика охотно посещала театр, когда даже не было постановок, а происходили только митинги.
Теперь у входа в театр и на стенах близлежащих домов пестрели аляповатые афиши работы штрафника Сашки Пухова, «художника от слова „худо“», как его называл комроты шестнадцать; вообще же Пухов был известен даже за стенами ротной казармы под прозвищем «малохольного».
Афиши вещали: «В воскресенье, 16 мая с. г., в городском театре состоится концерт силами красноармейцев стрелкового запполка N-ской армии. Играет духовой оркестр. Перед концертом – митинг».
Внизу малохольный Пухов счел нужным приписать: «После митинга – концерт». И поставил три восклицательных знака: красный, зеленый и фиолетовый.
За полчаса до митинга оркестр, расположась у театра, привлекал публику музыкой; с улицы неслись пение и свист красноармейцев, направлявшихся под командой в театр.
Театр помещался в здании бывшего манежа, который мог вместить половину населения городка.
Поиграв несколько песен, музыканты прошли в театр. Прошла шестнадцатая рота, стала набираться вольная публика.
Оркестр – уже перед сценой – играл вальс. Несколько пар закружилось в некотором отдалении от мест для публики, по усыпанному песком манежу. Клубилась пыль, поднятая танцующими. Тут же кучка мальчишек, хохоча и визжа от восторга, наблюдала за неравной борьбой тщедушного парня с здоровенным мальчуганом – штрафника Прыгунова с Прошкой.
Но вот музыка смолкла. Поднялся занавес. Парочки прекратили танцы, стали занимать места. Прошка очищал вываленного им в песке Прыгунова и говорил с досадливым сожалением:
– Силенка комариная, а завсегда лезешь. Скажи спасибо, что я добрый. Другой бы не дал пощады.
Мальчишки оставили борцов, уже не представлявших для них интереса, и поспешили к сцене, перестреливаясь сухими головками вобл.
Посреди сцены, за столом, обтянутым кумачом, сидело четверо военных. Из них публика знала двоих: командира и комиссара шестнадцатой роты.
Командир поднялся, опираясь руками о стол, произнес глуховато, но внятно:
– Митинг шестнадцатой штрафной роты стрелкового запполка N-ской армии считаю открытым. Слово имеет комиссар вышеизложенной роты товарищ Нухнат.
Нухнат только накануне вернулся из отпуска. Это был молодой красивый блондин с глазами небесного цвета.
Из-за цвета волос и глаз комиссара многие не верили в его еврейское происхождение, а штрафник Рубашкин прямо утверждал, что Нухнат – сын попа из Великих Лук.
Но Рубашкин слыл за несусветного враля, и над ним смеялись.
Комиссар Нухнат был хорошим оратором и обладал необычайно сильным голосом. Когда голос его гремел на митингах, не верилось, что говорит этот низкорослый, с узкой, почти детской грудью человек.
И теперь гремящая речь комиссара была покрыта рукоплесканиями; кричали «браво», а чей-то восторженный женский голосок крикнул «бис».
Комиссар пользовался расположением и симпатией женщин; получал массу писем от влюбленных в него незнакомок.
Сперва вскрывал письма и рвал их не читая, а потом стал рвать не вскрывая, уже по почеркам определяя, что корреспонденция не деловая и ему не нужная.
Сейчас, когда комиссар кончил говорить и, спеша на другой митинг, спрыгнул со сцены, к нему подошел мальчик и, краснея, подал маленькую записку.
– От кого? – спросил комиссар, не принимая записки.
– От тетеньки, – прошептал мальчик и стал совсем пунцовым.
– От родной?
– Нет… От чужой.
Комиссар погладил мальчика по плечу:
– Отнеси обратно! И никогда не служи вестовым у тетенек, даже у родных. Понял?
Мальчик надвинул на глаза кепку и убежал, окончательно пристыженный.
А на сцене уже расхаживал комроты шестнадцать, сжимая в руке фуражку, остановился, заговорил глуховато:
– Товарищи! Моя речь будет немногосложна. Я только постараюсь обрисовать наглядную картину, как относятся некоторые элементы к текущим событиям дня. Вам небезызвестно, товарищи, что сейчас наши геройские красные части бьются, как львы, с белыми бандами. И вот у тот момент, когда рабоче-крестьянская Красная Армия с беззаветной храбростью отражает натиск врагов и бьет золотопогонную сволочь, у этот исторический момент, товарищи, существуют у нашей республике такие позорные типы, каких нельзя отнести ко львам, а, наоборот, к зайцам.
Комроты обвел вспыхнувшими глазами первые ряды, где сидели штрафники.







