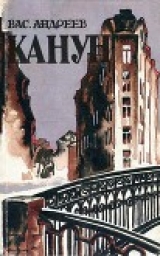
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
Я люблю миноры нежной ласки…
Стук в дверь заставил его прервать чтение. Поспешно спрятал тетрадь в ящик комода.
Застучали громче, нетерпеливее.
– Секунду терпения!
Суворов оправил на комоде кружевную салфетку, потом уже отворил дверь.
Гостями оказались старый знакомый Чайкин, бывший плясун хора песенников Травкина, и какой-то мальчуган.
– Павлуша, друг! Сколько лет, сколько зим! – воскликнул Суворов, целуясь с приятелем.
Чайкин снял фуражку, вытер платком лысину, обвел глазами комнату:
– Я думал, ты с барышней заперся.
Обернулся к пареньку:
– Садись, Евся! В ногах правды нету!
Тот сел на краешек стула, содрал с головы кепку, пригладил светлые волосы.
– Родственник? – кивнул на него Суворов.
– Вроде Володи, на манер серой лошади! – ответил Чайкин, морщась и старательно вытирая потную рубцеватую шею.
– Ты все такой же балагур, Павел Степаныч! – засмеялся Суворов.
– Слушай, Женька! – сказал вдруг Чайкин серьезно. – Не будем зря лясы точить. Есть, так сказать, конкретное предложение. Этот вот парнишка – мой двоюродный племяш. Мальчишка не балованный. Не пьет, не курит, к девчонкам не приучен. Хочу пустить его по своей старой специальности. Занимался с ним полгода. Еще несколько уроков – и будет плясать, как бог. Да чего? Ты, Женя, исполни «Барыню» или что там такое, а он спляшет. Можно в кухне, там места много.
Мальчуган быстро поднялся, расстегнул пиджак, выставил правую ногу, подпер левой рукой бок.
Суворов слегка дотронулся до руки Чайкина и заговорил мягко, но убедительно:
– Извиняюсь! Разрешите снести фактическую поправку в только что внесенное вами предложение. Дело в следующем: оценивать талант юного артиста нет надобности, так как из твоей речи, Павлуша, видно, что он является твоим непосредственным учеником, следовательно, ты как спец в данной области несешь ответственность за свои слова. Рассматривать же работу молодого человека через призму праздного любопытства предоставим массе, не посвященной в тайны артистического мира.
Он медленно поднялся, оперся о стол руками, прищурился.
Подумал о себе, что похож на оратора. Продолжал, силясь придать голосу оттенок величественной грусти:
– Дорогой товарищ! Вам более, чем кому-нибудь, известно, что под мою «Барыню» и «Во саду ли» выступали как вы сами, так и другие индивидуумы, яснее говоря – ваши товарищи по профессии. Не будем останавливаться на многих именах, огласим наиболее громкие: Сеня Приветов – классический исполнитель «Трепака», «Казачка» и тому подобных танцев – гастролировал со мною по городам, расположенным на живописных берегах Волги. Вкратце, назовем хотя бы Нижний Новгород. Затем, под мою игру покойный Бархатов Сережа пожинал лавры здесь, в северной столице, в частности на сцене Петровского парка. Наконец, опять же благодаря меня, на Ирбитской ярмарке взошла звезда несравненного, тоже покойничка, Игнаши Плюхина. Впрочем, комментарии излишни. Я думаю, имя Суворова само говорит за себя.
Он отошел от стола, засунув руки в карманы шаровар.
– Постой, Женька! – сказал, воспользовавшись паузой, Чайкин, но Суворов, приятно улыбаясь, сделал предупредительный жест рукою:
– Извиняюсь, дорогой товарищ! Я еще не кончил. Итак, перед нами молодой талант! Прекрасно! Но покажите мне его при свете рампы, оденьте его в костюм, соответствующий моменту. Нельзя же так: «Сыграй, мол, Женька, а он спляшет!» Что за кустарное производство? Что за обывательский подход?
Продолжал с неподдельной горечью:
– Эх, Чайкин, Чайкин! Все эти дефекты происходят оттого, что ты отошел от нашего общего дела. Сам неоднократно заявлял, что занимаешься уже давно сапожным ремеслом и, мало того, даже считаешь его своей основной профессией. Стыдно, милый, так опускаться! С гордостью могу сказать о себе, что лишь один я из всей стаи славных по-прежнему незыблемо стою на страже изящного искусства.
Ласково погладил лежащую на стуле гармонь, сказал с дрожью в голосе:
– Никогда тебе не изменю, подруга дней моих суровых, голубка дивная моя!
Подмигнул и добавил уже весело и не без бахвальства:
– Можем, друже, блеснуть красноречием, а? Видишь, и литературкою, где надо, щегольнули, стишатами, елочки зеленые! Не сердись, Павел, обыватель мой разлюбезный! За прошлое я тебя ценю и уважаю.
Погладил Чайкина по плечу так же ласково, как только что гладил гармонь. Тот стряхнул его руку, сказал раздраженно:
– Черт тебя знает, Женька! Что ты за человек! Я еще рта не успел раскрыть, а он уже залился курским соловьем. Да пойми ты, чудак-рыбак, что я привел Евку вовсе не плясать. Я же тебе определенно сказал, что имею конкретное предложение. А ты мне поешь арию французского напева. Голова с мозгами!
Суворов пожал плечами, произнес сухо, официально:
– Потрудитесь внести ваше конкретное предложение, уважаемый товарищ!
Обратился к пареньку, стоявшему все в той же выжидающей позе, с рукою, упертой в бок.
– Сядьте, милейший! Демонстрирования танцев пока не предполагается.
Мальчик сел. Лицо его из розового стало пунцовым. Суворов сказал ласково:
– Вы, дорогой, не смущайтесь! У нас с Павлом Степанычем специальная беседа. Так сказать, прения сторон на почве профессиональных разногласий.
Мальчуган покраснел гуще, затеребил кепку.
Чайкин нервно заговорил.
Суворов слушал внимательно. Понял из слов Чайкина, что тот предлагает выступать с его племянником. Последний в качестве плясуна.
– Дело, брат, верное! Вдвоем вы можете не только в трактирах, но и в театрах работать, да и опять же по городам, на гастроли. На одну гармозу и то идет публика, а ежели с пляскою – пачками повалит. Особливо в провинции.
Суворов взволнованно заходил своим мелким танцующим шагом.
– Это, дорогой друг, абсурд! Я исключительно одной своей игрою влияю на окружающую среду. Кто в театрах танцевал мою «Чародейку» или «Лесные ландыши»? Никто! А найди хоть один граммофон, который бы их не исполнял. Мне приятель рассказывал – слышал мои «Лесные ландыши» в трактире, чуть не на самом Северном полюсе, ну да – в Архангельске. Завели, говорит, граммофон. Тьфу, говорит, мать честная, Женькины «Ландыши».
Продолжал задумчиво и как бы с грустью:
– Такая судьба всех знаменитостей. Вот Пушкин, писатель, когда-когда помер, а книжки его и посейчас существуют. Сам недавно читал. Так и мы сейчас вот беседуем, а где-нибудь, за границей, граммофоны исполняют мои польки. Буржуазия, поди, массу граммофонов за границу-то повывезла!
Вдруг оживился:
– Слушай, Павлушка! Скажем, в Париже: шумит, это, ночной Марсель, то есть река такая, вроде как у нас Нева. Автомобили, это, экипажи, огни фонарей. А в ресторане – по-ихнему ресторан – отель-де-Пари – сидит, скажем, парочка: он и она. Определенно французы. А граммофон исполняет мою «Чародейку». Она – кавалеру: «Ах, какой шикарный фокстрот!» А шестерка, по-ихнему, понятно, гарсон: «Ничего подобного, мадам-с! Это не фокстрот, а полька «Чародейка» знаменитого русского гармониста Евгения Суворова».
Суворов хлопнул руками по коленам, шумно засмеялся:
– Га-а! Елочки зеленые! Ловко? Га-а!
И мальчуган широко улыбнулся, блестя светлыми зубами и румянцем.
Только Чайкин досадливо сплюнул:
– Тьфу, ботало, прости господи! С тобой, Женька, честное слово, нельзя вести деловые разговоры. Брось ты свои граммофоны! Граммофоны и публика – две большие разницы. Публике давай не только для уха, а и для глаз. Как ты превосходно ни играй, но если еще разнообразить репертуар пляскою – это уже плюс.
Суворову нравилось предложение Чайкина.
Он сам недавно искал хорошего плясуна, но сейчас «выдерживал марку». И потому сказал серьезным деловым тоном:
– Твоя идея, Павел, мне совершенно ясна. Но мне нужно время обмозговать ее. Взвесить все «за» и «против», понял? А молодой человек тем временем закончит полный курс. Если соглашусь – извещу письменно. Адрес тот же? Прекрасно.
Провожая гостей, добавил:
– Принципиально я согласен, но необходимо выполнить некоторые формальности.
4
Есть люди, придающие огромное значение самым пустяшным своим поступкам и действиям.
Кажется, чихнут – так и то словно сделали всемирное открытие.
К таким людям принадлежал и Суворов.
Бывало, во время попойки, кто-нибудь заметит:
– Я думал, ты, Женя, и пить-то разучился. А ты хлещешь куда с добром!
Суворов наполнял стопку пивом, выпивал, не отрываясь, чмокал донышко, затем победоносно оглядывал присутствующих.
– Учитесь пить у Суворова! Молодые еще, елочки зеленые!
Выпить стопку пива без отдыха мог не только каждый из его собутыльников, но и любой непьющий, женщина, мальчик, но Суворов искренно не замечал того, как люди делают то или другое.
Что мог он, того никто, как ни ершись, не сделает!
А если уж в пустяках проявлялось это его самохвальство, то в серьезных делах оно переходило всякие границы.
Так, он вполне искренно был уверен, что все те знаменитые плясуны – «классический» Приветов и прочие – своей знаменитостью обязаны исключительно ему.
Конечно, музыка и пляска между собою тесно связаны, но если человек не только плясать, а ходить не умеет – спотыкается на ровном месте, – тут хоть засыпь его деньгами и дай музыкантов всего мира, все равно ни «Барыни», ни «Во саду ли» не получится.
Этого-то Суворов и не понимал.
Не раз распространялся в кругу друзей:
– Под мою «Барыню» корова на льду «сдробит», а ежели исполнить что-нибудь сердечное, например на сибирский манер «Голубочка» или в сплошном миноре и при аккордном равновесии вальс «Муки любви», – тут не только человек, а, можно сказать, дредноут и то заплачет. Мой закадычный друг, писатель Коленкин, Евгений Орестович, от пустяков рыдал. Бывало, в «Лиссабоне», зазовет в кабинет: «Тезка, сотвори „Сама садик я садила!“» Ну, я, определенно, разведу, а он – расстраивается. Схватит стакан или иной соответствующий предмет и об пол. Девиц прогонит, а сам рыдает.
Из всех гармонистов Суворов считал равным себе лишь своего учителя, Костю Черемушкина, да и то, возможно, потому, что того уже не было в живых – кончил самоубийством, или, как образно выражался Суворов, «погиб на коварном фронте любви».
Память покойного Суворов чтил: наблюдал могилу; ежегодно в день трагической смерти Черемушкина, если был при деньгах и не в загуле, обязательно служил панихиды; особенно близким друзьям показывал большой фотографический снимок красивого черноглазого парня с прическою «бабочкою» и с двумя рядами жетонов на груди.
– Мой коллега, Черемушкин Костя, – говорил Суворов с важностью. – Человек был всех мер и бесподобный игрун в свое время, вроде как теперь я.
Портрет у него хранился в ящике комода.
– Ты бы – в рамочку да на стенку, – замечал кто-нибудь из гостей.
– Ни к чему, – сухо говорил Суворов, – всякий станет глаза пялить.
– Ну так что же? А как же памятники? Все их видят.
– Это тоже неправильно, – почти сердито отвечал Суворов. – Изображения знаменитых людей надо уважать и показывать тому, кто достоин.
Вероятно, исходя из этого соображения, он и свою фотографию хранил вместе с портретом Черемушкина в ящике комода и почти никому не показывал, хотя злые языки утверждали, что Суворов не показывает своего портрета потому, что у него там всего четыре жетона, к тому же один даже и не за игру, а солдатский «За отличную стрельбу», тогда как у Черемушкина жетонов – плюнуть некуда, вся грудь увешана.
Чайкин не дождался суворовского письма, сам прислал к нему племянника с запискою, в которой предлагал Суворову выступать с Евсею в ресторане, находящемся в центре города.
«Я на всякий пожарный случай согласился от твоего имени, – писал Чайкин. – Если откажешься – придется искать кого попало. Только, Женя, прошу тебя как старинного друга и товарища – соглашайся. И сам не будешь в обиде, и меня выручишь. А то мальчишка зря болтается без дела».
Прочтя записку, Суворов обратился к мальчику:
– А вы, молодой человек, полный курс прошли?
Мальчик приподнял тонкие, точно нарисованные, брови, глаза округлились – стал похожим на куклу.
– Чего это?
– Ну… дядя ваш закончил преподавание танцев? – пояснил Суворов.
– Не знаю. Он говорит, ежели вам желательно, – я могу сплясать, чтобы вы, значит, видели, – проговорил мальчуган звонкой скороговоркою.
Суворов усмехнулся:
– Чудак ваш дядя! Такие дела с молотка не делаются. Пусть придет, ну хоть завтра, совместно с вами. Сговоримся, обсудим как и что, приведем, так сказать, все к одному знаменателю, а тогда уже и репетиции. Так и передайте ему.
– Уж вы лучше ему напишите, – попросил мальчик. – А то я позабуду. Как его? Знаменатель, что ли?
Он конфузливо улыбнулся.
Суворов, вздохнув, подошел к комоду, достал лист бумаги и розовый конверт.
Подумал, что деловые письма должны быть кратки и официальны, и написал:
«Многоуважаемый Павел Степаныч! Всесторонне взвесив ваше предложение, всецело присоединяюсь, ввиду чего предлагаю вам завтра, в воскресенье, от часу до двух дня явиться ко мне совместно с племянником для обсуждения наболевших вопросов, касающих вышеизложенного предложения. Присутствие вашего племянника необходимо с точки зрения демонстрирования танцевальных номеров и тому подобное. Остаюсь известный вам Евгений Суворов».
На конверте вывел крупно и неровно: «Павлу Степанычу, гражданину Чайкину». Подумал и надписал полный адрес, причем особенно старался над словом «Ленинград» и буквами «В. н.».
Вручая письмо мальчику, сказал:
– Это вот «вэ» и «нэ» обозначает: «весьма нужно». Поняли? Так и передайте дяде, что весьма, мол, нужно.
5
На другой день Суворов и Чайкин быстро пришли к соглашению. После переговоров Чайкин сказал:
– Ты в своем «Саратове» целый вечер басы жмешь, а там за те же деньги сделаешь четыре номера: два сам по себе да два с Евкою и – кум королю. Да и место все-таки публичное. В центре. Вот что главное!
На эти слова Суворов равнодушно отвечал:
– Работы там, определенно, меньше. А что касаемо центра, то это мне все равно. Меня, милый, рестораны не удовлетворяют. Мне театр нужно, рампу. Турне во всероссийском масштабе.
Слово «турне» он услыхал на днях в «Саратове» от какого-то пьяного, не то куплетиста, не то музыканта.
Довольный тем, что удалось применить это новое красивое слово, а главное – состоявшейся сделкою, Суворов весело сказал Чайкину:
– Погоди, Павел Степаныч! Расправим старые орлиные крылья и опять раздуем кадило. Суворов еще прогремит в светлом будущем, елочки зеленые!
Обратился к племяннику Чайкина, который, готовясь к репетиции, переодевался в принесенный им костюм плясуна:
– И вас, молодой человек, вытащим из обывательского болота и поставим на благодарную почву.
Обернулся к Чайкину:
– Хорошо, Павлуша, что догадались костюмчик захватить. Поднимает, знаешь, настроение.
Чайкин оживился:
– У меня, браток, все делается начистоту. Товар – лицом.
Он быстро подошел к мальчугану, взял из его рук шапку с павлиньими перьями, сам надел ему на голову, подвел к Суворову:
– Ты, Женя, обрати внимание, каков экземпляр-то, а? Ты посмотри: форменный русский красавец. Кровь с молоком. И ростом приличный. Ведь всего шестнадцать пареньку-то! И телом, гляди, аккуратный: не толстый и не заморыш. Мяса и всего прочего в нормальном количестве.
Он словно продавал племянника:
– Смотри грудь! Двое суток плясать будет и не задышится. А ноги, икры-то. Резина!
– Все это – второстепенно, – возразил Суворов. – Главная суть, Павлуша, – талант. Плюхин, Игнаша, сам, знаешь, был мелкого калибра и плюс – беззубый, а плясун какой, а?
– Не любил я Игнашкину пляску, – нахмурился Чайкин. – В цыганщину впадал, а это для русского танца не модель. И наружного вида не имел Игнашка. А это тоже плохо. Ничего, по-моему, у него не получалось!
– Не получалось! – усмехнулся Суворов. – Триста пятьдесят мы с ним в один вечер на ярмарке, на Ирбитской, у купцов заработали!
– Можно и за стакан семечек тыщу заплатить. У денег глаз нету! – сказал Чайкин и быстро добавил, боясь, очевидно, что разговор затянется. – Ну ладно, Женя! Игнашка сгнил давно, шут с ним! Начнем, что ли? Время-то уж много!
– Пожалуй, начнем! – согласился Суворов.
– Ну-с, Евсей Григорьич Коноплев, – шутливо сказал Чайкин, обращаясь к племяннику. – Приготовьтесь к экзаменту!
В кухне, куда перешли все трое, был уже накрыт стол. Это Суворов, по случаю коммерческого дела, позаботился о выпивке и закуске.
Тетя Паша сидела у стола, подперев рукою щеку.
По-видимому, ждала, когда Суворов и гости усядутся закусывать.
Евся вышел на середину кухни, встал, немного отставив правую ногу.
Белый и румяный, тонкобровый, большеглазый, в плисовой безрукавке поверх голубой рубахи, в нестерпимо сверкающих сапогах, был он похож на большую дорогую куклу.
Тетя Паша не удержалась, вскрикнула, всплеснув руками:
– Вот красавчик-то! Господи, царю небесный!
На что Суворов заметил с неудовольствием:
– Повремените, уважаемая, выражать интимные чувства. Сейчас у нас предстоит дело серьезной важности.
Обратился к Чайкину:
– С «Во саду ли» начнем?
– Определенно, – кивнул тот.
Суворов в быстром переборе проиграл второе колено песни и тотчас же заиграл первое в медленном отчетливом темпе.
Евся легко вскинул правую руку к шапке, левую – на бедро.
– У-лыбка! – четко сказал Чайкин.
Румяные Евсины губы раздвинулись. Блеснули белые зубы.
Евся пошел кругом как бы нехотя, слегка шаркая.
– Выходка приветовская, ленивая, замечаешь? – зашептал Чайкин на ухо Суворову.
Тот неопределенно пожал одним плечом. Заиграл чаще, отчетливее.
Евся пошел быстрее, легче. Как по воздуху. Шарканья не стало слышно.
Потом, сразу, мелко задробили каблуки.
И снова бесшумно выбрасывались в стороны ноги в светлых сапогах. Плели невидимую веревочку в такт плетеным серебряным голосам гармонии.
Голоса гремели громче, торопливее. Порывисто и густо вздыхали басы.
Музыкант шевелился на стуле. Резче, нетерпеливее дергал гармонь.
Но вот прокатился последний звук и умолк.
И одновременно с ним замер, с застывшей на лице улыбкою, плясун, держа в откинутой руке шапку.
Но Суворов тотчас же прокричал:
– Играю «Барыню»!
Сначала вкрадчивые, лукаво-веселые звуки, как затаенный девичий смешок, затем пьянящий, беззастенчивый смех властной женщины.
Евся лихо дробил, четко и отрывисто семенил ногами. Легко несся в разгульном плясе.
Чайкин, стоя рядом с Суворовым, тоже выстукивал каблуками дробь. Хрипло выкрикивал:
– Евка! Чечетку – чище! Пистолетика – короче!
Хлопал в ладоши, ожесточенно потирал ими:
– Эх, мать-Вазуза, не потопи города Саратова, э-эх!
Музыка и пляска сплелись в один пестрый клубок удали и веселья.
И не понять было, что над чем царит.
Казалось, не пройди плясун в легкой и мощной, мягкой и дерзкой присядке, остановись он – замрет музыка. Умолкнет музыка – недвижим станет плясун.
И замерли одновременно музыка и пляс.
И опять застыл, с прежней румяной улыбкою, с откинутой в сторону рукою, плясун, торжествующий и приветливый.
Суворов поставил баян на пол, рядом со стулом. Слегка забарабанил пальцами по столу.
Чайкин сел к столу, искоса пытливо поглядывая не Суворова.
Тетя Паша улыбалась, утирая умильные слезы, и, не спуская глаз, смотрела на Евсю, старательно затягивавшего развязавшийся пояс.
Вдруг Суворов быстро поднялся с места.
– Ну? – не вытерпел Чайкин.
Суворов подошел к Евсе, все еще занятому поясом, обнял его и поцеловал три раза.
Затем, подойдя к взволнованному, удивленному Чайкину, так же трижды облобызал и его.
– Женя, ну чего ты? – смущенно и растроганно спросил Чайкин.
Суворов промолвил дрогнувшим голосом:
– Бархатов Сережа, имея восьмилетний стаж, хуже плясал… Больше ничего не имею сказать.
6
Ресторан, куда Суворов, по рекомендации Чайкина, нанялся играть, более, чем какой-нибудь окраинный «Саратов», напоминал плохой трактир царского времени.
Чадный, неуютный зал кишел пьяными посетителями: сезонниками, накрашенными девицами, молодыми людьми с ухарскими зачесами и разухабистыми манерами.
Владельцем ресторана оказался старый знакомый Суворова, Петр Петрович, по прозвищу Баран.
Когда-то, в дни суворовской юности, он был скотским барышником, а также содержал артель шулеров, играющих в «три карточки» и в «ремешок» в местах народных гуляний. Суворов вспомнил, что тогда не раз видел в Екатерингофском парке Барана в тарантасе, запряженном белогривою шведкою, объезжающим стоянки своих игроков.
Теперь на Суворова неприятно подействовало, что Баран притворяется ничего не помнящим.
– С братом вы меня смешали, не иначе. Никаких я коров отродясь не продавал, – говорил Баран, звеня деньгами в кармане брюк, – и в Екатерингофе, кажись, никогда не бывал.
Зевнул и добавил:
– Впрочем, раза два был. Представления ходил смотреть.
– Так вот я на сцене-то и выступал тогда. Неужели не помните? – спрашивал Суворов. – И в «России», на Обводном, вы сколько раз меня играть нанимали!
Но Баран стоял на своем:
– Ничего этого не помню. Ошибаетесь вы. Обознались, я так думаю. Тем паче что гармонию я не обожаю.
Но особенно смущало и раздражало Суворова отношение к нему публики.
Всех исполнителей она принимала хорошо, даже старательно хлопала концертному трио, играющему весь вечер, а он, Суворов, получал неоткровенные жидкие аплодисменты.
Не поднимали настроения публики даже «Чародейка» и «Лесные ландыши».
Евся же, так же как и автор-юморист Лесовой-Зарницын, выступал всегда на бис.
Евся с первых дней стал пользоваться всеобщим успехом, перезнакомился со всеми постоянными посетителями.
То один, то другой из гостей приглашали его к столу, заказывали для него что-нибудь в буфете.
К концу вечера он так наедался пирожков и бутербродов, что отказывался от новых угощений, разве только выпьет стакан лимонада.
– Ты смотри, с девчонками осторожнее! Ведь это не кто иные, как падшие феи, проституция, – как-то сказал Суворов Евсе, – и парни тоже шпана, хулиганье.
– А мне чего, – улыбнулся Евся. – Лидка мне пирожного взяла, а тот вот Колька все уговаривает водку пить, а я заместо водки лимонад требую.
Во время этого разговора подошел тот самый Колька, о котором только что говорил Евся.
– Товарищ гармонист, – задышал он на Суворова пивом. – Ты вот Коноплева почаще выпускай. Мало он у тебя пляшет. Ты бы сам поменьше играл. А то разведешь из оперы «Богородица, дева, радуйся» или «Как черт шел из неволи», так прямо блевать тянет, честная портянка!
Суворов опешил. Смог только произнести задрожавшими губами:
– Гражданин! Прошу без замечаний, елочки зеленые!
Парень махнул рукою, сказал с досадою:
– Тьфу, в бога мать!..
И отошел, задевая за стулья.
Евся стоял красный до слез. Избегал смотреть на Суворова.
Взволнованный Суворов ушел в «артистическую» – маленькую, грязную и холодную, как сарай, комнату, заходил там на танцующих ногах.
– Елочки зеленые! Еще центральный ресторан называется. Убежище воров и проституток!
– Вы, коллега, прямо в точку попали. Здесь самый цвет Лиговки и Обводки, – пробасил автор-юморист Лесовой-Зарницын, пудрясь перед разбитым зеркалом.
Узнав, чем возмущен Суворов, он сказал, как бы с разочарованием:
– А, вот в чем дело! А я думал, что у вас карман вырезали или баян уперли. Это, коллега, чепуха! Я первое время тоже кипел негодованием, а теперь, за три года, привык.
– Я, уважаемый товарищ, не три года играю, – еще больше кипятился Суворов, – я еще в эпоху царизма неоднократно награждался жетонами. Мои произведения до сих пор исполняются граммофонами в Париже, елочки зеленые! Под мою игру не мальчишки плясали, а такие имена, как Приветов и Плюхин. А это, уважаемый товарищ, не сопляки были, не Коноплевы, а классические исполнители русской пляски.
Напудренное лицо автора-юмориста стало грустным.
Он взял руку Суворова в обе свои тонкие, костлявые руки, заговорил умоляюще:
– Милый, голубчик! Напрасно обижаете мальчугу. Он очаровательно пляшет. Огромный талант! Самородок! Его бы в балетную школу. Эх, милый мой! Да вы же сами знаете! Он затмевает вас, простите меня за откровенность!..
Эти слова поразили Суворова сильнее, чем недавняя выходка хулигана Кольки.
– Затмевает? – прошептал Суворов почти с ужасом.
Но в этот момент заглянул в дверь Евся:
– Евгений Никанорыч! Сейчас – нам! Певица кончила!
Выходя в зал, Суворов столкнулся в дверях с певицею и не извинился.
«Затмевает, – думал он. – Затмевает».
Действовал, как во сне.
Не видя Евси, стоящего на ступеньке эстрады, поднялся на эстраду, взял в руки баян.
«Затмевает», – снова подумалось.
Вместо «Во саду ли» заиграл «Ах вы, сени…».
Очнулся, когда услышал Евсин шепот:
– Евгений Никанорыч! Не то! «Во саду ли».
И еще чей-то насмешливый пьяный голос:
– Затерло Суворова с пирогами!
7
– Сыграйте что-нибудь трогательное!
Суворов с некоторым удивлением посмотрел на ресторанную продавщицу пирожков и приятно улыбнулся:
– Что же именно? Вальс «Муки любви» или «Разбитое сердце»? Очень нежные вещи.
– Сыграйте и то и другое.
– С восторгом, уважаемая Зоичка.
Суворов поднялся на эстраду.
Быстро и ловко расстелил на коленях свою бархатную с золотым шитьем подстилку, перекинул через плечо ремень баяна.
Играл с чувством, старательно, с вариациями и аккордами.
Волновался. Но сидел, как всегда, неподвижно. И выражение лица было пренебрежительное.
После игры подошел к девушке, сидевшей за официантским столиком, спросил небрежно:
– Ну-с, как? Понравилось?
– Мерси. Очаровательно.
Суворов пристально посмотрел на девушку. Серые глаза ее с пушистыми ресницами были серьезны и грустны. Сказала тихо:
– Мне ужасно нравится баян. Особенно, когда хорошо играют.
Суворов достал из кармана шаровар портсигар, предложил девушке папиросу. Она отказалась. Сказал тем же небрежным тоном:
– Музыку редко кто чувствует. Надо иметь абсолютный слух, чтобы правильно реагировать.
– Вы очень хорошо играете.
– Мерси за похвалу.
Суворов сделал длинную затяжку, прищурился:
– Как будто умею играть.
– Мне ваш приятель, Коноплев, говорил, что вы были известный гар… музыкант.
Суворов затеребил в зубах папиросу:
– Был! Что за странный вопрос? И в настоящее время моя слава гремит по всей России. Поезжайте, например, в Ирбит или в Нижний…
Далее пошел рассказ о «классических» плясунах, о его, суворовских, жетонах и польках.
Зоичка спокойно и грустно смотрела на Суворова, потом взяла со стола поднос:
– Извиняюсь! Мне нужно за пирожками.
С этого дня Суворов каждый вечер, в свободные часы, беседовал с Зоичкой.
Вернее, говорил он, а она слушала.
Рассказывал о себе: как он с малолетства имел влечение к музыке и как его драл за это отец, вспоминал о Черемушкине.
– Игрун был покойничек – бесподобный. От рождения – левша. Так он, верите или нет, в гармонии планки переставил – приспособил, одним словом, для левой руки. У него я и обучался, а потом уже сам усовершенствовался.
– Я ужасно завидую талантам, – спокойно говорила Зоичка. – А у меня никакого таланта нет. Ни на чем не играю и не пою.
– Играть на баяне – для женщины необязательно, – поучительно говорил Суворов. – В женщине как в таковой преобладают красота и нежность. Поэтому она должна вдохновлять знаменитостей. Короче говоря, содействовать искусству.
– Красоты у меня тоже никакой, – грустно улыбалась Зоичка. – А знаменитости разные на меня и смотреть-то не захотят.
– Как сказать, – загадочно улыбался Суворов.
Зоичка брала поднос с пирожками и тихо шла через зал, останавливаясь у столиков.
Суворов мечтательно смотрел ей вслед и думал:
«Славная девица! Кокетка только, тихонькой прикидывается, елочки зеленые!»
Уходили домой вместе: он, Евся и Зоичка.
Недалеко от ресторана, у трамвайной остановки, прощались с Зоичкой.
Суворов задерживал ее руку в своей, говорил нежно:
– До завтра!
Она опускала глаза:
– Пока!
Евся шалил: сжимал ее руку так, что она вскрикивала, или, когда уже подходил трамвайный вагон, не пускал ее садиться:
– Обожди, Зоя! Завтра уедешь.
Вообще, отношение его к Зоичке не нравилось Суворову: обращался, как мальчишка с мальчишкою.
– Фамильярности у тебя много, – замечал ему Суворов, – с барышнями так нельзя, как ты с Зоичкой.
– Кислая она какая-то, – смеялся Евся, – боится всего. Будто стеклянная. Того и гляди – разобьется.
– Нежная, а не кислая, – хмурился Суворов и прибавлял наставительно. – О женщинах тебе, брат, еще рано рассуждать. Надо сначала приобрести опыт, специальность.
– Я ничего и не говорю, – недовольным тоном отвечал Евся. – Я только насчет Зойки, что не нравится она мне.
Суворов молчал. Ему почему-то было по душе это Евсино признание.
8
Слава Евси Коноплева росла с каждым днем.
Он стал любимцем не только пьяных завсегдатаев ресторана, но и сам бесчувственный Баран, вечно занятый загадочными делами с какими-то трезвыми немолодыми людьми, и тот усердно аплодировал плясуну, тогда как остальных исполнителей, не исключая и автора-юмориста, совершенно не замечал.
Только Суворов равнодушно относился как к успехам своего партнера, так и ко всему, что вокруг происходило.
Выступая соло, он с необыкновенным чувством исполнял или мечтательные вальсы «Муки любви» и «Разбитое сердце», или «Аргентинское танго» и «Шимми» – словом, все, что просила Зоичка.
И покидал эстраду не заботясь о том, какое впечатление произвела его музыка на публику.
А самого Евсю собственный успех не радовал, а огорчал: на бис он выступал неохотно, а однажды, вызванный в четвертый раз, категорически отказался плясать.
– Ну, Коноплев, вали голубок, э-эх! – подмигивал Баран. – Покажи им свою храбрость! Слышь, как требуют?
– Ну их к черту! – рассердился Евся. – Они всю ночь будут требовать, а я пляши? Какие симпатичные! Им все равно пиво-то лакать, а у меня ноги не казенные.
С первых дней близко сойдясь со многими посетителями, он также быстро стал избегать общения с ними.
– Ты, кажется, своей судьбой недоволен? Смотри, сколько заимел поклонников и поклонниц, чего тебе еще надо? – иронизировал Суворов.
Евся угрюмо отвечал:
– Ну их! Нешто это люди? Барышни все как есть шлюхи подпанельные, глупости разные болтают, а парни: «Пей да пей!» Я в деревню уеду, – неожиданно говорил он. – Надоело! Здесь пляши! Дома дядя в футбол не дает играть. «Ноги, мол, мучаешь». И босиком ходить не велит: «Порежешься, говорит, тогда как плясать-то будешь?»
– Это он правильно, – замечал Суворов.
Евся смотрел на него обиженными глазами:
– Правильно! Сам он, небось, плясал-плясал, а теперь сапожником заделался.
– Твой дядя чудак, – хмурился Суворов. – Он изменил святому искусству.
– Так что же, всю жизнь плясать, что ли? – насмешливо и сердито перебивал Евся. – Этим всегда кормиться не будешь. Ремесло неподходящее.
– А как же в балете? – тоже сердился Суворов. – До седых волос пляшут, и ничего!
Но Евся упорно стоял на своем:
– Это не работа. Надо работу настоящую сыскать.
– Сделайся сапожником, – усмехался Суворов. – С дядей на пару и стучите.







