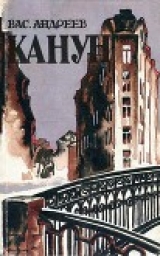
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 26 страниц)
Кроткая, хорошая. Только невеселая какая-то всегда.
Васька ее не обижает.
Таких – нельзя, неловко.
Первую свою любовь, Нютку-Немку, потерял, пока на германском фронте вшей кормил, – как в воду канула.
С Марусей живет ладно, скучновато только.
Не для такой он жизни – сам понимает.
Сидит, сидит иной раз дома, в праздник, и самому странно и неловко: он, Васька, покровский боец, в рубашке, подтяжки спущены, в туфлях, покуривает, – будто какой чиновник банковский, буржуй бурелый.
Непонятно и неловко.
И все странно: комната вот – мебель, комод, там этажерка.
Смех!
А главное – жена седьмой месяц ходит. Значит – ребенок, соски, пеленки…
Отец семейства – Васька-Пловец.
– Тьфу!
Плюется досадливо.
Жена – глаза ребячьи, кроткие, спокойные – телкины – поднимает.
– Что с тобой, Вася?
– Мыла нажрался, тошнит, – Васька сквозь зубы.
– Мыла? Откуда мыло? – удивляется жена.
– Мало ли откуда!
Губы кусает. Не в духе Васька.
13
Несколько дней, как с работы, с электрической станции, приходит – гуляет по вечерам по улицам.
Неспокойно что-то, не по себе.
Раньше улицы бромом действовали, а эти дни никак не успокоиться.
Дома же – совсем невозможно.
Дышать нечем.
Жена последний месяц ходит.
Скоро плач детский, пеленки, молоко – шаги предпоследние на Васькином, на боецком пути.
Да и боецкий ли путь?
На четвертый день своего вечернего блуждания по улицам встретил Нютку-Немку.
Спустилась. В барахле. Нос сизый. Голос – петлей ржавой.
Опытным глазом сразу «свешал».
– Проститутка последней марки – факт!
«Эх! Этого еще недоставало! Зачем встретилась? Старые раны бередит эта еще… Стерва, не могла соблюсти себя. Жили бы и сейчас честь честью…» – думает Пловец, губы кусая, быстро по улицам идя, паруся клешем семидесятидвухсантиметровым. Сплевывает направо и налево пену-слюну, как загнанный в беге конь.
И торопится, точно по делу.
А народу на осенних вечерних улицах много. Толпами густыми, парами больше, не торопясь, как в танце каком-то проплывают, в вальсе волнующем и красивом.
Вальс! Вспоминается «Молдаванский вальс».
Он – этот вальс – похоронная, отходная давнишнего атамана Вальки-Баяниста, песня-молитва, он – вальс этот – жизнь его, Вальки, путь боецкий, – Ваську толкнул из городулинской «нарочной» партии в «заправдышную», покровскую.
Зачем он, Пловец, не погиб такой же славной смертью, как Валька или Самсончик?
До конца не прошел заветного пути зачем?
Те оба, Баянист и Самсончик, бойцами и умерли, путь свой прошли весь, от первого до последнего шага.
До ночи бродит по улицам шумным, блещущим окнами домов и ослепительными подъездами электролото и ресторанов.
Из них, из шумных этих улиц, сворачивает в глухие темные, задумавшиеся, остановившие бег свой улицы, ожидающие точно чего-то.
Остановившиеся улицы, они – невыносимы. На них бодрость теряют ноги, неуверенно звучат шаги.
Жутки остановившиеся в беге своем, пустынные, без трамваев, людей и лошадей улицы.
Словно конечного пути, конца пути словно заворот.
Уходит из них Васька.
Их – тихих, безголосых, безглазых – как тлению подвергшихся мертвецов, не любит Васька.
Нет! Любит! Нельзя не любить улиц. Но любит тягостно, тоскливо, как мертвецов близких.
Мертвые улицы!
Опять – на проспект, блещущеглазый, с трамвайными, автомобильными восторженно-гулкими напеваниями, с трамвайными мигающими, как обещающие глаза женщин, огнями, на проспект широкий, открытый – иди все! – всех пропустит сквозь строй плечом к плечу стоящих гигантов – каменных солдат.
На проспекте всегда жизнь, лишь замедляется к ночи стремительный бег его.
У светлого угла, схватившись в крепких порывистых хватках, кричат звонко и смело, словно днем в саду каком, мальчишки-папиросники.
Падают на панель, не ушибаясь, не раздирая грубой кожи босых ног, будто не камень земля, а мурава шелковая.
Вот они, будущие бойцы, завоеватели мира!
Расцепились, воинственно смотрят друг на друга, готовы снова в бой.
Остановился Васька, улыбнулся приветливо, но согнал улыбку и грубовато-приятельски:
– А ну-ка, плашкетня, кто кого? Полста лимонов тому, кто накепает.
Подбежали оба, дышат горячо, горящими глазами – в тянущие из бумажника пальцы кредитку.
– Даешь! – оба пропели.
И быстро:
– Не обманешь, товарищ?
– Зачем? Вот – кладу.
Положил на ступеньку подъезда деньги.
Встали друг против друга.
Один – татарчонок, судя по говору и широкоскулому смуглому лицу, крутогрудый и мясистый – предлагает бороться:
– Пу-французску давай.
Другой – стройный и, видимо, ловкий, но менее сильный, – не соглашается. Васька поддерживает его:
– Чего бороться? Стыкнитесь. Самое разлюбезное дело.
Сошлись. Дерутся долго, с переменным счастьем. Васька стоит, расставив ноги в колоколах клеша, откинув полы пиджака, кусает губы, как в детстве – ворот рубахи. Чешутся руки, направить хочется неправильные удары, усилить недостаточно сильные.
Ловкий, тонконогий хлещется хорошо, но татарчонок значительно сильнее.
Когда, забывая правило, схватываются руками, сила на его стороне. Сгибает тонкого противника, как ветер вербу.
Тогда Васька кричит недовольно:
– Не хватайсь! Вы! Маралы! На кулак – так на кулак! Ты, мордастый, не лапай.
Вспоминает, глядя на толстого татарчонка, городулинского Афоньку и добавляет:
– Говядина!
Наконец, решает кулачный спор:
– Ну, будет. Оба прилично хлещетесь, плашкеты. Полста прибавлю. Разделите поровну… Шикарно хлещетесь! Только ты, Ахметка, все руками лапаешь. В стычке так нельзя – это не борьба.
– Я на борьбу его ломаю, два счета ломаю, – говорит татарчонок, – во!
Он хватает тонкого в охапку:
– Во! Скольки фунт пойдет?
– Брось! – говорит Васька. – Получайте деньги.
– Говядина! – еще раз говорит…
Куда идти? На Лиговку, где, возможно, Немка опять?
Посмотреть на нее, рану разбередить?
14
Гулко звучат, звонко по тротуару ночному шаги. Кажется, говорят они, шаги.
Четкие, упорные.
Парусит, по ногам хлещет семидесятидвухсантиметровый клеш.
Как у Самсончика, вспоминается, – тогда, в бою…
Самсончик!
Черный весь, металлический, твердо-черный, на питерской пригородной земле. Лежащий, но как памятник – величавый, плоско лежащий, даже особенно плоско, как лежат мертвецы, но в то же время вознесенный монументом.
А вот и здесь памятник.
За оградою ночного сада Екатерины-императрицы памятник.
У подножья – любовники.
– Курва, – плюется Васька и, пройдя несколько шагов, сталкивается с женщиной.
Раскрашенное лицо. Глаза выжидающие из-под низко сидящей шляпы.
Улыбается слишком яркими, клоунскими губами.
«Такая же, как та», – думает о женщине и о памятнике Васька.
Много т а к и х в поздний час.
Ночью много.
А та, коронованная проститутка, скипетром как бы благословляет их.
Выпустила на улицу.
Благословила:
– Идите!
И вот пошли, ходят, ищут самцов, не знающие других исканий.
Ищут, ходят здесь, по проспекту, не день, не два – годы, десятки.
Их этот путь.
Свой путь они проходят.
Слепые на слепом пути.
Ночные – на ночном.
Быстрее идет Васька.
Скоро Лиговка. Немка, наверное, там.
И как бы испугавшись возможной с нею встречи, сворачивает в улицу боковую.
И опять – памятник!
«А, – вспоминает, – Пушкин! Александр Сергеевич!..»
Маленький, чахлый вокруг сквер. Робко и кротко, как листья металлических кладбищенских венков, чахлых деревцев сухая листва осенняя шелестит, позвякивает.
Грустно, как над могилою, склонив непокрытую голову, черный в ночной тьме улицы, узкой – коридором – улицы, черный, недвижный, камнем вознесенный бронзовый человек.
Пушкин!
Вот кого встретил, дошел до кого, в тоске бродящий Васька, путь свой затерянный ищущий, – вот до кого дошел.
До старого, в веках живущего бойца. И не может отойти, словно уйдя – потеряет что-то ценное, тайны какой-то не узнает.
Вспоминает, что стоял уже он, Васька, давно когда-то перед памятником и говорил что-то.
Мучительно, напряженно силится вспомнить – когда же это было!
И вдруг: «Ах, это у Пушкина, в истории одной есть, как с памятником чудик какой-то разговаривает, сумасшедший»…
И почему-то вслед за этой мыслью просветленному взору Васьки открылось, что весь путь его сегодняшний и раньше, с малых лет, был путем того сумасшедшего пушкинского «чудика», с памятником разговаривавшего, от памятника в страхе убегавшего, – ненужный, тяжелый и гибельный путь.
Главное же, не боецкий вовсе!
Задрожал даже от мысли такой, схватился за холодное, сырое железо ограды. «Как не боецкий? А Самсончика и Вальки разве не боецкие пути?»
И вдруг ясно до нестерпимости стало, что Самсончика и Вальки пути только и начались тогда, когда они пали.
А Христос-Гришка совсем не проходил пути.
Всю жизнь они готовились к нему и сделали наконец по одному шагу. Гришка же не сделал и шага даже.
Валькин шаг – набег на квартиру Дерзина и конец его там.
И потому похороны его так шикарны были, что для многих дорог стал, не для товарищей по дракам, а бердовцам, рабочим, – дорог.
И венки ихние, бердовские, были, и гроб на руках бердовцы несли.
И дальше нестерпимо яркие мысли: он, Васька, потому фронта жаждал и терялся, когда фронты закрылись, потому это, что хотел шаг хотя один сделать – первый шаг на боецком пути.
На пути, начатом бесчисленными рабочими питерскими и других городов. Но ведь и он, рабочий, разве не может он пойти по этому пути, указанному многими провидящими?
И этот вот, стоящий, указывал – бронзовый боец.
15
То, чего снизу не видно, видится стоящему на высоте.
Так увидел в миг короткий, с горы точно, с башни-каланчи какой-то, увидел Пловец раскинувшуюся под ногами свою жизнь.
Всю, с детских городулинских лет до последнего мига, не словами припомнил, не воспоминаниями, а так сразу у з н а л о с ь п р о с т о, с о з н а л о с ь с а м и м с о б о й, что не было пройдено им ничего, не было шага на пути своем, на Васькином, на Пловцовом пути, на боецком.
И от усталости ли, пришедшей нежданно, от тоски ли, охватившей внезапно, опустился, сел, полулег на холодный сыроватый тротуар.
Почувствовать хотел успокоение от земли, от б у л ы ж и н хотел бодрости набраться, ласку панельную принять.
Было так всегда, с детства, с городулинских еще лет.
Отцом ли обиженный, побитый товарищами ли, или так, неуверенность, тоска, что ли, когда овладевала, довольно было прилечь на землю, на камень дневной ли, горячий от солнца, или холодно-скользкий, вечерний – все равно, тишина какая-то, бодрость, вера в тело входили.
И снова живи.
Снова – бейся, боец, Пловец-Васька.
На тяжелое на что иди – земля родная, мать каменная, питерская булыжная земля – в тяжести поможет, не оттолкнет от себя – поверь в нее только.
Как тогда, попранная было врагами, идущими неведомо откуда, – попранная – снова ожила, воскресла, лишь только прислушались к ней, поверили когда в нее, с в о е й когда ее признали бойцы, – снова покой и мир дала, кровь пролитую приняла и сохранила. И возвеличила.
И так полулежал на холодной сыроватой ночной панели и словно ждал, что призовет она, земля-мать, путь укажет, какой шаг сделать и когда.
И вдруг услышал.
Невдалеке, но не в улице этой, а на проспекте ли том широком, неясное, но тревожное, шумливое что-то.
Звали точно, кричали, но без слов.
– У-у-у, – гулом неслось.
Вскочил, на шум этот кинуться хочет Пловец и не может понять – где.
Откуда – шум?
И – новый звук.
Заскакало, запрыгало звонкое что-то.
«Свисток, – понял Пловец, – милиционер свистит».
И точно обрадовался, поверил точно, что начнется сейчас долгожданное.
У земли родной просимое – дано.
А свисток свистал тревожнее, ближе.
И новый еще звук.
Трещащим, каменным словно, мячиком, не каменным даже, а более твердым, – ба-бах!
«Стреляют!» – мелькнуло быстро.
И не зная еще где, бежал, чувствовал, что туда, куда надо, прибежит – не ошибется.
Хлопал клешем, фуражку примял, как давно приходилось когда-то.
И быстро из улицы узкой, коридорной – на проспект. И сразу отовсюду нахлынули звуки, точно притаились и ждали за углом.
Звонко скачущий свист и:
– А-а, держи-и-и-и, – многогрудое – волнами в моряну – заколыхалось.
И покрывавшее сразу все – каменный мяч – ба-бах!
Видел: по мостовой бежит, углами режет мостовую, то вправо, то влево.
Приостановился. Полусогнутую – вытянул руку бегущий…
И – невидимый – каменно опять бабахнул мяч.
Не мыслями думается в такие моменты. Как думается, как делается – трудно определить.
Помнит Васька, что при виде бегущего, стреляющего бандита – радость почувствовал жуткую какую-то.
Не такая ли радость была хлещущая волнами в Вальке, когда ураганом влетел во вражьи покои, в черносотенный, в есаулов дом?
Не такая ли радость в Самсончике, когда не припадал к земле при перестрелке, а грудью обнаженной четыре принял разрывных?
Вылетел на середину улицы прямо наперерез, вскрикнул даже, кажется, этому бегущему с револьвером в руках или не вскрикнул, а показалось так, или сам был в с к р и к о м, сам, ураганом вылетевший, как вскрик. Комком звериным – прыжок.
Ахнуло, полыхнуло огнем в самое лицо. Острожгучая боль под глаз.
Но в короткий, страшно оборвавшийся миг, когда показалось, что громадные всколыхнулись и падают дома, – в миг этот видел: отлетел, по мостовой лицом проехал загремевший чем-то железным ли, стальным – человек.
1923 г. Весна
ПРАЗДНИК
1
Ленька Драковников с матерью в конце Моловской живут.
За домом – поле, ветка железнодорожная, вдали – лес. Весною лес – лиловый, летом – темно-синий, осенью – черный и еще чернее, углем – зимою.
Ленька – с матерью, родных – никого. Он на заводе, она поденно стирает, полы моет.
Отца убили, когда с петицией ходили к царю.
Прохор, котельщик, и посейчас ходит приплясывает – коленную жилу перебила пуля. А Крутикова, кузнеца Олимпиада, дочь, с кавалером, Ганей Метельниковым, убиты оба. Как шли под руку, так и убиты.
И в мертвецкой, в Ушаковской больнице, так и лежали рядом, застыли, долго не разъединить было.
Так, рядом: кавалер с барышней, жених с невестою. Сам кузнец об этом рассказывает, когда пьяный.
Страшен рассказ пьяного кузнеца.
Не дыша слушают. Молчат. Вопросов – никаких. Да и какие же вопросы?
Когда операцию тяжелую делают, говорят ли с оперируемым?
Швы на сердце класть – и вдруг: «Как да что?» Разве можно это?
Страшен рассказ Крутикова о дочери с женихом. Просто. Точно. Одинаково всегда. Без ропота, ругани, плача. Только глаза – пламень.
И тяжко сжатый, молотом на коленке, кулак.
У Леньки Драковникова рана вроде кузнецовой.
Отца убитого помнит. И убийц знает – царь и опричники.
Когда кто незнакомый спросит – отвечает:
– Царь убил.
А лицо не дрогнет. А глаза темно-коричневые – черным огнем.
2
Ленька, мальчуганом еще, с Мишей Трояновым познакомился.
Миша из «чистых», банковского служащего сын.
Ленька босиком, как и полагается в апреле, а Миша в ботиночках со светлыми галошами, в форменной шинели – в реальном учился.
Познакомились в драке.
На ветке железнодорожной Ленька «посадских» воробьев из рогатки, а Миша (в тот день он реальное прогуливал) – чашечки на телефонных столбах расстреливал.
Леньке это помеха.
Воробьев спугивал, да и чашечки разбивать – зря.
Ленька пригрозил. Миша носом не повел. Ну, стычка.
Ленька хотя «накепал» Мише, но и тот прилично хлестался.
Ничего что реалист!
И не плакал, а ведь нос ему Ленька расквасил и фонарь подставил – мог бы заплакать вполне.
А он – кровь высморкал на шпалы, ругнулся, правда, бледновато: «мать» не там, где надо, вставил, а потом ремень снял и медную пряжку к синяку.
Бывало, значит!
Все это Ленька учел и одобрил и в виде похвалы:
– Ты шикарно хлещешься. А Миша спокойно:
– Дашь рогаточки в воробьев пострелять, а?
Так и познакомились. Потом подружились.
Миша оказался хорошим товарищем. На реалиста только фуражкой похож, да и то стал значок снимать, гуляя с Ленькой. Канты только желтые – ну да канты что: нищие и те очень даже часто в генеральских с красными околышами фуражках щеголяют. Ботинки у Леньки на квартире оставлял, босиком бегал из солидарности.
Артельный. В любую игру – не последний, в драке не спасует.
Бывало, шкетовье налетит вороньем – не отступит. Бьется, пока руки не опустятся либо с ног собьют.
Но пощады не запросит – парень что надо.
Только по фуражке – реалист, а так – нормальный парень. И видом – хорош. Волосы – на козырек, походка – вразвалку и по матушке крошит. (Ленька его обтесал.)
Многому Ленька его научил: курить махру, сплевывать, «цыкать» сквозь зубы, свистать тремя способами через пальцы, засунутые в рот: «вилкою», «лопаточкой» и «колечком».
Особенно «колечко» Мише удавалось – ни дать ни взять фараонов свист, трелью.
А в юных годах за девочками приударяли.
У Леньки Паша была из трактира «Стоп-сигнал» – услужающая барышня, лет семнадцати, что бочонок – кругленькая, подстановочки – тумбочками.
Крепенькая девочка.
У Миши – Тоня, голубоглазая, нежненькая, портниха.
На католическом кладбище, в Тентелевке, гуляли в летние белые ночи.
Ленька тогда на подручного слесаря уже пробу сдал, а Миша из пятого в шестой перешел.
3
Долго не приходил Миша к Леньке.
Вдруг, часу в двенадцатом ночи, пришел.
Весною было.
Ленька удивился.
– Ты чего этакую рань приперся?
Шутит.
А тот – серьезно:
– Пойдем. Дело есть.
Покосился на спящую Ленькину мать.
– Куда пойдем? Я уже разулся. Спать хочу.
– Ну, черт с тобой! Дрыхни.
Фуражку надел, руку сунул:
– Прощай!
– Да ты чего пузыришься? Говори, в чем дело, матка спит, говори, – задержал Мишину руку Ленька.
– Нельзя здесь, – твердо ответил Миша.
– Ну, погоди, оденусь.
Вышли во двор.
– Пойдем на ветку, – предложил Миша.
Пролезли через выломанный забор заднего двора. Перепрыгнули через канаву.
Была тихая мартовская ночь. Звездная. Без морозца. Снег, уцелевший местами, не хрустел, а мягко поддавался ногам. Насыпь сухая была.
Сели на шпалах, под откос ноги свесили.
Миша опять закурил. И Ленька.
Помолчали.
– Хочешь в революционеры записаться? – вдруг спросил Миша тихо, словно боясь, что кто-нибудь услышит.
Ленька вздрогнул.
Миша стал рассказывать.
Вышло так: в Петербурге существует боевая революционная организация для свержения царского строя путем террористических актов, вооруженного восстания, агитации среди рабочих и солдат. Миша – член этой организации, вступил недавно.
Говорил Миша быстро, без запинки, как по книге или прокламацию читая.
Говорил, не спрашивал Леньку. И тот молчал.
Радостно и жутко было Леньке.
И позналось, определилось это чувство почему-то словом: «праздник».
4
Кто-то выдал Троянова и Драковникова и еще двух, но выдал неумело. Никаких улик. Видных членов организации предательство не коснулось.
«Мелко плавал, спина наружу!» – подумал Ленька о провокаторе, когда его допрашивал в охранке жандармский ротмистр.
Показания арестованных сводились к одному:
«Ни к какой революционной организации и партии не принадлежал и не принадлежу».
А Ленька, чтобы ротмистра позлить, приписал еще: «и принадлежать не буду…»
Эти слова жандарм, ругаясь, похерил.
Охранка бесилась от наглого упорства допрашиваемых. Знала отлично, что есть что-нибудь, иначе не стал бы провокатор доносить, но все четверо, как один:
«Знать не знаю и ведать не ведаю».
Молодо, глупо действительно, но дело на точке замерзания.
Даже специальные способы дознания не помогли.
Да и где помочь? Крайних мер принимать нельзя: битье, измор – от всего этого огласка может получиться.
Наконец особое совещание охранки предложило полковнику Ермолику «изыскать средство для раскрытия истины».
Средство изыскано: человеку не дают спать!
Сутки, двое, трое, четверо!
Сколько выдержит.
Пока не свалится. Пока не разбудят удары, встряхивания, холодная вода, уколы раскаленными иголками в позвоночник, выстрелы над ухом, – когда все эти возбуждающие средства бессильными станут, тогда, конечно, пусть спит, ничего не поделаешь.
Но вернее – раньше сдастся. «Раскроет истину».
Сразу обоих, тех, что помоложе: Троянова и Драковникова начали пытать.
В разных комнатах.
Два шпика – к одному, два – к другому.
Дело несложное. И приспособлений почти никаких. Иголки только, ну да они на седьмые-восьмые сутки потребуются, не раньше.
5
Сначала Мише интересно было.
Закроет нарочно глаза, а охранники оба сразу:
– Нельзя спать!
Или:
– Не приказано спать!
Засмеется и смотрит на них: «Экие, думает, дураки, серьезно и глупость делают».
Сменялись через шесть часов. А он без смены.
Сутки проборолся со сном. Голова отяжелела, но бодрость в теле не упала.
Кормили хорошо: котлетки, молоко, белый хлеб.
На вторые или третьи (хорошо не помнил) сутки беспокойно стало.
Так-таки вот беспокойно. Будто ждет чего-то с нетерпением, каждая минута дорога – а вот жди.
Скучно ждать, невыносимо.
«Чего ждать, чего я жду?» – спрашивал себя.
И вдруг – понял.
Ждет, когда можно спать лечь, заснуть когда можно, ждет.
Проверил. Верно. А проверил так: глаза закрыл и само почувствовалось: «Дождался».
Именно – почувствовалось.
Как очнувшийся от обморока чувствует: «Жив».
Задрожал даже весь. От радости! Нет!
От счастья! Первый раз почувствовал: счастлив.
В застенке, в пытках – счастье, от самых пыток – счастье.
Но миг только.
Вдруг увидел: в воду упал. С барки какой-то.
Вскрикнул. Глаза открыл.
Неприятная в теле дрожь. Мокрый весь.
А рядом – не сидят уже, а стоят, и он – стоит, рядом стоят шпики.
На полу – ведро.
Догадывается: «Водой облили».
Холодная, неприятная дрожь. Обиды – нет. Усталость – только.
А они, шпики, – не смеются.
Не смешно им и не стыдно, что водой человека окатили. И не злятся. Спокойны.
Один даже говорит:
– Переодеться вам придется. А то мокрые совсем.
Так и сказал: «Мокрые совсем».
В другой смене пожилой охранник, в форме околоточного, пожалел даже:
– Напрасно, молодой человек. Сказали бы, что знаете. Себе только вред и мучение.
– Я ничего не знаю.
– Наверное, знаете, – вздохнул околоточный. – Зря полковник не будет.
Молчал Миша. И шпики молчали.
И опять стало казаться, что «ждут» чего-то и они, эти, что не дают ему «дождаться», тоже – ждут. И все – ждало.
Они, трое: Миша и два охранника, и комната с забеленными мелом окнами, за которыми, за мелом, тени решеток, а вечером – окна как окна – белые только, стол некрашеный, длинный, вроде гладильного, диван кожаный, табуретов пара – вся эта странная комната, со странной сборной мебелью, неподвижным унылым светом угольной лампочки освещенная, – все ждет.
И люди странные, и комната странная – все.
И ждать – мучительно. Ждать – терпения нет.
Чувствовал и Миша, что миг еще, минута – нет! Секунда – нет! Терция – нет! Миг – не укладывающийся в мерах времени – сейчас вот-вот – лопнет!
– Скоро ли? – не говорит, а стонет, не жалобно, а воя.
И глазами – то на одного, то на другого.
И, должно быть, глаза не такие, как надо, – оба вскакивают и в упор на него.
А он тянет всем:
– Скоре-е-е… Не могу-у-у… больше-е-е…
И внезапно, отчаянно, обрывая:
– У-у-бейте!
И опять:
– У-у-у…
Словно занося тяжелый топор и опуская сильно: бейте!
И так много раз подряд.
Шпики суетятся. Один бежит в дверь. Другой подает воду.
А через несколько времени гремит замок – висячий на дверях замок – и входит ротмистр.
В пушистые, в бакенбарды переходящие усы говорит:
– Пожалуйте на допрос!
Сам Миша не идет, ведут – спит.
Без снов, глубоко спит, как в обмороке.
Острая, жгучая боль в спине. Кричит. Глаза открывает. Мягкий, бело-голубой свет.
Стол большой перед глазами, и нестерпимо блещет белый лист бумаги на нем.
И кто это напротив? Пушистые русые усы! Кто это?
«А, – вспоминает, – ротмистр!»
– Хотите спать? – мягко, точно гладит, ротмистр.
Или это слово «спать» – гладкое такое, как бархат, ласковое?
Улыбается Миша.
Счастлив от слова одного, от обыкновенного слова: «спать».
Говорит нежно, радостно, неизъяснимо:
– Спать… спать… спать…
Сладко делается даже от этого слова, рот слюной наполняется.
Жандарм опять, поглаживая:
– На один вопрос ответите – и спать. Ведь ответите? Да?
– Да… да… да…
– Льва Черного, Степана Рысса, Кувшинникова, Анну Берсеневу знаете?
– Льва Черного, Степана, Кувшинникова, Анну, – повторяет, как во сне, как загипнотизированный, Миша.
Четко, ходко мелькает перо, зажатое в толстых ротмистровых пальцах.
– Анну Берсеневу?
– Анну Берсеневу, – полусонно отвечает Миша.
– Где виделись?
Миша не понимает. Потом – вдруг понимает: «Выдал», – остро в голове, как колючая недавно в спине боль, – остро в голове кольнула мысль.
– Не знаю, – с трудом, но твердо отвечает.
– Уведите его, – кричит ротмистр, и голос его жесткий, и щетками – жесткие усы.
«Опять – не спать, опять – не спать, опять – не спать!..»
Песней, стихами в голове, и особенно страшно созвучие слов «опять» и «не спать».
Исступленно, топая ногами, кричит:
– Не могу, не могу, не могу!.. Спать… спать… спа-ать!
– А будешь говорить? Скажешь – все, что знаешь?
Пушистые перед лицом Миши шевелятся усы, и кажется, что они, усы эти, говорят.
А глаза зеленовато-желтые колючими гвоздями.
– Буду… Скажу… Что знаю…
Говорит. Ротмистр пишет. Знает Миша немногое. Про Драковникова упомянул – тот больше знает.
Воли уже нет, есть одно: спать, спать…
Быстро, весело мелькает перо, зажатое толстыми пальцами жандарма.
Протягивает Мише бумагу.
– Здесь. Вот здесь. Крепче ручку, миленький. Имя и фамилию, да, да!.. Ага! Прекрасно, голубчик. Спите теперь спокойненько.
Мишу выносят на руках, несут через двор, в карету. Спит.
– В больницу прямо сдадите, в «Крестах». Доктору Шельду! – громко говорит кто-то из темноты подъезда.
6
Леньке значительно хуже было.
Связанного пытали шпики. А Ленька – бунтует.
Из «матери» в «мать» – шпиков и ротмистра. Тот и заходить перестал.
А как же Леньке себя вести? Миндальничать? С ними, что его отца убили?
Да и отец ли один? А Олимпиада Крутикова, а Метельников, а калека Прохор котельщик – не ихние разве жертвы?
Да только ли эти жертвы?
Пытают? Черт с ними! Пусть пытают! Спать не дают? Они жить не дают, не ему одному, а целой стране, целому миру. А спать – эка невидаль!
И он упорно борется со сном, с наслаждением борется. И кажется ему: победит.
Вера или воля? Десять суток без сна – осунулся только, ослаб, но тверд дух и голос – чист и звонок, как всегда. Лишь глаза – ямами, провалами, расширенные зрачки – без блеска. Жуткие глаза!
Встречаясь с ним, колющие глаза агентов отбегают, как от пропасти.
Но когда побеждала усталость…
Точно мягче становилось все: тело, голос, мысли даже. Мысли мягкие, припадающие, как хлопьями ложащийся снег, как свет лунный, бледный – бледные мысли, – поля лунные, снежные, зимние.
Поле, поле, ровное, искристое, луной залитое, ночное поле… В тройке – бубенцы веселые под дугой – в тройке едет Ленька, пьян-пьянехонек, песню поет.
И звенит голос, как колокольчики троечные.
Вдруг – острая, жгучая боль в спине.
Крик.
Поле, тройка – пропадают.
Комната. Агенты. Зло усмехаются.
– Спать нельзя, голубец!
Говорит круглолицый, волосы – черной щеткою.
– А тройка? – спрашивает полусонный Ленька.
– Не угодно ли пятерку? – смеется черный.
Другой, узкоглазый, как китаец, вторит:
– Шестерку. Лакея ему надо. Хи-хи!
Ленька, искушенный сном, решает, что невозможно больше не спать, а так как спать не дадут, то придется обманом как-нибудь.
«Воровать сон для себя. Покой, необходимый для каждого, красть».
«Черт с ними, буду спать!»
Закрывает глаза, откидывается на спинку дивана.
Укол в спину. Как ток электрический.
– А-а! Черт!.. Сволочи! Опричники! – вскрикивает Ленька.
Исступленно ругается страшной руганью, которая статьями уложения о наказаниях предусматривается: бога, царя, веру, закон – как черноморский матрос.
Но… замолкает.
Не хочется – ничего. Ни ругаться, ни говорить, ни двигаться, ни смотреть.
Главное – смотреть. Все предметы: стены, мебель, даже шашки паркетного пола – невыносимы для глаз: кажется, в глаза лезут, рвут веки, распирают до боли – невозможно смотреть.
А закроет глаза – огненные иголки по спине пляшут.
А потом делается смешно. Задорная мысль приходит.
– Доложите ротмистру, чтобы на допрос вызвал, – говорит черноволосому агенту.
Ротмистру Ленька деловито:
– Позвольте бумаги, сам буду писать показания.
– Лучше по вопросам, – предупреждает тот.
– Потом вопросы, а сейчас сам буду писать. Все до словечка – все!..
И ребром ладони наотмашь: все.
Жандарм потирает руки, белые, пухлые, с обручальным кольцом и перстнем-печаткой на безымянном пальце.
А Ленька вздрагивающей слабой рукой неровно выводит:
«Никаких показаний давать не буду, так как не намерен содействовать следствию».
Ротмистр багровеет, ругается тяжело и злобно, как извозчик на упрямую лошадь, и, когда Леньку связывают, кричит надорванно, с пеною на пушистых усах:
– Хорошенько, стервеца, морите! Он спит у вас, наверно? Я вас, мерзавцы!
Грубо ведут по темным коридорам, злобным шепотом ругаются шпики, а Ленька молодым, звонким, тьму затхлых коридоров разрывающим голосом – кроет все на свете: бога, царя, веру, закон и жизнь и смерть – все.
7
Новый способ придумал Ленька: спать с открытыми глазами и ногой качать.
Придумал или само так вышло. Вернее, само.
Чтобы не видеть открытыми глазами режущих веки предметов – туманил глаза сильным напряжением глазных мышц и невероятным усилием воли удерживал веки, чтобы не опускались.
Сначала долго не мог добиться этого «обманного» сна, но потом как-то удалось.
И еще: стал качать ногой.
Сперва тоже не клеилось: заснет – нога с колена соскакивает или остановится – не качается.
Но потом пошло: и когда спал и сны видел, чувствовал, что открыты – точно на подпорках – веки и качается нога.
И если падали веки, прекращалось качание ноги – просыпался.
Но шпики все-таки обнаружили обман.
По храпению, дыханию ровному, глубокому, немиганию век и помутившимся глазам.
И снова – иголки и удары…
На шестнадцатые сутки, уже давно выданный Трояновым, принесенный агентами на допрос Драковников слабо, но гордо и насмешливо, сказал:
– Никаких показаний. Уже писал и расписался. Чего же еще?
Ротмистр и Ермолик, изыскавший радикальный способ для «раскрытия истины», молча и пытливо всмотрелись в жуткие провалы глаз на бледном лице и прочли в них:
– И смерть не страшна.
Увезли. Тоже в тюремную больницу.
8
Выдавший товарищей Троянов – потерял душевный покой навсегда.
Жизнь стала сплошной бессонницей.
Мучился долго и тайно.
Но человек привыкает ко всему. Привык и Троянов к новому себе – к предателю себе, – привык и даже малодушному поступку своему оправдание нашел: каждый делает то, что предпишет ему какой-то закон – неузаконенный, может, а закон. И если предательство – беззаконие, то закон этот – закон беззакония.
Выдумал так, уверил себя.
Но Драковникова – стыдился, хотя тот ничего не знал о его поступке – охранка умолчала.
Стыдился, а потом возненавидел. И был рад, что сослали обоих в разные места: его в Туруханский край, Драковникова – в Якутку.







