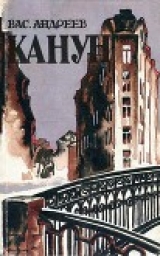
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
– Котельников! – крикнул он гневным голосом. – Фролкин.
С первой скамейки быстро, один за другим, поднялись двое штрафников, а комроты так же гневно выкрикнул еще несколько фамилий, затем, взмахнув зажатой в руке фуражкой, скомандовал:
– Марш сюда!
Когда же вызванные штрафники появились на сцене, комроты выстроил их в шеренгу лицом к зрителям.
Отступив на шаг от шеренги, заговорил снова, и голос его зазвучал почти исступленно:
– Товарищи! У то время, когда невообразимые поля Советской России орошаются драгоценной кровью рабочих и крестьян, у то время этот заячий элемент забился под ракитовый куст. Мало того! Даже здесь, у тылу, у красной шестнадцатой, этот элемент продолжает лежать под тем же ракитовым кустом. Короче говоря, саботирует у работе. Глядите усе! Запомните позорные имена и гнусные личности этих пресловутых дезертиров фронта и труда. Позор им, товарищи!
– Позор! – отозвались в публике.
– Позор! – подхватили мальчишки и пронзили воздух свистом.
Штрафники на сцене стояли неподвижно, опустив глаза. Головы они держали прямо, как полагалось по команде «смирно».
6
Немногосложная, как назвал свою митинговую речь комроты шестнадцать, произвела на штрафников желательное действие.
На другой день после митинга командиры всех трех штрафных взводов отмечали в докладах старательность штрафников в работе.
– Усе старались? – спрашивал комроты каждого комвзвода. – И эти… пресловутые?
– И пресловутые, – отвечали взводные командиры.
В следующие дни комроты, присутствуя на работах, убедился, что все без исключения штрафники честно трудятся, а отпетый из отпетых лентяев Фролкин работал даже особенно ретиво, хотя не то с досадой, не то с озлоблением: катя нагруженную булыжниками тачку, ругался на нее, как извозчик на ленивую лошадь; сваливая камни в кучу, сердито плевал на них, но не отдыхал, не закуривал, а поспешно катил тачку за новым грузом.
Комроты похвалил Фролкина. Тот поднял на него глаза цвета жидкого кофе и глубоко вздохнул, виновато разводя руками.
– Что ж делать, товарищ командир? Приходится стараться. А не то вы, чего доброго, опять, как в воскресенье, начнете крыть всенародно. Ведь готовы мы были сквозь землю провалиться от позора.
– Будете работать, как полагается, то всенародно смою с вас позор, – торжественно произнес комроты и добавил, уже весело усмехаясь: – И не потребуется тогда у землю проваливаться. А главное, кто будет честно работать – скорее попадет у четвертый взвод, станет свободным гражданином. В свободное от занятий время иди куда хочешь, хоть к дивчине на свиданье, хоть у столовую пить чай с чайным ромом.
– Чайный ром – штука приятная, даром что на сахарине, – сказал Фролкин. – Да и любовь закрутить с хорошей девицей – дело не пыльное. Как в четвертый взвод попаду – обязательно закручу. Одежа у меня приличная: френч и галифе. Побреюсь, куплю на рынке папирос, а то самую что ни на есть гавайскую сигару – ни одна девица не устоит. Я уже знаю.
Кругом засмеялись, а Фролкин, поплевав на ладони, решительно взялся за тачку.
Два послеобеденных часа в роте – отдых. Можно спать, заниматься чем хочешь. Большинство обычно спало, остальные проводили время в разговорах.
Теперь, в дни после митинга, спящих в часы отдыха было мало. Многие толковали о речи комроты, о том, что из шестнадцатой никогда не выберешься.
Особенно волновался первый взвод, кроме Фролкина, уверенно твердившего:
– Ничего. В два счета доберусь до четвертого взвода.
– Ну и попадешь на фронт, – угрюмо басил Котельников, соратник Фролкина по дезертирству.
– Все будем там, – беззаботно отвечал Фролкин. – Такова судьба красноармейская. Да и что такое фронт? Ничего особенного. Я на фронте не скучал, сам, Котельников, знаешь.
– Ты от веселья и пятки, значит, смазал, – смеялись штрафники.
– Я пахать ударил домой.
– А теперь косить самая пора.
– А вы все-то из-за чего бегали?
Этот вопрос Фролкина всех поставил в тупик. Замолчали, тихонько посмеиваясь.
– Кто из-за чего, – наконец пробормотал один из штрафников, а другой, недавно прибывший в роту, Панюшин по фамилии, по кличке Бес, задумчиво сказал:
– Я так из-за любви с фронта смылся.
– Ишь ты! – засмеялись кругом. – Бес – так бес и есть.
– Соскучился по девочке, – не смущаясь, продолжал Бес. – Да… Из-за нее и дезертировал. А не от страха, нет. Я фронта не боюсь. И ничего не боюсь.
– Все мы храбрецы до первого выстрела, – пробасил угрюмый Котельников. – В бою-то бывал когда, Бес?
– Несколько раз.
– И не боялся?
– Видите, братцы, что я вам скажу, – сказал Бес, обводя всех серыми задумчивыми глазами. – Страха этого я правда никогда в бою не чувствовал. Хотите верьте, хотите – нет. Лежишь в цепи, стреляешь, и если неприятеля видно, то вся дума только о том, как бы не промазать, на мушку которого взять. А когда противник далеко и евонная артиллерия бьет, скажем, по цепи, тогда иной раз и о смерти подумаешь, но только не страшно станет, а вроде обидно. «Тю, бес, – думаешь в своей голове, – бьют тебя, угробить могут, а ты, бес возьми, не можешь соответствовать, потому – нету видимой цели».
– Это верно, – согласился Фролкин, – лежать дураком под снарядами – тошно. И злоба такая берет, не дай бог. Я один раз, вот Котельников знает, рукав гимнастерки зубами порвал.
– Да, обидно бывает, – продолжал Бес, – но опять же, братцы, если вникнуть в дело умственно, с сознанием, то поймешь, что не напрасно же в цепи лежишь под артиллерийским обстрелом. Испугайся снарядов, отступи – этого только врагу и надо. Из-за этого он и снарядов столько тратит. Так вот, братцы, – многозначительно поднял Бес палец вверх, – тут и думаешь: «Крой, бес, все равно не отступим. И ежели помрем, так на деле, а не зря». Подумаешь так – и обиды никакой уже не чувствуешь. Спокойнее станет.
– А в атаку-то ходил? – снова задал вопрос Котельников.
Глаза Беса повеселели.
– Атака! Атака, брат, чудесная штука! В атаку идешь – во! – Он крепко сжал кулаки, лицо его побагровело. – Во, бес! Все в тебе играет, каждая жилка трепещет от радости, от веселья. Ноги земли не чуют – идешь как по воздуху. Душа поет. Ну, будто великий праздник!
– А Бес верно говорит, – сказал штрафник Сухоруков. – Атака – дело большое. И большую радость она дает. Я ходил в атаку на Плесецкой, на архангельском фронте, несколько раз ходил. И каждый раз как двинемся – такая радость охватит, что сам потом дивишься: отчего, мол, это? Кажется – ведь в решительный бой идешь, смерти в глаза смотришь, а чувство такое, что будто, как вот Бес говорит, великий праздник встречаешь.
Сухоруков замолчал. И все молчали, задумались.
– Да, – вздохнул Фролкин, – надо добиваться четвертого взвода. Фронт – так фронт. Люди воюют, а мы, выходит, хуже их. «Заячий элемент», как говорит командир. Позорное прозвание, а ничего не сделаешь – заслужили такую марку. Нет, ребята, надо выбираться из позора, на ноги подняться.
Ему никто не возражал.
7
От туч, закрывших небо, было тревожно-сумрачно, как бывает перед грозой.
В растворенное окно канцелярии шестнадцатой роты тянуло влажной прохладой, предвещавшей дождь.
Срочных дел в канцелярии не было.
Комроты писал письмо, комиссар читал газету, переписчик – книгу. Прошка ловил мух, ползавших по столу вяло, полусонно, как всегда перед грозой.
Тимошин закрыл книгу, потянулся:
– Неважные стишата.
– Чьи? – спросил комиссар, не отводя глаз от газеты.
– Мея.
Прошка улыбнулся смешному слову: «Мея».
– Сравнить его стихи со стихами Пушкина – какая огромная разница! – сказал Тимошин.
Он любил декламировать отрывки из «Евгения Онегина», которого знал наизусть почти всего. И теперь он прочел вслух строфы две-три из Мея, а затем для сравнения начал читать на память из Пушкина, предварительно спросив командира и комиссара:
– Я не помешаю?
– Крой на здоровье, – ответил комроты.
Комиссар отложил газету, Прошка перестал ловить мух и, раскрыв рот, приготовился слушать.
Его всегда интересовало и поражало, как Тимошин может говорить складно без книги. К тому же нередко попадались смешные выражения и слова, а смешное Прошку забавляло.
Но на этот раз декламация Тимошина сорвалась.
Он складно сказал о каком-то дяде, наверно глупом человеке, который что-то «лучше выдумать не мог», но вдруг ветер сильно хлопнул рамой. Комроты выругался. Глухо проворчал вдалеке гром, забарабанил по стеклам дождь.
Тимошин откашлялся, хотел продолжать прерванное чтение, но в канцелярию вошел красноармеец, а за ним другой, с винтовкой – арестованный и конвоир.
Конвоир подал Тимошину бумагу, достал из-за пазухи смятую тетрадь.
– Расписаться надо.
– Откуда? – спросил Тимошин.
– Из тринадцатой роты.
Тимошин расписался в тетради. Конвоир ушел.
– Что там? Прочитай! – сказал комроты.
Тимошин стал читать бумагу:
– Командиру шестнадцатой штрафной роты стрелкового запполка N-ской армии – препроводительная записка.
Эти строки он пробормотал быстро, дальше стал читать медленно и отчетливо:
– Препровождается во вверенную вам роту стрелок второго взвода тринадцатой роты Сверчков Никита, отказавшийся взять оружие как баптист.
– Кто такой? – спросил комроты.
– Баптисты – религиозные сектанты, – сказал комиссар.
– Ты – Сверчков Никита? – обратился комроты к красноармейцу.
– Да, – ответил тот.
– Баптист?
– Я толстовец, – сказал красноармеец, как бы с некоторой обидой.
– А это еще что за плешь? – оглядел комроты всех, но ответил сам Сверчков.
– Толстовец – значит, тот, кто следует учению писателя и философа Льва Толстого.
– Значит, живешь по его уставу?
– Стараюсь так жить, – вздохнул Сверчков, словно ему тяжело было следовать толстовскому учению.
– Непротивление злу, смирение, прощение обид, нанесенных людьми, – гвоздь религиозной философии Толстого, – сказал комиссар.
Сумрачную комнату ярко осветила молния, бухнул громовой удар, похожий на ружейный залп, хлынул дождь.
– Бог орудует, – кивнул на окно комроты, – как думаешь, Сверчков Никита?
– Электричество, – ответил тот.
– А может, Илья-пророк?
Нездоровой белизны лицо Сверчкова, одутловатое, опушенное кудрявой мягкой растительностью, напоминало лицо монаха.
И заговорил он по-монашески: монотонно и гнусаво.
– Духовенство старалось представить господа карающим грозным существом, тогда как он любвеобилен и кроток. Бог есть любовь, сказал Иоанн Богослов.
– Оставим разговоры на любовные темы, – сухо произнес комроты, свертывая неуклюжую толстую цигарку, – скажи лучше вот что, Сверчков Никита. Согласно препроводительной записке комроты тринадцать, ты отказался узять винтовку как баптист. Так?
Сверчков кисло улыбнулся.
– Командир тринадцатой роты, куда я был переведен из полковой пекарни, назвал меня баптистом за отказ взять оружие. Я сказал ему, что я толстовец, а он говорит: «Никаких толстовцев нет, а существуют вредные секты: скопцы и баптисты. Скопцом ты быть не можешь, потому что у тебя есть жена; стало быть, ты баптист, и никаких гвоздей». Я не стал с ним спорить, а он так и написал, что я баптист. А я баптистом никогда не был. Я толстовец.
– Баптисты, толстовцы и разные твои скопцы – одна плешь, – недовольно махнул рукою комроты, – все дело твое в том, что ты не согласен иметь винтовку. Тут черным по белому сказано о тебе: «отказавший узять оружие». Вот! Я же тебе скажу следующее: какая там у тебя программа – толстовская или скопцовская, – здесь, у шестнадцатой роте, безразлично: должен работать – и никаких. Винтовки не получишь, дадут тебе лопату или киркомотыгу вообще, что полагается. И действуй! Только не саботируй! Вы, толстовцы да скопцы, словом – попы разных мастей, – большие лодыри, саботажники. Вам бы только лежать на боку да мечтать о боге и о своей дурацкой божественной программе.
Он взял со стола препроводительную Сверчкова и, дав ее Прошке, сказал сердито:
– Отведи его преподобие толстовца Сверчкова Никиту у первый взвод.
Прошка расплылся в улыбке от «его преподобия» и сказал Сверчкову:
– Пойдем, преподобный.
По уходе Сверчкова комроты, продолжая волноваться, говорил комиссару:
– Еще плешь на нашу голову. Начнет этот поп наставлять штрафников на божественное. Ты, товарищ Нухнат, постарайся выявить сущность подобного элемента: насколько он вреден для советской власти, для рабоче-крестьянской Красной Армии. В общем, разбери по косточкам этого пресловутого толстовца. Я насчет религии, сам знаешь, ни в зуб ногой, а ты по божеству – мастер. Ты любого попа у щель загонишь и с Библией, и с «Часами», или как там называется ихняя литература.
Комроты волновало, как бы «пресловутый толстовец» не доставил много хлопот.
В тот же день ему пришлось поволноваться уже по другому поводу.
В роту были доставлены из военного трибунала четверо штрафников: трое – обыкновенные дезертиры, один – дезертир и подследственный.
Вновь прибывшие после регистрации были направлены в первый взвод.
Спустя немного времени в канцелярию пришел озабоченный комвзвода один и доложил, что один из новых штрафников не принимает казенной одежды и не сдает своей.
– Чем мотивирует? – раздраженно спросил комроты.
– Говорит, что он не осужденный, а подследственный, что знаком с видными ответственными работниками, что он не рядовой красноармеец, а комиссар какого-то края.
– Что не помешало ему попасть у штрафную роту, – прервал комроты и добавил: – Пошли его сюда.
Когда командир первого взвода вышел, комроты обратился к Тимошину:
– Что в бумагах этого комиссара, подследственного? Скажи кратко.
Тимошин пробежал бумагу.
– Подозревается в незаконной продаже воинских лошадей в Степном крае.
– Достаточно, – сказал комроты и уставился потемневшими глазами на входившего в сопровождении комвзвода один штрафника.
Тот подошел ленивой, развалистой походкой к столу, за которым сидел комроты.
– Вы – командир этой роты?
– Командир этой роты, – глухо отозвался комроты шестнадцать, не отводя от лица штрафника все более темневших глаз.
– Видите. Мне не хочется сдавать обмундирование. Френч и бриджи из очень хорошего материала, сшиты на заказ. В цейхгаузе, боюсь, одежда попортится.
– В цейхгаузе не попортится, а на работе – определенно, – сказал комроты.
– Вы, надеюсь, дадите мне чистую работу, – приятельски улыбнулся штрафник. – В канцелярии найдется дело… Или, например, отмечать на работе.
– Табельщиков нам не нужно. У нас не фабрика и не завод.
– Да… Но ведь я не просто красноармеец…
– Что значит – просто красноармеец? – спросил комроты.
Штрафник поспешно достал из грудного кармана большой, желтой кожи, бумажник, стал в нем рыться, говоря:
– Я комиссар Степного края. Вот документы. Потрудитесь взглянуть.
Он положил на стол несколько бумажек, заложил руки за спину и, снисходительно усмехаясь, смотрел на комроты.
А тот, не читая бумаг, отложил их в сторону, раздельно полувопросительно произнес:
– Ты комиссар… Степного… края?
– Да. Посмотрите документы, – раздраженно сказал штрафник.
– Стань, как полагается! Вынь руки из-за задницы! – вдруг гневно вскричал комроты звонким, задребезжавшим в стекле окна голосом.
Круто обернулся к комвзводу и, бледнея под смуглотою, сказал уже тихо и, как всегда, глухо:
– Чтобы больше не было разговоров о несдаче в цейхгауз обмундирования. Что это за новости? Я не узнаю вас, комвзвода один.
Тот молчал, красный до слез.
– Выдать ему, – указал комроты пальцем на штрафника, – лапти, порты и усе, что полагается. И послать его у нужники очки чистить, ибо потому что он не просто красноармеец, а комиссар-дезертир плюс подозреваемый в конокрадстве.
– Послушайте… – начал штрафник.
– Инцидент исчерпан, – спокойно перебил комроты, но, подумав секунду, добавил еще спокойнее. – Для первого раза очки с вас снимаются, пойдете на огород полоть гряды, но у дальнейшем не козыряйте. Мы козырей не любим – они нам не у масть. Ступайте!
И он кивнул головой.
8
Как и предполагал комроты шестнадцать, штрафник Сверчков доставил ему и комиссару много хлопот.
Сверчков списался с женой, живущей в Петрограде, и она привезла ему его документы, по которым выяснилось, что зарайский мещанин, пекарь по роду занятий, Сверчков Никита Иванов – член религиозного общества толстовцев, что он, при царском режиме призванный к отбыванию воинской повинности, отказался принять оружие, за что и был осужден в арестантские исправительные отделения сроком на четыре года и по отбытии наказания убеждений своих не переменил, а потому был навсегда лишен права жительства в столице и ее пределах.
– Десять с лишним лет назад я познал истину, – говорил Сверчков, – и с тех пор убеждения мои не поколебались и не поколеблются. Я против пролития чьей бы то ни было крови, даже против убийства насекомого.
– И вшу не убьешь? – спросил Сверчкова комроты.
– Не убью, ибо все живое должно жить. Я никому не дал жизни, а стало быть, не имею права и отнимать ее у кого бы то ни было…
– Значит, оставишь жить вшу – распространительницу заразы, не убьешь и ядовитого гада, к примеру змея? – опять задал вопрос комроты.
Сверчков уныло развел руками:
– Я им не дал жизни, не смею ее и отнимать.
– Ну ладно, Сверчков, – горячился комроты, – оставим ползучих гадов и кинем взор на гадов двуногих. Усе эти гады, с которыми нам приходится драться на фронтах, поверь мне, вреднее гадюки и твоей этой тифозной вши. Так рассуди, Сверчков Никита, сознательно: ежели уся Красная Армия не возьмет у руки винтовок и пулеметов, по твоему примеру, – то что тогда будет?
– Война прекратится, ибо никто не тронет безоружных.
– Фью! – свистнул комроты. – Видно, что ты на фронтах не бывал, а потому не знаешь, что там творится. Плохо ты, Сверчков Никита, учитываешь психологию золотопогонников. Да знаешь ли ты, что безоружных и беззащитных женщин и детей эти гады мучили и убивали! Нет, – приходя в азарт, вскрикнул комроты шестнадцать, – твое это скопцовское или толстовское учение – вредная и глупая плешь, только и усего! Комиссар с тобой бился и сознания не добился. Я с тобой канителюсь, а толку никакого. Закрутили твою голову твои толстовские попы, и перестал ты рассуждать нормально.
Успокоясь немного, комроты тихо добавил:
– Здесь, у шестнадцатой, оружия штрафникам не выдается, как ты и знаешь. Но по пекарской части работу дать тебе не можем. Пекарни ротной нет, есть полковая, где ты раньше и работал. Так что уж не взыщи, Сверчков, придется работать, что велят.
– Я ни от какой работы не отказываюсь. Но больше пользы мог бы принести на вашем ротном огороде, – сказал Сверчков. – Огородное дело я знаю и люблю.
– Ну, дуй на огород! – махнул рукою комроты. – Только знай, что огородная работа – не вечная и у конце концов попадешь у четвертый взвод, а там придется узять в руки винтовку.
Сверчков слабо улыбнулся и отрицательно качнул головой.
Беседуя о Сверчкове с комиссаром, комроты высказывал опасения, что толстовец начнет вести среди штрафников религиозную пропаганду, но скоро он убедился, что беседы толстовца со штрафниками не нашли среди них отклика.
Собственно, Сверчков сам и не начинал бесед по поводу своих религиозных убеждений и взглядов на войну, а вызванный на разговоры большей частью шутками, отвечал на задаваемые штрафниками вопросы как бы нехотя и кратко.
Влияния на штрафников он не имел. Одни смеялись над ним, считая «чудаком», «ненормальным» и «малохольным», другие же относились к нему подозрительно и очень недружелюбно.
Угрюмый первовзводник Котельников сердито говорил о Сверчкове:
– Хитроват мужик, а совсем не малохольный. Мы вот, дураки, с позиций бегали, а все равно воевать будем. А этот и не побежит, и не навоюет – божественностью отделается.
– Правильно! – смеялся Фролкин. – Сочинит что-нибудь из божественного посмешнее – за дурачка и сойдет. Я и то его спрашиваю: «Значит, мол, фронты, по-твоему, не нужны?» А он: «Если бы на фронте воткнули штыки в землю, никакой бы неприятель драться не стал».
– Как же! – воскликнул Котельников. – Ты штык в землю воткнешь, а «беляк» тебе – в пузо.
– То-то и оно. А он, Сверчков-то этот, не сознает.
– Святым прикидывается. Тьфу! – неожиданно плевался Котельников. – Какого только народа не повстречаешь в жизни!
– Ну, такого-то, небось, первого встретил?
– Хоть бы и не встречать больше таких. Не люблю святош.
– А кто их любит? Ихнее время теперь отошло. Святые да попы «белякам» нужны. А нам их, паразитов, кормить не за что.
– Он, видишь ли, – сердился опять Котельников, – всякую живность жалеет. И клопа, и комара. А ежели на него медведь нападет, он тогда с ним про религию заговорит: дескать, я тебя не трогаю, потому что бог жизню дал, ну и ты, Мишенька, меня не ломай – я тоже божья тварь.
– Неужели так и станет рассуждать? – залился Фролкин смехом.
– Чудак! А как же иначе? Ведь по его программе кровь проливать нельзя. Тогда, значит, и с медведем объясняйся про религию.
– Да, уж и вера у Сверчкова!
– Хитрит он. Поверь моему слову. Не дурак он, чтобы в такую чепуху верить и следовать ей. Вот как на фронт попадем и если он не отвертится, посмотришь, какая у него будет святость после первых же боев. Весь свой толстовский устав переведет на «Полевой устав службы».
9
Комроты вставал до общей побудки. Когда играли зорю, он уже сидел в канцелярии одетый, застегнутый на все пуговицы. Когда рота выстраивалась повзводно на дворе, он выходил к ней и, приняв рапорты комвзводов, отдавал приказание произвести поверку. Затем переписчиком зачитывался вслух приказ по роте.
Приказы по роте не были обязательными, как приказы по полку. Это было введено комроты по собственной инициативе. Вводя их, он согласовался с комиссаром.
Комиссар сперва не понял, для чего это нужно.
– Напрасная трата времени, труда и бумаги, – сказал он с неудовольствием.
– Ты, товарищ Нухнат, сам знаешь, что я противник бумажной волокиты, – заговорил комроты, – но тут дело вот у чем: у приказах мы будем писать, сколько и чего намечено работать, а также сколько сработано за истекший день, у приказах же будет объявляться благодарность тем, кто старался, и порицание лодырям, с предупреждением, что при повторном саботаже будет применено соответствующее дисциплинарное взыскание. А нужную бумагу тратить не к чему. Вот тут товарищ Тимошин набрал в архивах разную божественную чепуху. Описание Соловецкого монастыря, горы Афона и прочей плеши. А бумага-то какая! Прямо что у игральных картах высшего сорта. Поперек печати и этих разных картинок и будем писать.
– Тогда можно, – засмеялся комиссар, – а то на нужную вещь – на газету – и то нет хорошей бумаги. Как же ее тратить на ротные приказы?
Приказы по роте выслушивались штрафниками внимательно.
Благодарность, объявленная перед лицом всей роты за хорошую работу и зафиксированная на бумаге, удовлетворяла отличившихся и заставляла их и в будущем стараться, чтобы не попасть в приказ как лодыри.
Лодыри, получившие предупреждение, что при повторном саботаже они будут нести наказание, начинали работать лучше.
Так же всем нравилось, что в приказах отмечалось, что именно сделано взводами.
Взводы, не выполнившие нормы, подвергались насмешкам со стороны выполнивших и перевыполнивших.
А когда оглашалось, что какая-нибудь долгодневная работа закончена, штрафники с гордостью говорили:
– Канализацию закончили. Это, брат, не фунт изюма. Теперь все с водой будут.
Или:
– Эшелон дров в двенадцать вагонов отправлен в Петроград. Людей отогрели.
Толстовец Сверчков получил в приказе благодарность за хорошо поставленную работу по огороду.
– Ишь ты! Поп, а не лентяйничает! – смеялся недавний лодырь Фролкин.
А его товарищ Котельников бурчал:
– Поповская повадка известная. Огород – для брюха, штука сытная. Не то что улицы мостить. Вот и старается.
А когда Сверчков был произведен в старшие огородники, Котельников возмутился.
– Какой с него старший огородник? Ведь он пекарь. Ему – тесто месить да буханки делать, да для себя лишнюю прихватить. Ох уж эта поповская братия! Куда хочешь без мыла влезут. Он и на фронт не попадет, попомни мое слово. Будет копаться где-нибудь…
– Во саду ли, в огороде, – перебил, смеясь, Фролкин.
– Чего смеешься? – загорячился Котельников. – И садовником заделается. Вот в этих самых царских парках. У него нахальства хватит.
Сверчкова он спросил:
– Хорошо в огороде работать?
– Хорошо, – ответил тот, – землю я люблю.
– Кто ее не любит, – насмешливо сказал Котельников. – На земле живем.
– И живем на ней, и умрем – в ней окажемся, – бледно улыбнулся Сверчков. – Дело не в том. Люблю я работать на ней потому, что видишь, как от твоих трудов произрастает, например, овощ или ягода.
Котельников раздраженно заметил:
– А я думаю, что по твоей вере тебе и овощей нельзя употреблять. Потому овощ – та же живность, – зло усмехнулся он. – Родилась, значит, картошка, а ты ее – в котел, а потом съешь. Значит, жизни лишаешь.
– Овощи и животное – не одно и то же, – вздохнул Сверчков. – Картошку я режу или варю – она боли не чувствует, и сознания жизни у нее нет никакого. И понятия о смерти она не имеет. У нее нет души.
– А ты почем знаешь? – сердился Котельников, не любивший Сверчкова.
– Это и ты знаешь, – спокойно гнусавил тот.
– А вот не знаю. Может, овощ и боль чувствует, и сознание имеет, может, и душа есть у той же картошки.
– Эх ты, картофельная душа! – хлопнул горячившегося Котельникова по плечу Фролкин. – Завел ерунду на постном масле.
Котельников смутился и больше уже не начинал бессмысленных разговоров о душе в овощах.
«Заячий элемент» все лучше и лучше работал. За ним едва могли угнаться даже бывшие первыми по работе.
Только один «степной комиссар» работал лениво, ежеминутно вступая в пререкания со взводным. Но вскоре он был вызван на суд ревтрибунала, и в роте не осталось ни одного саботажника.
И шестнадцатая рота выполнила раньше намеченного срока работы.
Она получила благодарность в приказе.
Кроме того, командир роты сдержал обещание – «всенародно смыл позор» с бывших лодырей.
Он устроил в воскресный день «грандиозный митинг-концерт», как гласили афиши работы малохольного Пухова.
Митинг происходил опять в городском театре.
Выстроив бывший «заячий элемент» на сцене, как и на первом митинге, командир, указывая на них, произнес вздрагивающим от искренного волнения голосом:
– Вот эти указанные товарищи долгое время работали плохо, короче говоря – лодырничали. И по справедливости пришлось бросить им у глаза позорное звание «заячьего элемента». Теперь они подтянулись и доказали хорошей работой, что они такой же трудящий элемент, как и прочая многомиллионная масса населения Советской России. И если, повторяю, им еще недавно было брошено у глаза позорное слово, то сейчас, наоборот, всенародно скажем им товарищеское спасибо.
Он пожал руки бывшим лодырям.
Музыка заиграла туш. Публика неистово зааплодировала, послышались крики «браво!» и «ура!».
Радостно взволнованные штрафники спускались со сцены по приставной лестнице.
Фролкин утирал слезы.
А комроты продолжал:
– То же товарищеское спасибо и усей уверенной мне роте, потому что благодаря ейному старанию по ремонту мостовых у настоящее время усе граждане, не исключая и особ прекрасного пола, могут смело ходить по улицам, не боясь поломать ног.
Он отмахнулся от аплодисментов. Голос его стал твердым и торжественным.
– Слушай, шестнадцатая! – прокричал он, словно командуя. – Вы, показавшие себя на работе красными львами, останьтесь ими же и тогда, когда у ваших руках будут не лопата и лом, а винтовка и пулемет. Вы уже не будете хорониться под ракитовый куст, как пресловутые зайцы. Не нужно обещаний и клятв. Я знаю, что вы по первому зову пойдете у бой и, если надо, примете смерть.
Взгляд его случайно упал на Сверчкова, и ему показалось, что в глазах толстовца была насмешливая грусть.
– Я уверен, – повысил голос комроты, – что и такие, кто по заблуждению отказываются от войны, также возьмут винтовку и не выпустят ее из рук до тех пор, пока враг не будет сломлен!
10
Получив за хорошую работу благодарность и на митинге, и в приказе, шестнадцатая рота удвоила энергию.
Отстающих подгоняли свои же товарищи, говоря:
– А ну, поднажми! Не позорь красную шестнадцатую!
Вновь прибывающих также принуждали равняться со всеми.
Один из новых не захотел подчиниться требованию товарищей, сказав:
– Как захочу, так и буду работать.
И работал лениво, отдыхал, когда хотел, и отдыхал подолгу, закуривал не в одно время со всеми, как установили сами штрафники, а когда вздумается. И больше курил, чем работал.
В послеобеденный час все три штрафных взвода открыли собрание во дворе казармы и стали обсуждать поведение новичка.
– Наша рота, – сказал Фролкин, первый взявший слово, – работает как один человек, а вот новый товарищ вносит беспорядок, срывает работу. Предлагаю, товарищи, не иметь с ним никаких делов, пока он не станет с нами работать вместе, дружно. Мы, можно сказать, – одна семья, – вдохновился оратор, – спаялись и в работе, и в жизни.
– Правильно! – сказал кто-то.
– Вот! – продолжал Фролкин. – А он, если с нами слиться не желает, пущай будет одиночкой.
– Правильно! – сказал Котельников. – На отшибе.
– Постой! – остановил его Фролкин. – И предлагаю, товарищи, как и говорил, ничего с ним не иметь.
– Бойкот, значит, наложим! – крикнул Бес.
– Да, бойкот, – согласился Фролкин. – Одним словом, не знаем его, раз он нас не хочет знать.
Новенький презрительно усмехнулся и отошел в сторону.
Но бойкот он выдержал всего два дня: у него кончились спички, и никто не давал прикурить.
На третий день он уже работал наравне со всеми, отдыхал, когда отдыхали все, свертывал цигарку по команде «закуривай!».
Прикуривать ему давали – бойкот был снят.
Все штрафники, как сказал Фролкин, действительно как бы представляли одну семью.
Различия между взводами уже не существовало.
Слово «первовзводник» сейчас уже не означало – «злостный штрафник». В первый взвод зачислялся каждый вновь прибывший в роту.
Комиссар Нухнат почти ежедневно стал проводить собеседования с штрафниками.
Говорил о значении гражданской войны, о предательской роли дезертиров и саботажников, сознательно или бессознательно помогающих врагу.
На одном из таких собеседований постановлено было всеми силами бороться с саботажем в роте.
В каждом взводе был выбран старший, на обязанности которого ложились заботы о том, чтобы во взводе все работали как один, чтобы соблюдался порядок в казарме и вне ее.
Каждого нового старший знакомил с условиями жизни в роте.
Он говорил приблизительно следующее:
– Мы, товарищи, представляем здесь как бы одну семью, артель, коллектив. Назови как хочешь. Главное условие – точное исполнение требований ротного начальства. А требуют от нас немногого, именно: чтобы не было никакого саботажа, никаких склок, чтобы соблюдался порядок как в казарме, так и вне ее. Одним словом, живи, как живут в хорошей рабочей или крестьянской семье, ибо ты сын рабоче-крестьянского государства.







