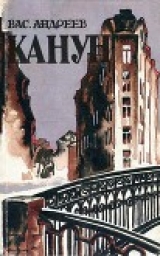
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 26 страниц)
Хочу я смотреть без конца
На то, что так дорого мне:
На юную нежность лица
Хотел бы смотреть без конца.
Какая глупость, пошлость! Вроде тех стихов, что читает этот дурак, министр Любочки Волковой… Но она, Вера, прекрасна и чиста. Душа у нее белоснежная. Она – Снегурочка. Помнишь? Как это?..
Роман Романыч почти испугался, когда писатель упомянул о Снегурочке.
Затаив дыхание, ждал, что тот еще скажет, но писатель из полной кружки отпил глоток пива, поморщился, зажмурясь, потряс головой, а затем швырнул кружку под стол и тяжело выругался.
– Роман Романыч, у меня к вам большая-большая просьба. Вы, конечно, ее исполните, хорошо? Для вас это пустяк, а для меня кошмар.
Глаза у Веры были просящие и вместе обиженные, как у избалованного ребенка; полные щеки слегка зарозовели.
«Богиня красоты», – умильно подумал Роман Романыч и нежно спросил:
– В чем дело?
Вера дотронулась до его руки:
– Видите ли, у меня зачет. А я совсем не знаю тригонометрии. Как пробка, ей-богу. Вы мне поможете, хорошо?
У Романа Романыча упало сердце. С трудом вымолвил задрожавшими губами:
– С удовольствием.
А Вера продолжала:
– Вы меня второй раз спасете. Я вам так буду благодарна. Ведь вы по воскресеньям, конечно, не заняты. Так вот, приходите в это воскресенье, с утра. Обязательно. Часов в одиннадцать или даже в десять, хорошо?
Роман Романыч ушел от Смириных раньше обыкновенного.
Шел как лунатик.
Чуть не попал под трамвай.
10
НОЧЬ НА ПОЛУСТАНКЕ
В условленный день, в воскресенье, Роман Романыч пришел к Смириным и объявил Вере, что заняться с нею по подготовке к зачетам он, при всем своем желании, не может, так как уезжает в командировку в Москву, а оттуда, вероятно, в Донбасс, а может быть, даже и на Урал.
Вера сделала обиженное лицо, а Роман Романыч пожал плечами и глубоко вздохнул:
– Ничего не попишешь. Известна наша инженерская доля: нынче – здесь, а завтра – там, как в песне поется, понимаете ли нет.
На вопрос Веры, когда он уезжает, Роман Романыч отвечал:
– Сегодня с вечерним поездом.
Смирины вызвались проводить его на вокзал.
Кроме портфеля Роман Романыч захватил маленький саквояж, в котором лежали: пеньюар, два полотенца, початая полубутылка водки, в портфеле же – старые газеты и неизменная иностранная книга.
– Это весь ваш багаж? – удивился брат Веры. – А где же подушка, одеяло? Неужели так?
– Э, чепуха! – небрежно махнул рукою Роман Романыч. – Инженер, известное дело, лег – свернулся, встал – встряхнулся.
Роман Романыч не доехал даже до первой станции, куда взял билет, а сошел на полустанке.
Роман Романыч после разговора с Верой о тригонометрии спросил у одного клиента: «Что за штука – тригонометрия?» – и клиент ответил, что это – научный предмет.
Больше Роман Романыч ничего не расспрашивал, так как решил, что этот научный предмет – та труба на трех высоких ножках, вроде тех, что бывают у фотографических аппаратов, в которую смотрят инженеры, когда вымеривают мостовые.
Конечно, он, Роман Романыч, ничего в такой трубе не смыслит, так как не имел практики, но зато тот же инженер, который трубою, то есть тригонометрией, управляет как хочет, не сумеет ни брить, ни стричь, мало того – может, и с безопасной бритвою не управится.
Сколько угодно есть таких, что режутся безопасными бритвами!
Так что кто чему обучен: один бритвою орудовать, другой – тригонометрией.
А от кого больше пользы – это еще бабушка надвое сказала.
Вот он, Роман Романыч, каждый день людей пользует, а перед праздниками так всю Бутугину улицу перестригает и перебривает, а инженер за всю жизнь проложит какую-нибудь железную дорогу, да и то на бумаге, а не на деле, так как строят-то фактически рабочие; большинство же из инженеров и того не делают, а так, мелочи разные чертят да через тригонометрию улицы рассматривают.
А сколько инженеров судится!
Парикмахеров что-то вот не слыхать, чтобы судили.
Потому что работа парикмахерская без всякой фальши и для всех приятная и полезная.
Так думал Роман Романыч, взволнованно расхаживая по ночной пустынной платформе полустанка.
И впервые за всю жизнь в эту весеннюю темную и теплую ночь на полустанке, заброшенном в печальной болотистой низине, ясно сознал Роман Романыч, что труд его нужен, необходим и ничуть не позорен, как и всякий другой полезный и честный труд.
Мучительно захотелось к людям, к Вере Смириной. Сказать ей все, без утайки; что он вовсе не инженер, а рабочий человек, парикмахер; что ни в какую Москву он не думал и уезжать; показать ей и содержимое саквояжа. «Для отвода, мол, глаз этот багаж». А книгу английскую бросить – пусть читает, кто умеет.
Главное же – сказать ей о своей любви.
Разве он не может любить и быть любимым?
Пусть он парикмахер. Зато очаровательно красив. И поет так превосходно, что люди его светочем называют.
– Светоч, – четко произнес Роман Романыч и горделиво огляделся.
Но кругом – непроницаемая тьма, звезд совсем не видно, и небо, казалось, нависло над самой головой.
Лишь вдали – бесчисленные огни города, неподвижные, как светящиеся пуговицы, а от них самое небо над городом горит голубовато-белым огнем.
Послышался шум идущего поезда.
В стороне, противоположной городу, засветились во тьме три ярких глаза. И громче, и громче шум и грохот.
Роман Романыч вспомнил, что надо взять билет. Поспешно задергал ручку двери домика-будки, но дверь была крепко заперта.
Грохот уже обрушивался на него.
Засвистел ветер.
– Откройте! Билет мне надо! – закричал Роман Романыч.
Но дверь глуха, и темны окна домика.
А поезд идет мимо, без свистка, не замедляя хода. Тяжко пропыхтел паровоз, гремя проплыли безглазые вагоны, площадки с досками, какие-то головастые громадины, похожие не то на исполинские уродливые самовары, не то на слепых безногих великанов.
Когда постепенно затих шум уходящего поезда, тишина стала еще глуше и ночь еще темнее.
А вместе с тишиною и тьмой вошла в сердце Романа Романыча тоска.
Как-то без мыслей осозналось, что он одинок и никогда не увидит Веры.
Вспомнил о водке, торопливо достал из саквояжа бутылку и принялся пить прямо из горлышка, морщась и передергиваясь от захватывающей дух горечи.
Быстро охмелел. Но тоска одолевала сильнее. И все яснее стал сознавать Роман Романыч, что он одинок не только здесь, на полустанке, но и везде среди людей.
И Вера Смирина была и будет далека от него, сердце ее никогда не будет ему принадлежать.
И глядя на далекие огни города, единственно среди мертвой тьмы напоминающие о кипящей где-то жизни, Роман Романыч вскрикнул в тоске и отчаянии:
– Вера! Снегурочка моя! Любви хочу, любви!
Слезы брызнули крупными каплями.
Испугавшись этого против воли вырвавшегося резкого пьяного крика, оглянулся кругом и добавил смущенным шепотом:
– Понимаете ли нет?
11
КЛИЕНТ В СЕРОМ КОСТЮМЕ
На нем был серый, стального цвета, костюм, на левой руке синий плащ-пальто, в правой – черная, с костяной ручкой и костяным наконечником, гнущаяся, как рессора, трость; фетровая шляпа кофейного цвета.
Когда он вошел в парикмахерскую, Роман Романыч с удивлением спросил:
– Что угодно?
И услышав обычное: «Побриться», не поверил своим ушам. Ему почему-то казалось, что клиент должен говорить о чем-то другом, а не о бритье или стрижке. Он переспросил:
– Побрить?
А когда клиент сел в кресло, Роман Романыч не знал, что делать, и накинул на плечи клиента пеньюар, хотя этого при бритье не требовалось.
Бывает: в трамвае, поезде, театре или просто на улице какой-нибудь человек обращает на себя всеобщее внимание.
Все смотрят на него с каким-то особенным интересом, не похожим на то любопытство, какое возбуждает красивый или, наоборот, уродливый человек.
В таких людях главное – не внешность, а что-то другое, что не поддается определению.
И говорят о таких людях ничего не говорящее:
– Интересный человек.
Руки Романа Романыча дрожали, и брил он не лихорадочно и порывисто, как всегда, а медленно и неуверенно, словно работал в первый раз. Он сам удивлялся своему непонятному волнению.
С клиентом в сером костюме был еще человек. Он не брился и не стригся, а сидел и разговаривал с приятелем:
– Ты говоришь – «Заря Востока»? – спросил он, очевидно продолжая прерванный разговор.
Роман Романыч подумал: «„Заря востока“ – пьеса так называется. Наверно, опера».
И обратился к клиенту, стараясь говорить как можно изысканнее:
– Извиняюсь за нескромный вопрос: в каком театре, понимаете ли нет, идет сейчас «Заря востока»?
Клиент удивленно приподнял тонкие, слегка срастающиеся брови, и белое лицо его порозовело.
Он хотел что-то ответить, но его приятель сказал громко и отчетливо:
– Конечно, в Большом оперном.
Брея, Роман Романыч терялся в догадках, кто его клиент, и ему хотелось узнать это.
Молодое бритое лицо, светлые, кудрявые волосы, элегантный костюм – по всему этому Роман Романыч заключил, что клиент – артист.
Приятель клиента тоже напоминал актера: толстый, бритый, с помятым лицом; голос громкий и звучный, хотя несколько сиповатый.
«Заграничный артист, – подумал Роман Романыч о клиенте, – немец, по всему видать».
Когда посетители уходили, Роман Романыч не утерпел и спросил:
– Извиняюсь, понимаете ли нет, вы – русские?
– Кто – я? – спросил клиент, а приятель его сказал:
– У него костюм парижский, шляпа из Лондона, а трость американская, но сам он чистокровный русак, но такой русак, что ай-я-яй! Отдай все, да и мало!
А когда оба они ушли, Роман Романыч вышел и, стоя у дверей, на ступеньке, стал смотреть им вслед.
Слегка вздернув голову, легко и пружинисто, словно танцуя, шел человек в сером костюме, отталкиваясь от земли вздрагивающей тростью.
Не только Роман Романыч, но и Алексей и Таисия были в некотором волнении.
– Откуда такие взялись? – говорил Алексей. – Это не из нашего квартала.
– У нас такой интеллигенции нет, – сказал Роман Романыч, – случайно сюда попали. Фланировали. Артисты. Свободный народ.
– А как он на вас похож, Роман Романыч!
Таисия зарделась и добавила:
– Будто ваш брат родной.
После слов Таисии Роман Романыч с радостным волнением вспомнил, что клиент действительно очень на него похож.
Такие же золотистые кудрявые волосы, светлые глаза, красивое, почти юношеское лицо.
Вспомнил, что когда брил его, наклонялся над ним, то лицо клиента напоминало что-то далекое и трогательно-дорогое…
Не детство ли?
Пухлые детские губы, лучистые глаза, веселые золотистые кудри – все это было так дорого, близко, что Роман Романыч несколько раз прерывал работу и задумчиво вглядывался в лицо клиента.
Теперь Роман Романыч подошел к зеркалу и, всматриваясь в свое отражение, подумал: «Такой бы вот костюмчик приобрести».
И ему стало трепетно-весело и легко.
12
СЕРЫЙ КОСТЮМ
Было воскресное утро.
Портной Сыроежкин проснулся с сильной головной болью.
Накануне Сыроежкин наделал дел: пропил два рубля, предназначенные для покупки саржи, набуянил в пивной и был оттуда выброшен официантом Спирькою, грубым детиной, носящим нежное прозвище Отец родной; дома, когда Дарья Егоровна, увидя, что муж – без саржи и пьян как стелька, принялась его ругать, он пытался совершить то, о чем раньше боялся и думать, а именно: побить жену.
Этот безумный, поистине геройский шаг оказался на деле покушением с негодными средствами и, погибнув в самом зародыше, повлек за собою все вытекающие отсюда последствия.
Так, Сыроежкин только сжал кулаки и заскрипел зубами, и на этом его роль кончилась.
Все же остальные действия, обыкновенно следующие за таким воинственным началом, производила уже исключительно Дарья Егоровна, а Сыроежкин, загнанный в угол, прятал голову от жениной туфли, слезно моля о пощаде:
– Егоровна! Золотце! Пожалей! По существу, бить-то некого, сама видишь.
Теперь, проснувшись и прислушиваясь, как шуршит по полу веник и грузно шлепают босые ноги жены, Сыроежкин припоминал подробности происшествий вчерашнего дня.
«Черт меня дернул сцепиться с этой лошадью, – думал Сыроежкин, укрываясь с головою и ощупывая запухший левый глаз. – Ишь топочется, толстопятая!»
Вспомнил, что жена вчера посулила с трезвым с ним поговорить по-настоящему.
«Неужели опять поднимет баталию? Это уж неправильно. За одно дело двух наказаний не полагается».
Эту мысль Сыроежкин скрепил одним из своих любимых выражений и, подбодренный им, как верующий молитвою, сбросил с лица одеяло, намеренно громко зевнул, сел, спустил с высокой кровати кривые, не достающие до пола ноги и, беззаботно болтая ими, сказал:
– Э-эх! Толково поспал!
Дарья Егоровна бросила подметать. Тяжело ступая по скрипящим половицам, не торопясь, приблизилась к кровати и, упершись в широкие бедра толстыми красными руками, в одной из которых был веник, устремила на мужа полный сурового презрения взгляд.
Глядя на веник, Сыроежкин подумал: «Веником еще туда-сюда, кулаком – хуже. Кулачища у ней – что булыжники».
Глубоко вздохнув, ежась под взглядом супруги, потянул к себе брюки, висевшие на спинке кровати.
Дальше пошел такой разговор:
– Ну что, хулиган несчастный? Очень хорошо поступаешь, да?
– Что такое? – удивленный вопрос.
– Что-о? Наклюкался, денежки профукал, а потом женке в морду лезешь!
– Оставь, Егоровна. Мало ли что по пьянке бывает. Известно, у пьяного разум ребячий.
– Нет, извини, милый мой! Небось, об стенку башкой не треснешься, а в харю норовишь заехать. Ты эту моду забудь. Я твое геройство живо из тебя выкурю.
– Ну вот! Теперь – геройство. Ну что я тебе мог сделать? Мне и до хари-то до твоей не достать. Вона ты какая! Прямо, можно сказать, памятник.
Самолюбию Дарьи Егоровны льстило признание мужем ее могущества; особенно понравилось сравнение ее с памятником, но она решила для блага будущего нагнать на мужа побольше страха, а потому подступила к мужу вплотную и сильно повысила голос:
– Так чего ж ты кидаешься на больших людей, карлик ты паршивый, заморыш? Это я тебе воли много даю! Извольте радоваться! Пошел за прикладом, а заместо того нализался да еще драться лезет, козявка! Я не посмотрю, что сегодня праздник! Я тебя, мыша такого, пяткой раздавлю!
Она угрожающе потрясла веником и так топнула своей могучей ногой, что в шкафу зазвенела посуда, а у Сыроежкина замерло сердце, из глаз закапали слезы, а в голове пронеслось: «Убьет, кобыла, раздавит».
Но в этот момент послышался стук в двери.
– Сейчас! – крикнула Дарья Егоровна и, поспешно всунув широкие ступни в туфли, зашлепала к дверям, раскачивая крутые, тяжеловесные бедра.
Дрожащий герой перевел дух и стал одеваться.
В комнату вошел Роман Романыч, празднично одетый, пахнущий одеколоном.
С Дарьей Егоровной он поздоровался галантно: шаркнул ногою и низко склонил голову, с Сыроежкиным – снисходительно.
– Мое почтение, уважаемый! Здрасте, мой дорогой!
Сел на предложенный Дарьей Егоровной стул и сразу приступил к делу.
– Хочу заказать, понимаете ли нет, костюмчик. Серый. Но чтобы фасон настоящий парижский. У меня один знакомый приехал из Парижа. И серый костюмчик у него – шикарный. Прямо, понимаете ли нет, крик моды.
– Парижского материала тут не достать, – угрюмо сказал Сыроежкин.
– Н-да, – вздохнул Роман Романыч. – Коверкот надо бы.
– Коверкот на костюм не годится. Толстоват. Шьют, правда, из коверкота. Но порядочный заказчик не закажет. Надо так называемый серый материал. А коверкот идет на дамские пальто. А материал серый очень даже прилично будет, ежели к тому же взять подороже.
– Мне главное, понимаете ли нет, чтобы фасон был настоящий парижский.
– А какой такой особенный фасон? У нас все фасоны парижские. Тебе пиджачную пару или тройку?
– Тройку?..
Подумал секунду. Закивал головою:
– Да, да, тройку.
– Что ж, сошьем специально. Не хуже Парижа сошьем. Ругаться не будешь. Слава тебе господи, пошили на своем веку всевозможные костюмы. И никто не жаловался. Покупай материал! Хочешь – вместе же и сходим.
Сговорились идти на следующий день за материалом и прикладом.
Столковались и о цене за работу. Роман Романыч не торговался:
– Бери, сколько полагается. Только, понимаете ли нет, угоди. А главное: в какой срок сошьешь? Мне обязательно требуется к троице. А троица у нас в будущее воскресенье. Успеешь ли к троице, Николай Игнатьич?
Сыроежкин принял очень важный и глубокомысленный вид. Закрыл глаза и долго потирал лоб.
Наконец облегченно вздохнул:
– К троице, говоришь… Гм… К троице… Тэк-с… Что ж, ежели завтра купишь материал, то тогда к субботе можно поспеть. Правда, работать придется не покладая рук. А раньше субботы никак нельзя. Потому считай: первая примерка – через два дня, вторая – тоже через два. Ну да, к субботе можно. В аккурат к троице будет готово.
– Уж не жениться ли задумал? – спросила Дарья Егоровна, когда Роман Романыч стал прощаться.
– Может, впоследствии и женюсь, – кокетливо улыбнулся Роман Романыч.
– Бери в женки Таисию. Жалеть не будешь. Девка здоровая и старательная.
Роман Романыч неопределенно усмехнулся, а Сыроежкин, почувствовавший, по случаю получения заказа, что его положение в доме стало устойчивее, чем было несколько минут назад, угрюмо буркнул, покосясь на жену:
– Куда ему корову-то? Доить, что ли?
Желание иметь серый костюм возникло у Романа Романыча после того, как приходил к нему бриться так поразивший его человек в сером костюме.
Сначала Роману Романычу просто казалось, что в таком же, как у похожего на него «артиста», костюме он и сам будет похож на артиста, станет очаровательнее и интереснее, чем есть. И все.
Но потом мысль о приобретении серого костюма положительно лишила его покоя: выходя на прогулку в своем выходном, хорошем синем костюме, Роман Романыч чувствовал себя неловко, словно был полуодет или одет в лохмотья.
Он даже не пошел на вечеринку к Иуде Кузьмичу.
Собирался долго и старательно, два дня упражнялся в пении, но, перед тем как выйти из дома, посмотрел в зеркало. И остался.
А синий костюм к его белому лицу и золотистым волосам шел как нельзя лучше.
И сам Роман Романыч отлично знал это.
По утрам он просыпался с ощущением какой-то потери.
Но потом понимал, что это оттого, что недостает серого костюма.
Теперь, приходя к Сыроежкину на примерки, подолгу просиживал у него.
Одно сознание, что костюм шьется, один вид хотя еще недошитого костюма действовал на Романа Романыча успокаивающе.
Но так как неловко было сидеть над душою, то Роман Романыч делал вид, что интересуется портняжной работой, и расспрашивал то о том, то о другом, касающемся этого цеха.
А хвастливый и словоохотливый Сыроежкин старался поразить Романа Романыча разными тонкостями своего ремесла.
– Наша работка – с загогулинкой, – хитро подмигивал Сыроежкин. – Штучка, можно сказать, с ручкой. Кто незнающий, так в два счета заблудится, что в дремучем лесу.
Указывал на наметку на боках костюма.
– Вот, примерно, нитки белые. Нитки и нитки. А как, думаешь, эта музыка называется? Не знаешь? То-то и оно. А называется силочки. Во!
Он прищелкивал языком и, подняв лохматые брови, смотрел на Романа Романыча так, точно хотел сказать: «Что, брат, выкусил?»
Откладывал в сторону ножницы, втыкал иголку в бортик жилетки, долго, прищуриваясь, смотрел на Романа Романыча, а затем начинал вкрадчиво, с затаенным коварством:
– А вот на плече шов-с. Шов и шов, все так зовут. Верно?
Он поднимал кверху кривой от ножниц палец.
– А между прочим, есть этому шву такое наименование, что думай три года и каких угодно знаменитых ученых собери, и никто ни черта не надумает. А ну-ка?
Выдержав приличную паузу, страшно хмуря брови, выпаливал:
– Гривенка.
Затем, играя накинутым на плечи сантиметром, спрашивал уже тоном добродушного экзаменатора:
– А вот штучка! Это уж просто. Так, легонькая шарада: когда рукава шились длиннее – при царе или сейчас? Что? Не знаете? Так и быть, скажу: при царе – короче, а сейчас – длиннее. А почему так, позвольте спросить?
– Не знаю, – пожимал плечами Роман Романыч.
Сыроежкин грубо кричал:
– А потому, что тогда манжеты носили! Так вот и короче, чтоб их видно было. Голова с мозгами!
По мере того как работа подходила к концу, Роман Романыч чувствовал вместе с нетерпением прилив радости.
Еще за два дня до того, как костюм был сшит, он купил фетровую шляпу кофейного цвета.
А вечером накануне троицы у себя в комнате Роман Романыч в сером костюме и с коричневой шляпой на золотистых кудрях подошел к зеркалу и вздрогнул – так поразительно был он похож на того клиента в сером костюме.
Долго не отходил от зеркала.
Принимал разные позы.
Слегка сдвинул шляпу назад, так что выбилась на лоб кудрявая прядь волос. Откинул голову.
И стал совсем как тот.
Глядя на свое отражение, ощутил, как и тогда, когда, брея, всматривался в лицо необыкновенного клиента, что вот-вот вспомнится что-то забытое, страшно знакомое, милое.
Вот почти вспомнилось.
Даже задрожал Роман Романыч, напрягая память, – боялся упустить. И упустил.
Стало до тоски досадно. И, мучительно силясь вспомнить, пристальнее смотрел в зеркало.
Так иной раз мучает забытый сон.
Забыт, не вспоминается совсем. Но осталось какое-то ощущение сна, и оно мучает. Все напоминает о сне: люди, свое собственное лицо и голос, свет, воздух, звуки – все напоминает и в то же время как бы и мешает вспоминать.
Но в конце концов какое-нибудь слово, звук, лицо представят сновидение во всей ясности.
Вот и теперь.
В раскрытую форточку ворвались звонкие детские голоса.
И когда откатились, звеня где-то вдалеке, Роман Романыч вспомнил, как он стоял так же перед зеркалом, но не в костюме парижского фасона, а в белой рубахе, расшитой по воротнику и подолу зелеными елочками и красными цветками.
13
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАНЬЧЖУРСКОГО ГЕРОЯ
В ту же субботу перед троицей, когда Роман Романыч, облачась в новый костюм, чувствовал себя на высоте блаженства, с Сыроежкиным стряслась беда.
И виновником беды косвенным образом являлся тот же серый костюм.
Было так.
Роман Романыч весь этот день находился, в ожидании костюма, в непрерывном волнении и не дождался, когда Сыроежкин принесет костюм, а сам пришел за ним в тот момент, когда Сыроежкин увязывал костюм в платок.
Дома была и Дарья Егоровна, только что вернувшаяся из бани.
Так что Сыроежкин, получив деньги за работу, передал их из рук в руки жене.
Но, провожая заказчика до выходных дверей, Сыроежкин успел шепнуть ему, что не мешало бы, дескать, спрыснуть обновочку.
Роман Романыч расщедрился и тайком от Дарьи Егоровны сунул Сыроежкину рубль.
– Выпей, миляга, один! А мне, понимаете ли нет, некогда. Делишки есть кой-какие.
Рублевка подмывала Сыроежкина идти в пивную.
Но вырваться из дому было не так-то легко.
Вечером, да еще под троицу, Дарья Егоровна ни за что не пустит.
Разве так, как есть, без шапки да в сандалиях на босу ногу, будто к воротам воздухом подышать?
Сыроежкин сделал пробу.
Потянулся, зевая:
– Уф! Замучился с этим костюмом несчастным. Хуже нет на спешку работать. Башка прямо не своя стала. Пойти на воздух, что ли? У ворот посидеть?
Проба не удалась.
Дарья Егоровна, задрав на табурет исполинскую ногу, обрезала ногти, шумно посапывая.
Не поднимая головы, она сказала твердо, не допуская возражений:
– Знаю твой воздух. Отдохнешь дома. Вот скоро поужинаем да и спать. Нечего шляться.
Ужинал Сыроежкин без всякого аппетита.
В окна неслись шум улицы, веселые певучие голоса детей, звуки гармоники печника Столярова, живущего по соседству.
От всего этого тянуло на предпраздничную улицу, в пивную, где, как дома сейчас, березки по углам.
«Что такое придумать конкретное?» – шевелилось в голове Сыроежкина.
И хотя придумать ничего не мог, но почву на всякий случай подготавливал:
– Хорошо этот заказец подвернулся. По крайности деньжата к троице есть. А на днях Поляков, газетчик, брюки принесет в переделку… Гм… Да… Недельку я не пил. И еще с месяц надо продержаться. Давеча Романыч, как я его провожал: «С меня спрыски, говорит, приходятся. Хочешь, говорит, сейчас принесу?» А я ему: «Не надо. После как-нибудь. Не желаю, говорю, соблазняться».
– Уж ты, пожалуй, откажешься! – усомнилась Дарья Егоровна.
– Ей-богу! Спроси у самого Романыча, если не веришь.
Дарья Егоровна вдруг вспомнила, что собиралась вернуть долг своей сестре.
– Ах ты, шут возьми! Совсем из головы вон. Варваре-то нужно бы восемь рублей отдать. Ведь скоро год, как брали. Бабе-то к празднику деньги во как пригодились бы!
– После праздника еще нужнее будут, – дипломатично заметил Сыроежкин.
Он знал, что жена с ним не согласится. Но и сама к сестре денег не понесет, так как еще не было случая, чтобы она куда-нибудь ходила после бани.
Ленилась даже выходить к воротам.
А сестра Дарьи Егоровны жила далеко, в другом районе города.
Расчеты Сыроежкина оправдались.
Дарья Егоровна принялась кричать, что не после праздника, а именно сегодня нужно отдать Варваре деньги, что еще времени немного, только девять часов, и кооперативы торгуют долго, так что сестра успеет купить, что ей надо.
– Только ведь тебе, чучелу такому, денег-то доверить нельзя, – горячилась Дарья Егоровна.
На это Сыроежкин с невозмутимым спокойствием отвечал:
– Что, я их съем, твои восемь рублей?
– Не съешь, а пропьешь, пьяница несчастная!
– Пропьешь, – пожимал плечами Сыроежкин. – Сегодня человек, вот Романыч-то этот, можно сказать, прямо в глотку лил, и то я отказался. А тут возьму да и пропью. Что у меня, две головы, что ли?
– Ни одной у тебя нету, у дурака такого.
В конце концов Сыроежкин, напутствуемый добрыми словами, вроде: «Если подлость сделаешь, так лучше глаз домой не кажи», «Чтоб я тебя, мерзавца, тогда и не видела больше», вышел из дома, тайно ликующий.
Никакого злого умысла в голове Сыроежкина не было.
Восемь рублей он хотел честно доставить по назначению, а пропить собирался только свой рубль, да и то на обратном пути.
Но дело обернулось совершенно иначе.
Бывает, что человек с нетерпением ждет трамвая, но идут, как нарочно, не те номера, какие нужны, а потом пройдет служебный вагон или повезут какой-то там песок или иной строительный материал; а не то пролетят иллюминованные вагоны с кричащими «ура» ребятишками.
А нужного трамвая все нет и нет.
И кто знает, может быть, не дождавшийся трамвая нетерпеливый человек, отправляясь пешком, заходит по дороге в ресторан или клуб, пропивает, проигрывает казенные деньги или, оказавшись на глухой улице, становится жертвой грабителей.
Сыроежкин простоял на остановке минут десять, показавшихся ему целым часом, а когда наконец подошел нужный трамвай, стоящая на площадке вагона кондукторша закричала, махая рукою:
– Граждане! В парк идет! В парк!
«В парк так в парк», – подумал Сыроежкин.
И пошел.
А по пути завернул в пивную.
Не потому, что уж очень тянуло, а просто захотелось пить.
В воздухе парило, как перед грозою.
Сидя в пивной, Сыроежкин долго вытирал платком лоб и шею и отдувался.
Потряхивая головою, несколько раз обращался к человеку, сидящему за соседним столиком:
– Ну и жарища! Прямо, можно сказать, сварился. Пивка холодненького хорошо выпить. Освежает.
Сосед кивал головою в знак согласия.
– А зимою, напротив, теплое лучше пить. Согревает, – говорил Сыроежкин, любовно глядя на тающую в стакане пену.
Выпил он всего одну бутылку.
«Надо сперва дело сделать».
Выйдя на улицу, быстро зашагал.
Прошел три пивных.
Но недалеко от дома, где жила сестра жены, Сыроежкин опять зашел в пивную.
Теперь уже не потому, что мучила жажда, а манил шум и гам, несшийся из растворенной двери заведения.
А затем произошло то, чего не случалось с Сыроежкиным за всю его почти пятидесятилетнюю жизнь.
Сперва Сыроежкину потребовался собеседник.
Долго искать не пришлось.
В задней комнате пивной за угловым столиком сидел молодой чистенький парень и пил лимонад.
Сыроежкин попросил у него разрешения присесть за его столик, и парень, приподнявшись на стуле, учтиво поклонился:
– Пожалуйста!
Сыроежкин ценил вежливое обхождение, а кроме того, ему понравились веселые ясные глаза и свежее лицо парня, а потому он сразу же заговорил с ним, как со старым знакомым:
– Деньжат сегодня заработал. Костюмчик сшил человеку. Я портной, можно сказать. Специалист своего цеха. Старый специалист.
Молодой человек ласково улыбнулся и закивал головою, точно ему было очень приятно, что Сыроежкин специалист – портной.
– Шикарный костюмчик сварганил. Настоящий парижский. Крик моды, можно сказать. А потому можно и пивка бутылочку пропустить. Правильно?
Молодой человек опять улыбнулся и закивал:
– Совершенно верно. Завтра праздничек – отчего не выпить?
Он помолчал и тихо добавил:
– Я вот думал водочки выпить, да одному полбанки много. И с финансами, знаете, у меня не густо. Не желаете ли войти в компанию на половинных началах?
Сыроежкин быстро рассчитал, что если заказать лимонад, который вдвое дешевле пива, а обратно опять идти пешком, то можно войти в долю на полбутылки, не трогая ни копейки из восьми рублей.
Парень же денег вперед не требовал, так что никакого обмана не предвиделось.
Парень сходил за водкой.
У него оказался и ножичек со штопором.
Он быстро разлил водку по стопкам.
– Лучше, чем пиво-то! – сказал он, чокаясь с Сыроежкиным.
Стал мизинцем вылавливать что-то из стопки.
Вероятно, кусочек пробки или сургуча.
– Ну, будь здоров, товарищ! – сказал Сыроежкин и, не дождавшись, когда парень станет пить, опрокинул в рот стопку.
А парень все еще вылавливал что-то из своей стопки.
Парень поднял голову, но все еще не пил, а устремил на Сыроежкина странный выжидающий взгляд.
«Чего он? Я же свою часть уплатил», – подумал Сыроежкин.
И вдруг почувствовал, как внутри все стало неприятно неметь.
Мгновенно прервались говор, гвалт, звон посуды, словно их кто отрезал.
В глазах заколыхались столы, сидящий напротив человек.
И страшно, до боли, отяжелели веки.
– Понимаешь, сынок? Как хватил, так и сознания решился.
Босой, рослый мальчишка посмотрел на Сыроежкина скучающим взглядом и продолжительно зевнул:
– Подсадил на малинку. Ясное дело.
– Это что же за малинка такая?
Мальчишка, даже не взглянув на Сыроежкина, буркнул:
– Какая? А вот та самая, что ты пил.
Завидя идущего человека, сделал строгое лицо и, выпятив губы, запел сильным, несколько сиплым альтом:
– Булочки с колбаской, с яйцом, пожалуй-те-е!
Улица скучна. Прохожие редки. Не гремят трамваи. Изредка пронесутся грузовые безглазые вагоны, автомобиль с ночными гуляками.
Полусумрачная летняя ночь на исходе.
– Чего домой не идешь?
Сыроежкин обрадовался этому вопросу.
Оживился:
– Прямо, сынок, не знаю, что и делать. К женке идти – значит, под верный мордобой. Она у меня ничего не сознает. А чем я виноват, что меня обобрали?
Случившееся с Сыроежкиным несчастье пробудило в нем страстное желание открыться, поговорить по душам.
И здесь, на подоконнике магазинного окна, чужому босоногому мальчишке он рассказал свою невеселую семейную повесть.







