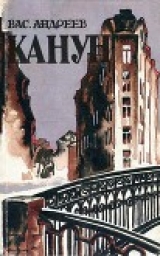
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 26 страниц)
Когда приехал капитан, все в доме радовались.
Толька два дня не выходил. На третий появился во дворе.
Ходил он, странно расставляя ноги. И плечи свои широкие держал приподнято. И как-то неестественно выпячивал грудь, точно за воротник, на спину, ему наливали воду.
На лестнице по секрету рассказывал Вене и еще некоторым, которые побольше:
– Выдрал знатно! По-капитански! Я ему списочек всех дел представил. Святая икона. И сестренку не показал. Вот истинный господь! А скажи я хоть слово, он бы ее устосал! Больно бьет, дьявол!
– Это отец-то дьявол? – укоризненно качал головою швейцаров Антошка.
– Ну так что? К нему не пристанет, хоть антихристом назови… Да-с! Представил ему списочек. А он сигару закурил. Долго читал. Потом: «Все, говорит, здесь?» – «Еще, говорю, тарелку разбил». – «Как разбил?» А ведь тарелку-то Тонька об мою башку разбила. «Так, говорю, разбил. Из рогатки расстрелял». Ну, он говорит: «Принеси Гекторову плетку». Собачью, значит. Принес я. Ну, он и начал. Эх, мать честная!
Толька ухарски сдвигал фуражку. Выбивался белобрысый хохолок. Глаза – дикие, озорные.
– Ка-ак даст! Как хлестанет! Вжж! Вжж!.. Здорово!
В доказательство расстегивал штаны. Задирал рубашку.
Ребятишки щупали сине-багровые рубцы.
– Больно? – спрашивали.
– Нет!
– А вот здесь – больно?
– А здесь, поди, больно, да?
Толька вздрагивал.
– Не… нет!
И добавлял спокойно:
– Не больно! Только вот сидеть нельзя.
– Здорово нажарил, – хихикал наборщицкий Петька.
– Ты бы не выдержал, конечно, – застегивался Толька. – Вот Веник выдержит. Он – крепкий. А тебе где же!
– А ты, небось, злишься на отца? – серьезно спрашивал Антошка.
– Нет! – искренно отвечал Толька. – Он – хороший. Я его люблю. А что выдрал – это не вредно. Я даже люблю, когда дерут. Святая икона! Зубы стиснешь! А как хлестанет – дух захватывает. Будто ныряешь. Хо-ро-шо!
– Хорошо, только сидеть невозможно! – хихикал опять Петька.
– Дурак! Это тоже хорошо! Зато когда заживут – приятно. А теперь, конечно, не только сидеть, а даже спине от рубашки больно.
– Здорово! – не унимался Петька. – Хорошо?
– Не вредно! – ухарски сплевывал Толька.
3
ЗЛАЯ СКАЗКА
Толька Одышев в короткий срок сделался сказкою Славнова дома.
Даже приезд капитана и его жестокая морская порка, после которой Толька неделю не мог сидеть (даже обедал полулежа на боку), не оправдали надежд славновских отцов и матерей на умиротворение озорника и его сообщницы сестры.
Тетя Соня по-прежнему претерпевала мучения от озорства «несчастных детей» и систематически «вгонялась в гроб».
Озорничали они в отсутствие отца, а так как он являлся поздно вечером, то весь день бывал в их распоряжении. Тетя же Соня никогда не жаловалась брату на детей из боязни, что он «убьет» их. И Толька спокойно владычествовал дома и вне дома, во дворе.
Мальчишки подпали под авторитет силы.
Толька делал, что хотел. Игры происходили под его руководством.
Если же он потехи ради бил кого-нибудь из ребят, остальные держали сторону не обижаемого, а обидчика.
Да иначе и нельзя было.
Осилить Тольку можно не иначе как скопом, но Веня, наиболее сильный из остальных, кроме Тольки, ребятишек, редко появлялся во дворе, а без него у славновцев ничего не вышло бы.
Один раз даже пробовали побить Тольку трое: Антошка, Петька и Ленька Шикалов. Но кончилось предприятие так: Антошку за ухо увел с поля битвы отец его, швейцар Лукьян, а оставшиеся двое его соратников, потеряв сильное подкрепление в лице выведенного из строя товарища, начали отступать, правда, с боем.
Наблюдавшая из окна эту сцену Тонька соблазнилась возможностью помучить вечную свою жертву – наборщикова Петьку, – поспешила во двор.
В момент ее появления во дворе брат ее уже прижимал коленом грудь Леньки-гимназиста и ловил рукою наскакивавшего петухом Петьку.
Тонька схватила Петьку в охапку и, несмотря на отчаянное его сопротивление, как всегда, скрутила «заморыша».
Торжество победителей было полное. Чтобы избежать вмешательства взрослых (маленьких они не боялись), жестокие озорники утащили несчастных на лестницу и там дали полную волю своей жестокости, и если бы не случайно проходивший жилец из сорокового, немец Цилингер, с большим трудом разогнавший палкою дерущихся, – неизвестно, чем кончились бы издевательства Тольки и Тоньки над побежденными.
В результате у Петьки – все лицо в царапинах, ссадины на ногах, синяки на боках от щипков и недочет пуговиц на рубашке, у Леньки – синяк под глазом, разодранная в кровь губа и порванная под мышками курточка.
У победителей никаких повреждений. После этого случая славновские ребятишки всецело покорились Толькиной власти.
Толька же, для большей устойчивости положения, подружился с дворниковым сыном Никиткою, здоровенным деревенским мальцом, подминающим в борьбе всех, не исключая и Тольки.
Хитрый Толька знал, что ребятишки, если на их стороне будет здоровяк Никитка, всегда одержат над ним верх.
А также Никитка, при большой своей силе, научившись драться, подчинит себе и его, Тольку.
И потому решил, что выгоднее привязать к себе опасного соперника.
С первого же знакомства, то есть после первой борьбы, Толька, смятый дважды подряд Никиткою, вызвал того на драку и, воспользовавшись необычайной неуклюжестью толстомясого деревенского паренька, пустил в ход все свое уменье и, побив соперника, не задрал перед ним носа, а, наоборот, расхвалил его и стал рассказывать о своих каких-то и где-то драках, причем как бы невзначай упомянул, что он, Толька, убил кулаком нечаянно одного «здоровущего деревенского мальчишку».
Никитка усомнился. Но Толька перекрестился и сказал:
– Вот святая икона! Истинный господь! Убей меня гром!
Никитка поверил, тем более что в момент страшной Толькиной клятвы собирался дождь и гремел в отдалении гром.
А Толька поспешил взять с Никитки слово, что тот никому не расскажет о его признании.
Наивный паренек побожился. И с того дня проникся к Тольке уважением, смешанным со страхом.
Толька же во время грозы в комнате тети Сони зажег лампадку и молился, прося бога, чтобы тот не убивал его громом, так как он божился непозаправду.
Далее, Толька часто угощал Никитку гостинцами, при недоразумениях ребятишек в играх всегда принимал сторону Никитки и в короткий срок сделал из простого мягкого толстомясого увальня надежного помощника, куда надежнее Гектора.
По одному его слову Никитка бил и ломал любого мальчишку.
– Дай Петьке хорошеньче!
И бедный Петька, с которым справлялась Тонька, летел кувырком от здоровенной Никиткиной оплеухи. Поднимался, в слезах и ссадинах, и опять летел.
– Ловко! – хвалил Толька. – Только ты потише, а то убьешь!
– Я и то боюся, – расплывался широкой улыбкою Никитка. – У меня ручищи страсть чижолые. Во кулачище-то!
А Петька просил:
– Не бей, Никитка! Я же к тебе не лезу!
– Чего он ругается? – науськивал Толька. – Намни ему бока, чтобы век помнил!
Никитка, сопя, как тяжелый сильный зверь, хватал плачущего Петьку и, повалив, садился верхом и бил «чижолыми кулачищами» по тощим Петькиным бокам.
– Будет с него! – говорил Толька и предупреждал Петьку. – Пожалуешься матери – не выходи из дома – убьем!
– Я не буду жаловаться, – вздрагивал от плача Петька. – Только вы… ни за что бьете… Что я вам сделал?
– Ну не реви, рева! Людей не так еще бьют. Верно, Никитка?
– Верно, – соглашался тот. – У нас в деревне как праздник, то кольями беспременно дерутся.
– Вот видишь, а ты от кулаков ревешь, – серьезно говорил Толька. – А еще мальчишка!
Никитка внимательно оглядывал маленькую, вздрагивающую от сдерживаемого плача фигурку Петьки и говорил не то с сожалением, не то с насмешкою:
– Человек тоже! Кочан капусты ежель на его положить – не встанет!
– Поборись с Ленькою, – говорил Толька Никитке. – Сколько раз повалишь?
– Сколь хошь!
– Ну а все-таки?
– Разов десять можно.
– А пятнадцать не можешь?
– Могу!
Никитка оглядывал Леньку, щупал его за грудь и плечи и добавлял уверенно:
– Сколь хошь могу!
– Валяй пятнадцать!
Ленька, терпеть не могущий борьбы, рвался из могучих лап Никитки:
– Иди к черту! Не хочу! Брось!
– Мало что не хошь!
Никитка добросовестно укладывал его раз за разом.
– Черт, отстань! Борись с Толькой! – задыхался Ленька.
– Ладно! Помалкивай! – сопел Никитка.
А Толька, засунув руки в карманы и расставив длинные мясистые ноги в смешных коротких штанишках, считал:
– Одиннадцать… двенадцать… Еще три осталось.
После пятнадцатого, дико подщуривая глаза, выкрикивал:
– Слабо еще пять раз!
– Можно хучь десять! – поворачивал к нему широкое красное лицо Никитка, держа зажатым между колен Леньку. – Сколь разов еще? Десять, чего ли?
– Будет с него пяти.
Никитка укладывал Леньку еще пять раз.
Отирал широкой рукою пот со лба.
Ленька, мокрый как мышь, сидел на камнях, тяжело дыша.
– Задышался, – указывал на него Никитка. – А мне хучь што!
Усмехался:
– Воздушный народ в городе. Супротив деревенского горазд легкий.
Даже на взрослых, на пьяных науськивал Толька своего верного цербера.
Идет пьянчужка башмачник хромой, с пением:
На Калинкином мосту
Три копейки – вакса.
Полюбил старик старуху
А старуха – плакса.
А Толька Никитке:
– Ну-ка, покажи ему ваксу! Толкни его, будто нечаянно. Пьяный он, да и нога хромая.
– Да! А он – палкой!
– Где ему! Да и не успеет. Ты так, будто не видишь. А то забеги на лестницу и беги оттуда.
– Вали ты, Толя, а?
– Мне нельзя. Знаешь, скажут: «Нарочно». А ты беги, да скорее, а то пройдет.
Никитка хихикал и шел, озираясь, видимо еще труся.
Толька грозил кулаком:
– У, черт, канителься! Смотри, играть с тобой не буду!
Этого достаточно.
Никитка бежал на лестницу, ложился на окне, поджидая жертвы.
Потом сбегал, насвистывая, с фуражкою, надвинутой на глаза, прыгал через несколько ступенек, чтобы разогнаться. Широкой грудью налетал на слабо держащегося от опьянения и хромоты человека и сбивал его с ног, вылетая во двор радостный и испуганный.
С лестницы выходил ковыляющий, держащийся за ушибленный затылок башмачник:
– Это… это что за бешенство? На людей кидаются? А? Дворник! Дво-о-о-рник!
Старшему, Дмитрию Степанычу, кричал, стуча палкою:
– Ты это расследуй! Я все равно так не оставлю! Я не вор какой, чтобы меня пихать! Что? Мальчишки? Играют? Это, брат, не игра, на людей кидаться!
– Вы, Федор Федорыч, сами вот песни распеваете, думаете, я не слышу? – степенно разглаживал бороду старший. – Вы человек семейный и пьянствуете. И пение во дворах не разрешается. От этого беспокойствие жильцам.
– Ты мне, Степаныч, лазаря не пой! – горячился Федор Федорыч. – И пьянством не упрекай. Не ты меня поил… А от пения – никакого беспокойствия. Подумаешь, какие тут короли нидерландские живут, что человеку петь нельзя!
Он сердито ковылял, стуча палкою:
– Право, короли нидерландские! Ребят и собак бешеных завели. У-у, сволочи!
Грозил палкою в пространство. А Никитка докладывал Тольке:
– Я ему, надо быть, последнюю ногу поломал. Здорово он шмякнулся, ей-ей!
– Молодец! – хлопал Толька Никитку по круглому плечу. – Здоровый ты, черт!
Лицо Никитки расплывалось блином.
– Не больной, это верно.
Жалобы жильцов на проделки невозможных детей встречали холодное равнодушие капитана.
– Взяли да отодрали за уши! – говорил Одышев, дымя крепчайшею сигарой.
– Легко сказать! Да чтобы надрать уши вашему сынку, нужно двух дворников.
– Ерунда! Мальчишка есть мальчишка, какие для него дворники. Я его, конечно, отлуплю, но он озорничать не перестанет.
– Тогда не пускайте его гулять.
– Я не вижу в этом надобности, – дымил капитан.
Жаловались домовладельцу, но успеха также не было.
Славнов, приятель Одышева, принял жалобщиков еще холоднее, чем капитан.
– Простите, пожалуйста! Если ваши дети дерутся между собою, то я тут ни при чем. Отказывать жильцу, потому что физиономия его сына вам не нравится, я не имею права.
– Здесь дело не в симпатиях, а в том, что такие дети, как сынок Одышева, сидят в колониях для малолетних преступников.
– Так вы посадите его туда, о чем же может быть разговор? – язвительно улыбался желчный Славнов.
И жалобы большей частью были малоосновательные: кто-то из мальчишек разбил стекло, сшибли с ног, правда, пьяного, но убогого башмачника, напугали в темноте жиличку из девятнадцатого, Тонька чуть не до смерти защекотала наборщикова Петьку: водой насилу отлили – зашелся.
Но главным образом боязнь родителей заключалась в том, что озорства капитанских детей вредно влияют на нравственность играющих с ними ребят.
И влияние озорников сказывалось.
Дворников Никитка, поощряемый Толькою, играл со славновской мелкотою, как богатырь Васька Буслаев в детстве: швырял, выворачивал руки, отдавливал ноги.
Дети явно портились.
Самые тихони становились грубыми, озорничали. Случалось – похабничали, неприлично ругались.
– Я и ругаться-то не умею, вот святая икона! – крестился опрошенный по этому поводу Толька. – А стекол и совсем не бью, истинный господь!
О стеклах его и не спрашивали, так добавил. Вероятно, разбил.
Вене не позволяли играть с Толькою, да и сам он с ним не сближался.
Странное что-то произошло с Венею.
С первого знакомства капитанский сынок заинтересовал его.
Не нравился, а просто был чем-то интересен.
Но дальше, когда Толька стал оказывать Вене явное благоволение, Веня стал отдаляться от него.
– Вот ты настоящий мальчишка. Один из всех – настоящий, – говорил Толька, а Веня чувствовал нестерпимое желание уйти, не слышать, не видеть Тольки. И не боязнь была, что Толька, как озорник, сделает что-нибудь нехорошее, а просто: не принимало что-то там, внутри, в самом существе Вени, н е п р и н и м а л о Толькиных благожелательных отношений.
Бывало, Толька рассказывает ребятишкам занимательные истории, обращаясь исключительно к Вене.
Веня слушает сначала с интересом.
Рассказывает Толька о морском пароходе, потонувшем во время бури в Индийском океане.
Ребятишки ни звука не проронят, слушают как завороженные.
Толька рассказывает хорошо. Слова у него не грубые, как всегда, а хорошие, не его слова. И голос не звонкий, с небольшой сипотцой, не его голос.
И по мере того как рассказ становится все интереснее – волны перекатываются через палубу тонущего судна, моряки молятся и прощаются друг с другом, – не может больше слушать Веня и уходит.
И выходя с лестницы, где обыкновенно рассказывал Толька, во двор, не верит Веня, что двор этот – славновский двор. Незнакомый какой-то.
И все же как и всегда.
Вот и панель – дорожки, две панели от лестниц до ворот. И флигеля, недавно отштукатуренные, желтые стены.
И вот ихняя ключаревская квартира тридцать – окна ихние: семь окон. И цветы: герань, кактусы, чайная роза – все давно известное, закрыв глаза сказать, перечислить все можно, – но как бы и незнакомое вместе с тем.
И смутно п о н и м а е т – виноват в этом Толька.
Рассказ его о гибнущем судне и сам Толька – виноват. Хотя бы не рассказывал ничего, все равно был бы в и н о в а т. «А что он сделал? В чем виноват?» – спрашивает себя Веня, поднимаясь по лестнице домой.
Но ответить себе не может.
И от этого – и странно, и пусто как-то.
Потом смотрит из окна, как ребятишки играют в «штандар».
И опять – нехорошо и пусто.
Не было Тольки – интересно было смотреть.
Прибежал Толька, и игра показалась не игрою, а безобразным чем-то.
И не просто неинтересной, а безобразной – н е в о з м о ж н о ю показалась простая знакомая игра.
Антошка бросает в стену черный арабский мячик. Кричит:
– Толька!
Толька бежит за упавшим мячиком, хватает его, кричит:
– Штандар!
Разбежавшиеся во все стороны ребятишки при слове «штандар» – останавливаются. Толька бросает мячиком в близстоящего. Игра – известная. Сам Веня сколько раз в нее играл.
Но ч т о – т о н о в о е теперь в ней. «Толька виноват», – думает Веня.
Толька бежит.
Длинные, в коротких штанишках, длинные, но полные ноги. Треплется ветром матросский воротник, прилипли вспотевшие на лбу волосы. Толька как Толька, всегда ведь такой!
И оттого, что в с е г д а т а к о й, – особенно безобразно, неприятно.
И все сплетается в голове: Толька – «штандар». Какое нехорошее слово «штандар!». Толька – буря в море.
Нехорошая буря! Толька…
«А еще в море бывают миражи, марево!..» – вдруг почему-то является мысль.
Толька – мираж! Толька – мираж!
И радостно, и страшно: «Толька – мираж!»
Сам не понимая, что делает, застучал кулаком по железной крышке окна и крикнул:
– Толька – мираж!
И вспомнилось вдруг, как огурчики лежали давно, в детстве раннем, зелененькие, на окне, «смеющиеся огурчики».
– Веня! Ты упадешь! – тревожный знакомый голос.
Веня вздрагивает.
Он – на окне. Во дворе не играют дети. Трубы напротив на флигеле освещены солнцем. Значит, вечер.
Мать гладит его по голове:
– Ложись спать! Разве на окне спят, милый?
– Я не спал, – отвечает Веня.
– Только храпел, а не спал, да? – улыбается мама.
– Нет! Только – не храпел, а Толька – мираж! – отвечает тихо мальчик.
– Ты глупости болтаешь какие-то! Спать хочешь? – хмурится мама.
Веню вдруг охватывает чувство непонятной тревоги. Сам не понимает, что говорит, ухватившись за руку матери обеими руками:
– Мамочка! Я Тольки – не хочу!
– Что? Как не хочешь? – не понимает мать.
– Я Тольки капитановского не хочу! – говорит Веня и чувствует дрожь и в голосе, и в теле.
– И не надо, милый! Не играй с ним! Он нехороший…
Но Веня говорит, еще сильнее дрожа:
– Мамочка, ты не понимаешь! Я не хочу его, Тольку, не хочу! Понимаешь, мамочка, милая?
Отчаяние, страх охватывают оттого, что мать его не понимает.
– Ма-а-ма!..
– Милый… – пугается мать. – Ты что? Он побил тебя, скверный этот мальчишка? Да?
– Нет, мама, нет! Ты не понимаешь! Ты пойми! Зачем – Толька? Не надо Тольки! Не надо! И теперь не поняла?
Отец, вошедший в комнату на истерические крики сына, сказал взволнованно:
– Этот Толька всех с ума сведет! Я в участок заявлю! Черт знает что с детьми из-за него делается!
4
ПОСРАМЛЕННЫЙ ИДОЛ
Отец строго-настрого запретил Вене гулять во дворе.
– Гуляй в саду! Гораздо лучше, чем на вонючем дворе шляться. Или читал бы больше!
Веня принялся за чтение. Купил три книжки, дешевые, но красивые, с пестрыми, пахнущими краскою обложками: «Черный капитан», «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» и арабская повесть «Босфорская змея».
Но несмотря на то что книжки были интересные, Веня никак не мог отделаться от непонятного, гнетущего чувства.
Точно книжки напоминали о чем-то нехорошем.
И вдруг понял: «Черный капитан» – виноват.
Он напоминает Тольку.
Капитан. Толька – сын капитана.
Отложил книгу – не хотелось уже читать.
А со двора неслись голоса играющих в солдатики детей.
– Нале-е-во! Кру-у-гом! Шагом марш! – слышалась команда. «Толька – командует!»
Вспомнил Веня – вчера Толька предлагал:
– Ты, Веник, офицером будешь. Я – командир, а ты мой помощник. Я тебя обучать не буду и на часах тебе не надо стоять. А будешь только ходить и смотреть, чтобы часовые не спали.
Но Веня отказался играть.
– Ты на меня чего-то злишься, – сказал ему Толька. – Я тебя считаю лучше всех, а ты меня не любишь.
Вспоминая теперь, за чтением, вчерашний разговор, Веня ощутил неприятную неудовлетворенность. А со двора опять послышалось:
– Напра-аво! Раз! Два! Три! Раз! Два! Три! Бе-е-гом!
И почему-то непреодолимо захотелось идти на двор, к играющим. И пошел.
Не играть с Толькою в солдатики. А зачем-то увидеть Тольку.
В лицо его ненавистное вглядеться.
И спускался когда по лестнице, странно опять было, как во сне, томительном и тяжелом, когда проснуться хочется и не можешь.
Выйдя во двор, пошел навстречу маршировавшим ребятишкам, но не дойдя до них – остановился.
Из квартиры в первом этаже (в нее вчера переехали новые жильцы, столяры) из окна вылезал мальчуган в пестрой ситцевой рубахе, босой и без шапки.
– Чего смотришь? Не узнал? – крикнул мальчишка.
Спрыгнул. Прошел мимо Вени. Шел мелкими шагами, плечами вертя, точно плясать собирался. Юркий, видно, и озорник. Волосы тоже озорные: рыжие, во все стороны торчат, будто сейчас только драли за вихры.
Лицо пестрое от веснушек.
Веня подумал: «Новый. От столяров».
Пошел следом за мальчишкою. А тот, поравнявшись с играющими, закричал, как заправский унтер:
– Рота-а! Кру-у-гом!
И, обратясь к Тольке:
– Эй ты, генерал-маёр Слепцов! Вот как командовать нужно!
Порядок был нарушен.
Мальчишки остановились, с недоумением глядя на чудного незнакомца.
– Рыжий! – тихо прыснул кто-то.
– Рыжий! Рыжий! – повторили уже громче.
А мальчишка, оскалив широкий и прямой, как щель, желтозубый рот, передразнил:
– Рыжий, рыжий! Эх, вы еще дразнить-то не умеете! Нешто рыжих так дразнят?
– А как? Ну как?
Рыжий запел серьезно и старательно, будто настоящую, песню, даже в такт помахивал рукою и притоптывал ногой:
Рыжий красного спросил:
«Чем ты бороду красил?»
Красный рыжему сказал:
«Я не краской, не замазкой,
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал».
Почесал затылок и опять, семеня ногами, будто пританцовывая, подошел к Тольке:
– Дяденька, а дяденька? Достань воробышка!
– Ты кто такой? – строго спросил Толька, покраснев до ушей.
– А я, ваше благородие, – скороговоркою отвечал рыжий, – есть самый выдающий человек. А родина моя город Пске, Американской губернии, а звать Тимоха, рубаха писана горохом, штаны рисованы змеей. Вона кто я такой! – заключил рыжий, щелкнув языком, как пробкою.
И, не обращая внимания на загоготавших от восторга ребятишек, продолжал, глядя прямо в лицо Тольке:
– А родился я в тысяча восемьсот не нашего году, а месяца и числа не помню, матка пьяным родила. А ты, поди, из легавой породы? – спросил он вдруг Тольку.
– Из какой такой из легавой? – покраснел тот еще сильнее прежнего.
– Из благородных, значит! Чулочки бабские, харя белая да гладкая, во всю щеку румянец, а под носом сопля!
– Евонный отец капитан, – сказал кто-то из ребятишек.
– С разбитого корабля, знаю! – буркнул, не оборачиваясь, рыжий и продолжал:
– Так-то, брат! А звать тебя, поди, Жоржик али Женечка, а?
– Ты чего дразнишься? – не выдержал Толька, надвигаясь на рыжего. – Какой я тебе Жоржик?
– Драться хошь? Погодь, успеем! – отмахнулся спокойно рыжий. – Без драки нам не обойтись, это верно! А только сперва дай с парнишками обзнакомиться. Эй ты, чудный месяц! – крикнул он Никитке. – Ишь, харя! С похмелья двоим не облевать. Приятная физиономия!
Он подошел к оторопевшему пареньку и, внимательно оглядывая его, как какую-нибудь вещь, продолжал серьезно:
– Да-а! Знатная физия! И сам-то что комод красного дерева. Он, поди, вас, братцы, на борьбу всех зараз гребет, оптом? А? И где таких толстомясых делают? Ты, брат, большую сумму денег огрести можешь. Хошь заработать, а?
– Как – денег? Где? – не понял Никитка, сбитый с толку серьезным тоном рыжего.
– Вот чудак, не знаешь! – удивился тот. – Где? А? А в Зоологическом. Ей-богу, тебя можно за деньги показывать! Специально из-за тебя публика пойдет. Э-эх! Браток! Верное дело упущаешь. Играет тут в солдаты, зря ноги ломает. Раз-два! Раз! Два! Ну и чудак, брат, ты! Или денег у тебя своих много?
– Никитка! Дай ему в морду, чего он насмехается, рыжий черт! – крикнул Толька.
– У морды, брат, хозяин есть! – ответил рыжий.
Но Никитка подошел к нему и, засопев, подтолкнул плечом:
– Ну, рыжий бес, валяй! Чего вяжешься? Ну, зачинай, что ли!
– Погодь! – отпихнул его рыжий слегка. – Знаешь, что такое карточка, закусочная и сопатка?
– Чего дурачишься? – полез Никитка уже прямо грудью. – Кака тебе карточка да закусочна?
– Тпр!.. Не при, битюг дурдинский! Задавишь! – отпихнулся опять рыжий. – А карточка, брат, – это харя, а закусочная – рот, а сопатка – нос. А ежели ты этой науки не знаешь, то драться и не берись, не умеешь! А вот бороться давай, тебе это самому приятнее.
Никитка, действительно более уверенный на успех в борьбе, согласился.
– Давай! Думаешь, слабо? Давай, ну?
Рыжий указал на середину двора:
– Сюда выходи, во!
Ребятишки заволновались:
– Ишь, дурак, бороться!
– Зря взялся!
– Никитка его сейчас сломает!
А борцы схватились крест-накрест.
Рыжий, почти на голову ниже Никитки и значительно тоньше его, широко расставив ноги, тонкие и немного кривые, уперся ими крепко, как железными прутьями.
Никитка отчаянно заламывал противника, напирал крутой грудью в лицо.
– Сейчас задавит, – шептались ребята.
А рыжий кричал:
– Ого, грудища-то! Что подушка! Ну и черт! Отъелся здорово!
Хлопал по толстой Никиткиной спине:
– Во, запасец-то!
Никитка, красный как кровь, сопел на весь двор.
Расцепились.
– Здоров! – мотал головой рыжий. – Мужика, ежели который плохонький, задавит с ручательством: одно мясо да жир. Ишь, черт, что свекла стал! Даже ноги красные. Кровищи в нем, надо быть, целая бочка!
Ребятишки стояли молча, еще не могли решить, на чьей стороне будет верх, и потому держались осторожно.
А пыхтящий Никитка говорил, уже горячась:
– Ладно, брат! Чичас я те покажу, почем сотня гребешки!
– Что купец из бани в чистый понедельник, уф, уф! – поддразнивал рыжий. – Ну, давай! Паровоз! Отдохнули! Хватит!
Схватились снова. Затоптались.
– Держись за воздух! – вдруг крикнул рыжий пронзительно.
Ребята ахнули.
Рыжий, приподняв тяжелого противника, мотнул повисшими его ногами в сторону и шмякнул наземь.
– Го-го-го!..
Бесенятами закружились ребятишки.
– Ай да рыжий!
– Молодец!
– Никитка! Не стыдно? Не стыдно?
– У-у-у-у!..
Никитка медленно поднимался.
– Не ушиб, брат, а? – участливо спрашивал рыжий. – Здесь у вас плохо – камень. Вот у нас за Нарвской…
Он не договорил.
Толька сделал два длинных шага и, взмахнув рукой, ударил рыжего сзади по уху.
Тот кувырнулся через поднимавшегося с земли Никитку, но мгновенно вскочил сразу на обе ноги.
– Здорово стегнул! Только сзади, не дело!
Сообразил – кто.
– А, капитан! Ну, брат, это не по-капитански!
А Толька молча ждал, слегка сощурив глаза. Рыжий кинулся на него. Отскочил.
Толька бил крепко, но удары рыжего были необычайны.
Казалось, в удар кулака входила сила и стремительность всего его юркого тела. Точно выстрел – каждый удар.
Толька стал отступать.
Но рыжий не отставал. Удары его делались все стремительнее и жесточе. Даже не заметно было взмахов.
Восторг ребятишек был безграничен.
– Рыжий, рыжий! А-а-а!
– Так! Так!
– Что черт вертится!
– А-а-а!
Толька упал. Вскочил, но снова упал. Из носа и разодранной губы – кровь.
– Толька, сдавайсь!
– Толька, попало!
Кричали мальчишки.
Рыжий стоял, выжидая.
– Ну? Еще? – спросил, прерывисто дыша.
– До-вольно! – ответил Толька, сплевывая кровь.
И, отойдя на несколько шагов, вдруг громко-громко заплакал и побежал.
Веня почувствовал: волною прилило что-то к груди.
Ноги не стояли на месте.
Вприпрыжку, через двор, быстро вбежал на лестницу:
– Ма-ма! Папа! Ма-а-ма! – захлебываясь, кричал.
Кинулся к испуганной матери:
– Мамочка! Мама! Сейчас! Сейчас! Тольку побили! Мама! Слышишь? Толька сейчас плакал! Толька плакал!
5
НОВАЯ СТРАНИЦА
Победа Рыжего над Толькою не была окончательной.
После еще несколько раз, уже «любя», сходились, и все – вничью.
Рыжий беззлобно говорил ребятишкам о Тольке:
– Стегает прилично, несмотря что из господчиков. Сила у него большая.
– А все-таки ты ему завсегда насдаешь, верно? – заискивала мелкота.
– Нет! Поровну у нас идет. Я – его, он – меня. Конечно, ежели всерьез – другое дело. Когда я дерусь позаправду – сила у меня вдвое вырастет. И не отстану, хоть убей!
Действительно, при серьезных стычках Рыжий побивал Тольку, правда, с большим трудом.
Но после таких столкновений утомлялся.
Выросшая вдвойне сила – падала. Сидел потный и бледный, с вздрагивающими пестрыми от веснушек пальцами, в то время как у побитого им Тольки круглые щеки румянились и широкая грудь дышала глубоко и свободно.
В такие минуты Веня жалел Рыжего и ненавидел Тольку.
В борьбе с Никиткою Рыжий не всегда выстаивал. Нередко, когда ему удавалось благодаря неуклюжести противника одержать над ним победу, поваленный Никитка легко сбрасывал с себя победителя и подминал тяжело и плотно.
А однажды на песке, на канале, против славновских ворот, – с полчаса, пожалуй, мучил Никитка Рыжего.
Насел, что тому не дрыгнуть, а сам в носу ковыряет да посмеивается:
– Я быдто ведмедь – всех давлю!
Думали ребятишки – драка выйдет. Но Рыжий не обиделся:
– Черт, – говорит, – жирномясый, здорово припечатал!
– Уж ежели я мясами завалю – будь спокоен, как в санях! – соглашался Никитка.
Но как-никак, а с приездом в Славнов Рыжего ребятишки вздохнули куда свободнее.
Толька с Никиткою не так уж издевались.
Как-то побитый Никиткою до синяков на боках Петька наборщиков пожаловался Рыжему:
– Завсегда бьет и ломает, вот хоть у ребят у всех спроси, – хныкал Петька.
Рыжий разыскал Никитку и предупреждение сделал:
– Смотри, черт мордастый! Коли еще маленьких обидишь – кровью у меня умоешься!
– Какой же он маленький! Петька-то? – оправдывался Никитка. – Он даже меня старше.
– Дурак! Старше! А сравни себя с ним, получится слон и моська!
Петьке же Рыжий посоветовал:
– А ты, нюня, бей чем попадя. Камень – камнем, полено – поленом! И убьешь – не ответишь!
И остальным мальчишкам:
– А вы, братцы, чудаки-покойники! Иванятся у вас эти двое, Толька с Никиткою, и будто так и надо! Ежели б у нас за Нарвской такие Иваны объявились – беспременно им санки порасшибали бы!
– Да, а что мы сделаем с ними? – наперебой тараторила мелкота. – Они вона какие битюги дурдинские, сам видишь!
– Битюги! А вы извозчиками будьте! Вы ведь боитесь, а бояться-то нечего. Всех не убьют. Меня хозяин и то второй год как бить бросил. Потому, ежели он за ремень, я обязательно – за фуганок али за стамеску. И вы бы так. Сила не берет – бей чем попало! Главное, компанией надо. А то у вас так: одного бьют, а другие смотрят, да еще подначивают. А кучей вы могли бы и Тольку этого с Никиткою, да и меня в придачу, честь честью расхлестать.
Ребятишки после между собой:
– Молодец, братцы, он, да?
– Правильный! Не гляди, что рыжий.
– Рыжие тоже разные бывают.
– Они его боятся, страсть!
– Вдвоем не побоятся, – не соглашался швейцаров Антошка. – Толька и один-то его не боится, а вдвоем с Никиткою им с ним и делать нечего.
– А нам нужно за Рыжего стоять. Верно?
– Понятно! Без него нам ничего не сделать.
Ожили ребятишки.
Петька повеселел и порозовел даже.
Никитка оставил его в покое. Изредка лишь легонько «игрался». Силы, крови у Никитки – уйма.
Веселит, радует Никитку здоровье, тело могучее.
Трудно удержаться, не попробовать силы, не прижать, не вертануть какого-нибудь заморыша.
Трудно удержаться от озорства, жестокости каждому здоровому ребенку.
Где удержаться, когда кровь как само счастье?
Сила в каждой частице тела стучится, исхода требует, работы.
Лежит, бывало, Никитка в праздник на песке, семечки лузгает.







