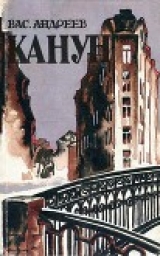
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 26 страниц)
Фролкин, один из старших, составивший, коллективно с Котельниковым и Бесом, эту речь, обычно добавлял:
– Главное, браток, не плошай в работе: не ловчи, не фальшивь, дуй, что называется, самосильно. Урок нам дается нетрудный, так что выполнять его нужно честно, а не ждать, чтобы за тебя работал дядя.
Иногда добавлял еще:
– Самому, браток, лучше! Скорее будешь пить чай с чайным ромом.
Нередко какой-нибудь наивный парень из новичков с любопытством спрашивал:
– А что это за чайный ром?
Фролкин прищелкивал языком:
– Эх! Это, браток, штука такая, какой ты и не пробовал.
Он глубоко, как бы с сожалением, вздыхал и отходил от парня.
Особенно назойливым, добивавшимся узнать, что же такое чайный ром, он отвечал почти сердито:
– Работай подходяще, так все узнаешь. А будешь лодырничать – не видать тебе чайного рома, как своих ушей.
Как-то, во время подобного разговора, происходившего во дворе казармы, подошел комроты.
– Ты что о чайном роме толкуешь? – спросил он Фролкина.
Тот вытянулся, смущенно улыбнулся:
– Так что, товарищ командир, пристал парень: «Что за чайный ром?» А я и говорю: «Будешь, мол, лодырничать, саботировать – никогда его не попробуешь».
– Правильно, – усмехнулся комроты и прошел мимо.
А Фролкин говорил обступившим его штрафникам:
– С прошедшего года, с марта месяца, у меня его во рту капли не было.
– А очень тебе его хочется? – спросил один из штрафников.
– Страсть! – зажмурясь, потряс головой Фролкин. – Во сне, бывает, вижу.
Кругом засмеялись.
– Смейтесь! – обиделся Фролкин. – В прошедшем году сколько я на нем денег пропил, господи! Стояли мы, перед отправкой на фронт, в бывшем кадетском корпусе, на Васильевском, в Петрограде. А там, угол Большого проспекта и Кадетской линии, столовая была. Шикарная. Чистая. Белые скатерти на столах. Девчата – услужающие – тоже в белом. И вот этот ром там, чайный. Так, бывало, чуть свободная копейка – туда. Много наших ребят, второго стрелкового, ходило. Денег не было – так не только сахар, а хлеб загоняли на Андреевском рынке. А другие, случалось, белье загоняли, казенное. Ну, а я-то – нет! Хлеб, сахар – другое дело!
– А хмельной этот ром здорово? – спросил один бородатый штрафник.
– Совсем не хмельной. Что ж тебе в столовой будут самогон продавать? – покосился на бородача Фролкин. – Не хмельной, а сладкий. На настоящем сахарине. Без чаю его и пить нельзя – глотку обдерет от сладости. Да и не в этом дело. Главное, сидишь ты, сладкий чай пьешь. На салфетке. Бабешки подносят. А то еще пирожок закажешь. Картофельные были. Ржаных, правда, не было. Сидишь. Люди сидят. Разговор. Вот в чем дело.
Прибежал Прошка, крикнул:
– Фролкин! Командир требует!
Фролкин двинулся за Прошкой.
– Чай с ромом зовет пить! – крикнули ему вслед штрафники.
– Напоит, как же, – пробурчал Котельников.
– Нас, Фролкин, угости! – смеялись штрафники.
В канцелярии, куда привел Фролкина Прошка, были комроты, комиссар и переписчик.
Комроты и переписчик писали и даже не взглянули на вошедших. Комиссар читал газету. Отложил ее, сказал Фролкину:
– Пойдем, товарищ!
Голос его показался Фролкину сердитым. И взглянул на него как-то странно.
Фролкин встревожился.
«Куда это он меня? – подумал он, когда проходили через двор, к воротам. – В штаб полка, что ли? А зачем?»
Комиссар, обычно веселый и разговорчивый, сейчас был серьезен и молчалив.
Во дворе штрафники с удивлением смотрели на них. И не смеялись.
Когда выходили из ворот, комиссар, пропуская вперед Фролкина, сказал:
– Налево.
Шли так же молча. Фролкин не решался заговорить.
«В штаб, не иначе, – опять подумалось, – куда же комиссару больше ходить?»
Дошли до перекрестка.
– Прямо, – сказал комиссар.
Пошел рядом с Фролкиным.
– Сюда, – указал на открытую настежь стеклянную дверь в небольшом двухэтажном белом доме.
Фролкин, подталкиваемый комиссаром, вошел, и тревога сменилась удивлением.
Прямо против двери – буфетная стойка, столики. Девушка в белом фартуке расставляет тарелки перед сидящими за столом людьми.
Комиссар взял Фролкина за локоть.
– Садись. Здесь, у окна, веселее.
Над окном в клетке пела канарейка.
Фролкин удивленно смотрел на комиссара.
Тот, садясь за столик, широко улыбнулся:
– Садись! Чего стоишь?
Фролкин сел, вытер рукавом вспотевший лоб.
– Чаю, – сказал комиссар подошедшей девушке, посмотрел на Фролкина смеющимися глазами, – с ромом?
Фролкин сконфузился, но повеселел.
– Никакого рома нет. Монпансье, – ответила девушка.
– Экая беда! – вздохнул комиссар. – А мы хотели с ромом. А у вас что-нибудь едят?
– А что хотите?
– А что есть, все хотим.
– Селедка. Картошка. Больше ничего нет.
– Слышишь, товарищ Фролкин? Селедка да еще с картошкой. Это получше, чем чай с ромом, а? – засмеялся комиссар.
– Все хорошо, – засмеялся и Фролкин. – Селедка с картошкой, конечно, сытнее, товарищ комиссар.
– Комиссар здесь – она, – показал Нухнат на девушку. – А я – там, в шестнадцатой.
Девушка улыбнулась.
– Что же вам подать?
– Селедки с картошкой, ясное дело.
– Селедка – отдельно, картошка – отдельно. Картошка – на фунты. Сколько вам?
– Три фунта. Четыре! – махнул рукой комиссар. – Все равно пропадать.
Когда съели большую селедку и четыре фунта картошки, комиссар, разливая чай, говорил задумчиво:
– Не чай с ромом важен, товарищ Фролкин, а свобода. Ты потому чай с ромом помнишь, что пил его, когда был свободен. Что? Не верно?
Он пристально посмотрел на Фролкина прекрасными, небесного цвета глазами. Фролкин вздохнул.
– Верно, товарищ…
– Нухнат, – докончил комиссар.
11
Газеты сообщали о героической смерти бывшего генерала Николаева, служившего в Красной Армии, взятого в плен белыми во время первого похода Юденича на Петроград и казненного ими в Ямбурге. Перед казнью Николаев воскликнул: «Да здравствует советская власть!»
На ротном митинге командир и комиссар шестнадцатой останавливались на этом факте.
Комроты говорил:
– Бросим взор, товарищи, на этот исторический пример. Перед нами – бывший царский генерал, – стало быть, человек, не принадлежащий к классу рабочих и крестьян. Но, как человек честный и сознательный, он понял, что единственная справедливая власть – это власть Советов. Он, бывший генерал, наш товарищ Николаев, на предложение генералов служить у их частях ответил отказом и, идя на казнь, перед смертью сказал: «Да здравствует советская власть!» Бывший генерал умер как красный герой. А вы, товарищи, предавали советскую власть – власть рабочих и крестьян. Да, предавали! Дезертирство – предательство. Дезертируя, вы ослабляли красный фронт, вы облегчали белым борьбу с нами, вы предавали своих братьев и товарищей – красных бойцов. Теперь, товарищи, вы сознали свое тяжкое преступление, вы, работая в красной шестнадцатой, показали себя героями труда, хотя и были сначала дезертирами труда – ленились и саботировали. Вы теперь – герои труда. Но это – половина задания. Вам еще остается смыть с себя пятно позора. Бывшие шкурники, дезертиры фронта, вы должны себя показать с другой стороны: когда будете у рядах красных бойцов, грудью отражающих напор белогвардейской сволочи, то у красных рядах вы должны быть не последними, вы должны, подобно вашим товарищам – красным львам, быть такими же красными львами. Иначе что каждый из вас скажет своим детям, вообще подрастающему поколению, когда они вас спросят: «А что, отец, ты делал у гражданскую войну?» Что ты скажешь? Скажешь: «Я лежал под ракитовым кустом. Потом отбывал наказание за дезертирство у штрафной роте». У тебя язык не повернется сказать это, и ты будешь молчать и краснеть. Даже не у светлом будущем, а теперь – вернись вы домой прямо из штрафной роты, что вы скажете своим деревенским, а городские – городским знакомцам? Что вы скажете тем, кто вернется с фронта, вернется, может быть, с орденом Красного Знамени на груди или с иной какой наградой? Нечего вам, товарищи, сказать. А вы, молодые ребята, что скажете дома своим невестам? Нечего вам сказать. Поэтому, товарищи, вы должны смыть пятно позора. Мало того, что вы должны идти на фронт, но там вы должны с беззаветной храбростью биться за власть Советов, за свою, рабоче-крестьянскую власть, и если придется, то отдать за нее и свою жизнь.
В таком же духе была и речь комиссара Нухната, только говорил он красивее.
Митинги стали теперь происходить в шестнадцатой роте чуть не ежедневно.
Некоторые из штрафников сперва ворчали на то, что «зря теряется время», а потом скучали, когда назначенный митинг почему-либо откладывался на другой день.
Митинги заканчивались пением «Интернационала» и красноармейских песен.
Комроты, дирижируя, вдохновенно пел:
Смело мы в бой пойдем
За власть Советов.
Гремящим голосом, но не в тон, из-за отсутствия слуха, пел комиссар Нухнат, и небесные глаза его горели голубым огнем.
– Дружнее, братцы, – сипловато кричал комроты. – Сильней! Чтобы небо дрожало.
Отыскивал глазами толстовца Сверчкова, кричал ему:
– Сверчков Никита! Дуй от всей души! Это тебе не аллилуйя!
И толстовец подтягивал гнусавой фистулой:
Смело мы в бой пойдем…
Фролкин заливался тонким голосом, чуть не дискантом, Котельников гудел угрюмым басом.
И резко, но не в тон, как и комиссар, орал, терзая уши, толстый Прошка.
На одном из митингов Фролкин и его односельчане Котельников и Григорьев подали заявления, прося отправки на фронт.
Фролкин выступил с речью.
– Товарищи, – сказал он, – вот вы смеялись над чайным ромом! Что я, дескать, скучаю по нем. А дело, братцы, не в чае и не в роме. Когда товарищ комиссар угощал меня чаем в здешней чайнушке – кафе она называется, – то он правильно сказал, что не чайный ром важен, а важна свобода. И я это понимал сам, только раньше разобраться не мог. Вот я сидел с комиссаром за одним столом, услужающая барышня подавала нам картошку и тому подобное. Словом, будто я свободный человек, посетитель, как и все прочие, что там сидели. Но это не так. Я все-таки штрафник, дезертир. Посетители и услужающая барышня и буфетчик – свободный элемент. И все они могут честно смотреть людям в глаза. А появись я или любой из вас, товарищи, в своей деревне, – можем ли мы честно взглянуть людям в глаза? Нет, не можем! И правильно говорит товарищ командир, что сказать нам будет нечего молодежи, когда они нас спросят: «Что ты делал во время гражданской войны?» И будем мы краснеть. Это верно. Ведь домой вернутся и наши деревенские. Который, может, явится без руки или без ноги, а другой с орденом, а кто и совсем не явится – убит. Так как же мы этим фронтовикам да ихним родным в глаза посмотрим? Разве возможно тут в глаза людям взглянуть? Опять – от своих деревенских дезертируй. Беги в лес, прячься под куст. Вот какие дела. Выход, братцы, только один – фронт. Только на фронте мы, бывшие зайцы, как правильно называл нас товарищ комроты, только на фронте можем мы заслужить звание человека. Тогда не только чайный ром, а деревенский кислый квас сладким покажется.
После заявили о своем желании попасть на фронт штрафники Бес и недавно прибывший в роту молодой парень Березкин.
Бес говорил:
– Я дезертировал не со страху, а по глупости. Стосковался по девочке, по невесте. Бои у нас шли здоровые. «Убьют, думаю, бес возьми, и не успею сказать Насте всего, что лежит на сердце». А что на сердце лежало? Любовь. И сейчас она тут, – показал Бес рукой на грудь, и никто не смеялся. – Она тут, – повторил он, и голос его слегка дрогнул. – Ну, значит, и бежал. Но ничего, что хотел, не сказал Насте. Спрашивает она: «Как у вас там на фронте? Бьете белых?» – «Бьем». – «А как, говорит, ты домой попал? Уж не бежал ли?» Сказала и так строго смотрит. Стыдно мне стало. «Не бежал, – говорю, а по увольнительной». И старое удостоверение показываю. А она неграмотная, поверила. Так что бежал ей сердце открыть, а вместо того с первых же слов обманул… Да, товарищи, – продолжал Бес, и голос его задрожал сильнее, – любовь во мне – та же. Да отдаст ли Настя свое сердце дезертиру, штрафнику? Нет, не отдаст! Фронтовику отдаст, а не мне. А потому я и прошу отправить меня на фронт, чтобы фронтовиком вернуться.
– К Насте? – негромко спросил комиссар.
– К Насте, – тихо ответил Бес и взглянул на него серыми, грустными глазами.
Штрафник Березкин сказал:
– Я получил письмо из деревни. Всех моих родных белые убили. Мучили, повесили. Даже десятилетнего братишку. Я прошу послать меня на фронт. Я должен отомстить за своих…
Он кончил свою короткую речь слезами и руганью по адресу белых.
Затем выступил комиссар Нухнат.
– Несколько товарищей, – сказал он, – просят отправки на фронт. Это естественно. Скоро и все, кто находится здесь, в штрафной роте, захотят искупить свою вину участием в боях. Но выступавшие здесь товарищи указывали не на главную причину, заставляющую воевать. Один стыдится своих деревенских, от которых со стыда хоть снова дезертируй – беги в лес под куст. Другой боится, что невеста предпочтет ему, дезертиру, фронтовика. Третий рвется на фронт, чтобы отомстить врагу за своих родных. Все это, конечно, причины, но не главные. А главное то, что вы должны искупить свое дезертирство участием в боях не потому, что иначе стыдно будет перед своими деревенскими и перед невестой, а потому, что стыдно будет перед всем многомиллионным народом, перед всей нашей страной. Оружие мы возьмем в руки и взяли для того, чтобы отстоять свои законные человеческие права. Мы, трудящиеся России, защищаем с оружием в руках свой труд, свои города и деревни, свои фабрики и заводы, землю свою и свободу. Вот для чего мы воюем. Вот почему все, кто в силах, должен идти на фронт.
А потом всех удивил толстовец Сверчков, выступивший с такой речью.
– Я, товарищи, – тихо заговорил он, – чувствую, что нужно переменить веру, вернее – убеждения. Лев Николаевич Толстой, – продолжил Сверчков, слабо улыбаясь, – жил не в такое время. Тогда можно было проповедовать непротивление злу. И опять-таки, когда, например, на меня нападает разбойник, убийца – ну, пусть убьет, но когда вот, как говорил Березкин – и я читал письмо, которое ему писали, – когда мучат и вешают десятилетних детей, тогда какое же непротивление?
– Годовалых шашками рубили! – крикнул кто-то из толпы штрафников.
– Какое же тогда непротивление? – повторил Сверчков, и мутные глаза его засверкали, а голос стал чистым, не гнусавым. – Значит, если я отойду в сторону, откажусь взять винтовку, то я предатель, я соучастник злодеев и убийц? Конечно, так! Я понял, что так. Давно уж понял, а теперь это письмо Березкину окончательно убедило меня: бездействовать нельзя, воткнуть штык в землю – то же самое, что воткнуть его в грудь своего брата.
– Браво, Сверчков Никита! – крикнул комроты и хлопнул в ладоши.
– Браво! – закричали штрафники и оглушительно захлопали.
Сверчков замахал руками – хотел продолжать. Крики смолкли.
– И вот, – закричал Сверчков, – я отказываюсь от своих убеждений. Я прошу отправить меня на фронт красноармейцем.
Он кончил.
– Качать святого! – весело закричал Фролкин, подбежав к Сверчкову.
– Качать! – отозвались штрафники.
Сверчков взлетел несколько раз на воздух, подброшенный десятками рук.
12
Желающим отправиться на фронт комроты объявил, что как только в полку будет формироваться маршевая рота, он направит туда всех, подавших заявление.
Он мог бы отправить и раньше, каждого в свою часть – все штрафники были из фронтовых частей, – но еще выдерживал их.
– Сгоряча поедут, а потом опять сбегут, – говорил он комиссару. – Надо, чтобы действовали вполне сознательно, чтобы не из-за соседей и не из-за невест на фронт шли, а за родину и за революцию. И надо еще, чтобы по-настоящему засвербило, чтобы без фронта жизнь стала не мила. А пока пускай поработают. Труд – самый хороший лекарь от усех болезней. И от дезертирства помогает, дисциплинирует человека. Верно, комиссар?
Нухнат был согласен, что с отправкой можно пока было повременить и что от работы штрафникам будет только польза.
– Надо бы субботник организовать, – сказал комиссар. – Давно собираемся. И чтобы весь командный состав роты принял деятельное участие в субботнике.
– Правильно, – согласился комроты. – У эту же субботу организуем. Идет?
– Идет.
Субботник был назначен: погрузка в вагоны дров для Петрограда.
Накануне комроты созвал комвзводов и объявил им, что в субботнике должны принять участие все, за исключением часовых и дневальных при казарме.
– Так что, товарищ Головкин, – обратился комроты к каптенармусу, – выдай усем лапти, порты и усе, что полагается.
– Я в лапти не обуюсь, – сказал переписчик, – и портов не надену. Гимнастерку только старую.
– Модничать, товарищ Тимошин, не приходится. У лесу работать будешь, а не у канцелярии. Дрова грузить станешь у шикарных сапогах да у галифе? А впрочем, – махнул рукою комроты, – дело твое.
Утром в субботу шестнадцатая в полном составе, кроме нескольких красноармейцев, отбывавших наряды при казарме, вышла на работу.
Все, как и штрафники, были в лаптях и в рабочей одежде, состоящей из старых парусиновых гимнастерок, таких же штанов и бескозырок.
Тимошин тоже в рабочей одежде и даже в лаптях – пожалел трепать хорошие сапоги. Но зато на голове его была не парусиновая, блином, бескозырка, а кожаная фуражка, правда изрядно потертая.
Он оказался в одном ряду с Фролкиным. И тот обратился к нему с деланной почтительностью:
– Вам бы, товарищ, прилично впереди идти. Потому что вы заместо комиссара.
Многие засмеялись. Тимошин не обиделся на насмешку и засмеялся тоже, но не нашел, что ответить Фролкину.
Шли повзводно, с песнями. Впереди роты – командир и комиссар.
Несмотря на ранний час из окон многих домов смотрели люди. Многие уже знали о субботнике.
Из жителей нашлись любопытные, не поленившиеся сопровождать роту до места кладки дров, километра за три за городом. Хотели воочию убедиться, действительно ли будет работать ротный комсостав, особенно командир и комиссар шестнадцатой.
Любопытным предложили принять участие в субботнике. Они стали отказываться, ссылаясь на то, что одеты в неподходящий костюм, но комроты, ласково улыбаясь, сказал:
– А вы поможете подвозить вагонетки. Не запачкаетесь и одежды не порвете.
Дрова были на порядочном расстоянии от железнодорожного полотна и подвозились к нему по двум узкоколейным путям.
– А шестнадцатая рота в долгу не останется, – важно вставил Фролкин. – Накормит вас, граждане, настоящим «куриным бульоном».
В роте уже два дня опять была на обед куреная вобла.
– Мы знаем, из каких кур у вас бульон, – засмеялся один из граждан, – кура не простая, в матушке Волге водится.
– Вот, вот! – радостно вскрикнул Фролкин. – Коли знаете, так не о чем и толковать. Значит, парни свои.
И граждане согласились принять участие в работе, сперва неохотно, но потом, заражаясь общим усердием, веселостью, подбодряемые шутками и песнями, они не отставали в работе от всех.
Хорошее утро и лесная свежесть также располагали к труду.
– Глядите, какие чурки ворочает сам товарищ командир роты, – указал Фролкин на комроты, укладывавшего на вагонетку толстое полено «девятку», и обратился затем к нему с вопросом: – Товарищ комроты, в лапотках-то удобно ли? Поди, склизко без каблуков?
– Я, дорогой товарищ, лапотков-то побольше тебя стоптал у своей жизни. Так что они мне не у диковинку, – ответил комроты, берясь за новое бревно.
– Знаем, товарищ командир. За это и любим вас, и ценим. За то, значит, что кровь в вас текет наша, крестьянская, – торжественно произнес Фролкин.
Комроты, уложив на вагонетку бревно, сказал:
– Кровь у всех красная. А ты шевелись, Фролкин. Меньше языком действуй, а больше – руками.
Фролкин смутился и слегка обиделся.
– Я языком действую от чистого сердца, – вздохнул он, выбрал бревно потолще и, с трудом взвалив его на вагонетку, продолжал: – От чистого. Потому вот вы с нами сравнялись, со штрафниками, и в работе, и в одежде. И всех сравняли, всю роту.
– Дурень! – усмехнулся командир. – Одежда эта – для работы. Не рвать же хорошую. А ну, командуй лучше: «Закуривай!»
– Слушаю, товарищ командир, – вытянулся и блеснул кофейными глазами Фролкин, а затем, вобрав в себя воздух, пропел нестерпимо звонко: – За-ку-ри-вай!
То, что на субботнике вся рота была в одинаковой рабочей одежде, понравилось не только Фролкину, но и остальным штрафникам.
Главное, все оценили, что командир и комиссар были в лаптях.
По этому поводу никто из штрафников даже не отпускал ни шуток, ни острот.
И угрюмый, недоверчивый Котельников не увидел в этом никакого дипломатического шага со стороны начальства, хотя и отнесся к нему равнодушно.
– Раз пошли на работу, то и оделись не по-праздничному, только и всего, – сказал он.
– Но они могли бы не в лаптях идти, а в старых ботинках. Есть у них, поди. Да и каптер разве бы не нашел для них? – возразил один из штрафников.
– Хотели по правилу. Чтобы все – как один, – сказал Котельников.
– А это плохо? – задал ему вопрос Фролкин, на что тот ответил вопросом же:
– Разве плохо, коли по правилу?
– Вот в этом и дело, что начальство у нас правильное. Особенно командир.
– Настоящие люди и он, и комиссар, – сказал бывший толстовец и, вздохнув, добавил: – С ними бы я и на фронт пошел.
– И без них пойдешь, когда пошлют, – засмеялся Фролкин.
– С ними бы – с радостью.
Фролкин стал серьезным.
– Ты это верно говоришь, Сверчков, – сказал он, – с ними, особенно с командиром, я бы хоть сейчас в бой. В самую горячую кашу ежели б он повел – пошел бы, ни о чем не жалея. Честное слово!
– И всякий из нас пошел бы с ним, – убежденно произнес Бес.
С этим согласились многие штрафники. И не было никаких возражений.
13
Прошка, как и штрафники, относился к комроты тепло и доверчиво, как к честному товарищу, за строгость же уважал его. Говорил своему приятелю Кольке:
– Понимаешь, ведь командир, а в лаптях пошел, в портах и во всем, что полагается. Так сам для всей роты постановил. То есть, понимаешь: что он, что штрафник – не распознать. А работал лучше всех. Такие бревна толстущие подбрасывал – любо поглядеть. Вот человек – так человек. Вот командир – так командир.
– Сердитый он у вас, – сказал Колька.
– Нет! – затряс головой Прошка. – Где надо – строгий, это верно, а сердца у него нет. За дело – такого страху напустит – я те дам. Горячий, да глазами как глянет – думаешь, убьет. А он сейчас же спокойненько заговорит. Нет, сердца у него нету, – убежденно повторил Прошка.
– Хорошо тебе, – вздохнул Колька.
– Чем хорошо?
– Да вот, в роте служишь.
– Сирота я. В роту сюда и взяли. Он же опять, командир, спасибо ему.
– Ну так что ж? Все равно – хорошо. Интересно у вас. Люди. Командир у вас такой, сам хвалишь.
– А тебе разве плохо? С матерью живешь, в родительском доме.
– Ну так что ж? Мама моя больная, скоро умрет. А братишка старший злой, ядовитый. Я с ним жить не буду, как мама умрет.
– К нам поступай, в шестнадцатую.
– Если бы взяли – поступил бы. Да не возьмут. Ты есть – куда же двух?
– Может, возьмут.
– Хорошо тебе. Народу у вас много разного. Со всеми можно говорить, разного наслушаться. А у меня мама умирает, стонет все. И жалко ее, и думаешь: «Хоть бы умерла, чем так мучиться». А братишка все сычом смотрит. Буркнет что-нибудь со злости, только и всего. Я уж давно уйти хотел из дома, да мамы жалко. Не она – ушел бы обязательно.
– А куда ушел бы?
– Куда глаза глядят. На фронт бы, добровольцем.
– На фронт, – засмеялся Прошка, – помнишь, меня забоялся в парке? Будто заяц от меня скакал по всему парку.
– Ну так что ж? Ты вон какой медведь. Думал, будешь драться, потому и побежал.
– Чудак! А на фронте – не дерутся?
– Сам чудак. На фронте у всех – оружие. На фронте я бы пулеметчиком заделался. Тогда бы таких, как ты, сотни не испугался бы, – засмеялся Колька.
Прошка удивленно смотрел на него несколько секунд, потом сказал:
– Ты это верно говоришь. На фронте все с оружьем. А с пулеметом если – ничего не страшно.
Как-то Прошка, вызвав Кольку из дома – как всегда свистом, – волнуясь, сказал:
– Знаешь, что я тебе скажу?
– Что? – тоже, еще не зная в чем дело, заволновался Колька.
– Только никому ни слова.
– Никому. Ну?
– Побожись, что никому не скажешь.
– Бога нет. Честное слово – другое дело.
– Скажи: честное слово.
– Ну, честное слово.
– Наша рота, – таинственно зашептал Прошка, – наверно, пойдет на фронт. Командир с комиссаром говорили про отправку какую-то. А отправка ясно – на фронт.
– А когда отправка будет? – спросил Колька.
– Не знаю. Я только слышал, как командир говорил, что надо отправлять людей. Я спросил его: «А на какой фронт?» А он так сердито крикнул: «Чего болтаешь? Какой тебе, дурню, фронт?» И больше ничего не говорил. Потом я комвзвода Панкратова спрашивал, а тот говорит, что ничего не знает. Да врет, поди. Как ему не знать? Ты, Колька, тоже, смотри не болтай никому. Ведь дал честное слово, не забудь.
– Я понимаю. Разве можно болтать? За это не похвалят. Ведь это – военная тайна, – с важностью произнес Колька.
– То-то и есть. Тебе-то я потому сказал, чтобы ты приготовился. Как будем отправляться – и ты просись. Скажи: сирота.
– Как же сирота? Мама у меня еще жива. Я уйду, так она сразу умрет. Она меня любит. Мне ее жалко.
– А может, она к тому времени помрет.
– Может быть. А только мне ее жалко. Я ее люблю.
– Что ж делать? – вздохнул Прошка. – Ты ведь сам говорил, что она очень мучается.
– Это-то верно. А все-таки жалко.
– Еще бы. Родная мать, как же не жалко. Чужого человека – и то жалко. Я вот всякую животную – и то жалею.
– Я тоже. А вот белогвардейцев – нет.
– И я их не жалею, гадов. Наш командир их все гадами называет. Они гады и есть.
– Даже хуже гадов.
– И правда, хуже, – засмеялся Прошка. – Вот лягуха – гад, а она лучше любого белогвардейца. Верно, лучше?
– Конечно, лучше.
– Ну, Колька, мне надо идти в роту. В штаб полка пошлют с бумагами. Тимошин, переписчик, говорил, что бумаги будут. Ну, Колька! На фронт когда поедем – и ты просись. Все равно мать умрет так и так.
– Все равно-то все равно, – нерешительно сказал Колька, – а только ей очень тяжело будет, когда я уйду. Она меня любит.
Прошка вздохнул и сказал:
– Ну ладно. Побегу в роту.
И он тяжело зашлепал толстыми ногами по пыльной мостовой.
14
Когда Прошка после разговора с Колькой пришел в канцелярию шестнадцатой, там шла лихорадочная работа по составлению необходимых бумаг для отправки людей.
Тимошину помогали писать бумаги комиссар и двое штрафников.
Комроты говорил по телефону с адъютантом полка.
– Нет, товарищ адъютант, это не работа, – раздраженно говорил он, – за такую работу попадают у шестнадцатую. Да, да!.. Такую работу, дорогой товарищ, я называю саботажем. У вас дюжина штабистов, а затребование из дивизии проболталось целые сутки в штабе. Теперь за один час времени надо оформить бумаги и отправить людей. Пустяки? Нет, дорогой товарищ, не пустяки! Ведь на тридцать пять человек. Не шутите. С одними арматурными сколько возни. Что говорите? С другим поездом? А другой поезд будет только в десять вечера. Это не годится. Надо обязательно с этим поездом. Тогда у три будут в Петрограде и на шестичасовой попадут не торопясь.
Он повесил трубку и сказал комиссару:
– Безобразие! Мариновали затребование сутки, а теперь за час надо и бумаги заготовить, обмундирование проверить, и произвести посадку людей на поезд. Видишь, комиссар, – добавил он, усмехаясь, – я даже расписываться стал по-адъютантски, не полностью, как советовал мне давно Тимошин.
И он показал только что подписанную им бумагу.
– Что ж, приходится спешить, – сказал комиссар.
Бумаги заготовлялись сравнительно быстро, но много времени отняла проверка обмундирования.
Каптенармус спорил с теми, у кого не хватало кое-каких вещей.
Наконец все было готово.
Прошка тихонько спросил каптенармуса:
– Товарищ Головкин, на какой же фронт отправляют? И почему только тридцать пять человек?
– Какой фронт? Чего чудишь? – недовольно сказал каптенармус. – В село Медведь, в штрафной батальон отправляют.
– Ну? Теперь усе? – спросил комроты Тимошина.
– Все-то все, – ответил тот, – а только на этот поезд не попадут.
– Как? На часовой-то? Сейчас без десяти час.
– Ну, а поезд идет без восьми.
Комроты позвонил на вокзал.
– Алло! Когда идет поезд на Петроград? Алло! Двенадцать пятьдесят две? Через минуту? Дайте коменданта вокзала. А, он самый? Товарищ, задержи поезд на пятнадцать минут. Что? Нельзя? Говорю, задержи! Что? Чье приказание? Не разговаривай! Задержи на пят-на-дцать минут. Ну и усе! Усе в порядке, – сказал он, повесив трубку, и повеселел.
– Не похвалят тебя, – покачал головой комиссар, – комендант будет жаловаться.
– С какой стати? – удивился комроты. – Соглашается задержать, а потом жаловаться?
Команда в тридцать пять штрафников и восемь сопровождающих благополучно выехала в Петроград. А полчаса спустя звонил комполка:
– Комроты шестнадцать? Приди сейчас ко мне. Немедленно!
Комроты сказал комиссару:
– А ты, комиссар, кажется, прав. Нажаловался комендант. Чувствую, что нажаловался. Горбуля чего-то злится.
– Может быть, не насчет этого вызывает, – успокоил комиссар.
– Не знаю. Только Горбуля злится, по голосу слышно. Ну, я пошел. Благословляйте! – сказал комроты, туго затягивая широкий кожаный пояс.
– Ни пуха ни пера, – улыбнулся комиссар.
Войдя в кабинет командира полка, комроты убедился, что предстоит нагоняй.
Комполка что-то писал. Не взглянул на вошедшего и не ответил на его приветствие.
«Нажаловался», – подумал комроты о коменданте вокзала.
Прошло несколько томительных минут.
Комполка отложил перо, поднял на комроты глаза, такие же, как у него, очень светлые. Белая повязка на шее оттеняла смуглоту худощавого бритого лица.
– Ну? – прохрипел он и дотронулся до повязки смуглыми нервными пальцами. – Безобразничаешь, комроты шестнадцать?
– У чем дело, товарищ комполка?
– Не знаешь? – хрипло крикнул комполка, и по лицу его прошла мелкая судорога. – Поезда задерживаешь? Как ты смел задержать поезд? Под суд отдам! В трибунал пойдешь, командир штрафной роты!
Он вскочил, с шумом отодвинул тяжелое кресло, подошел к комроты. Молча, в упор посмотрел на него.
– Товарищ комполка, – начал тот.
– Молчи! Никаких оправданий не может быть! Превысил власть. Ясно? Пять суток. Понял?
Он подошел к столу и, не садясь, стал писать, бросив: «Погоди!»
– На! – дал бумагу, добавил насмешливо. – Без конвоира дойдешь.
Придя в канцелярию шестнадцатой, комроты молча показал комиссару бумагу.
– Э-э! – досадливо покрутил головой комиссар. – Переборщил Горбулин. Неужели не мог отделаться выговором?
– Ничего, – сказал комроты. – Пять суток – немного. И Горбуля прав: я не должен был так поступать. Как-никак – превышение власти.
– Да, – вертя бумажку в руках, задумчиво сказал комиссар, – ну ничего. Пять суток не будешь подписывать бумаг. Только и всего. Передать роту на пять суток комвзводу один.







