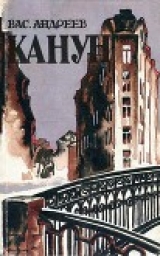
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц)
Бесится, пеною брызжет старик, а Яшка ему подняться не дает. Как сытый большой кот сидит над мышонком.
– Яшка! Уморишь старика. Черт! – кричат, хохоча, пьяные.
Привлеченный необычайным шумом околоточный только на секунду смутил шпану.
Получив от Мельникова, секретно, пятерку, полицейский, козыряя, ушел.
На следующий день Мельников чудил.
За рубль нанял одного из членов «святого семейства», Трошку, обладателя шикарных, как у кота, усов. Сбрил ему один ус.
До вечера водил Трошку по людным улицам, из трактира в трактир, и даже в цирк повел.
С одним усом. За рубль.
Потом поймал где-то интеллигентного алкоголика, Коку Львова, сына полковника.
Кока, выгнанный из дома за беспутство, окончательно спустившийся, был предметом насмешек и издевательств всех гулеванов.
Воры с фарта всегда нанимали его делать разные разности: ходить в белье по улицам, есть всякую дрянь.
Даже богомол Кобыла и тот однажды нанял Коку ползать под нарами и петь «Христос воскресе» и «Ангел вопияше».
А домушник Костя Ломтев, человек самостоятельный, деловой, при часах постоянно, сигары курил и красавчика-плашкета, жирного, как поросенок, Славушку такого, будто шмару содержал, – барин настоящий Костя Ломтев, а вот специально за Кокою приходил – нанимал для своего плашкета.
Славушка – капризный, озорник. Издевался над Кокою – лучше не придумать: облеплял липкой бумагою от мух, заставлял есть мыло и сырую картошку, кофе с уксусом пить и лимонад с прованским маслом, пятки чесать по полтиннику в ночь.
Здорово чудил плашкет над Кокой!
Теперь Мельников, встретив Коку, приказал ему следовать за собою, купил по дороге на рубль мороженого, ввалил все десять порций в Кокину шляпу и велел выкрикивать: «Мороженое!»
За странным «продавцом» бродили кучи народа.
Мельников натравлял мальчишек на чудака.
Полицейские, останавливающие Коку, получали, незаметно для публики, от Мельникова на водку, и шествие продолжалось.
В тринадцатой, куда пришел Мельников с Кокою, уже был Ломтев со Славушкою.
По-видимому, кто-нибудь из плашкетов сообщил им, что Кока нанят Мельниковым.
В ожидании Коки Ломтев со Славушкою сидели за столом.
Ломтев, высокий густоусый мужчина, с зубочисткою во рту, солидно читал газету, а Славушка, мальчуган лет шестнадцати, крупный и очень полный, с лицом розовым и пухлым, как у маленьких детей после сна, сидел развалясь, с фуражкою, надвинутою на глаза, и сосал шоколад, изредка отламывая от плитки кусочки и бросая на пол.
Мальчишки, сидящие в отдалении, кидались за подачкою, дрались, как собаки из-за кости.
Славушка тихо посмеивался, нехотя сося надоевший шоколад.
Когда вошли Мельников с Кокою, Славушка крикнул:
– Кока! Лети сюда!
Тот развязно подошел. Сказал, не здороваясь и с некоторой важностью:
– Сегодня он меня нанял.
И кивнул на Мельникова.
– И я нанимаю! Какая разница? – слегка нахмурился мальчуган.
Протянул розовую, со складками в кисти, руку, с перстнем на безымянном пальце:
– Целуй за гривенник!
Кока насмешливо присвистнул.
– Полтинник еще – туда-сюда.
Мельников кричал:
– Чего ты с мальчишкою треплешься! Иди!
Кока двинулся. Славушка сказал сердито:
– Черт нищий! Пятки мне чешешь за полтинник целую ночь, а с голодухи лизать будешь и спасибо скажешь. А тут ручку поцеловать и загнулся: «Па-алтинник!» Какой кум королю объявился!.. Ну ладно, иди, получай деньги!
Кока вернулся, чмокнул Славушкину руку. Тот долго рылся в кошельке.
Мельников уже сердился:
– Кока! Иди, черт! А то расчет дам!
А Славушка копался.
– Славенька, скорее! Слышишь, зовет? – торопил Кока.
– Ус-пе-ешь, – тянул мальчишка. – С петуха сдачи есть?
– С пяти рублей? Откуда же? – замигал Кока.
– Тогда получай двугривенный.
Но Ломтев уплатил за Славушку. Не хотел марать репутации.
Кока поспешил к Мельникову. Славушка крикнул вслед:
– Чтоб я тебя, стервеца, не видал больше! Дорого берешь, сволочь!
Нахмурясь, засвистал. Вытянул плотные ноги в мягких лакированных сапожках.
Ломтев достал сигару, не торопясь вынул из замшевого чехольчика ножницы, обрезал кончик сигары.
Шпана зашушукалась в углах. Ломтева не любили за причуды. Еще бы! В живопырке, и вдруг – барин с сигарою, в костюме шикарном, в котелке, усы расчесаны, плашкет толстомордый в перстнях, будто в «Буффе» каком!
Ломтев, щурясь от дыма, наклонился к мальчугану, спросил ласково:
– Чего дуешься, Славушка?
– Найми Коку! – угрюмо покосился из-под козырька мальчишка.
– Чудак! Он нанят. Сейчас он к нам не пойдет! Ты же видишь – тот фраер на деньги рассердился.
– А я хочу! – капризно выпятил пухлую губу толстяк. – А если тебе денег жалко, значит, ты меня не любишь.
Ломтев забарабанил пальцами по столу. Помолчав, спросил:
– Что ты хочешь?
Славушка, продолжая коситься, раздраженно ответил:
– А тебе чего? Денег жалко, так и спрашивать нечего!
– Жалко у пчелки. А ты толком говори: чего хочешь? – нетерпеливо хлопнул ладонью по столу Ломтев.
– Хочу, чтобы мне, значит, плевать Коке в морду, а он пущай не утирается. Вот чего хочу!
Мальчишка закинул ногу на ногу. Прищелкнул языком. Смотрел на Ломтева вызывающе, слегка раскачивая стул раскормленным телом.
Ломтев направился к столу, где сидели Мельников с Кокою, окруженные шпаною.
Повел переговоры.
Говорил деловито, осторожно отставив руку с сигарою, чтобы не уронить на костюм пепла. Важничал.
– Мм… Вы понимаете! Мальчик всегда с ним играет.
– А мне что? – таращил пьяные глаза Мельников. – Я нанял, и баста!
– Я вас понимаю. Но мальчугашка огорчен. Сделайте удовольствие ребенку. Мм… Он только поплюет и успокоится. И Коке лишняя рублевка не мешает. Верно, Кока?
– Я ничего не знаю, – мямлил пьяный Кока. – Антон Иваныч мой господин сегодня. Пусть он распоряжается. Только имейте в виду, я за рубль не согласен. Три рубля, слышите?
– Ладно! Сговоримся там! – отмахнулся Ломтев. – Так уступите на пару минуток?
Мельников подумал. Махнул рукою:
– Ладно! Пускай человек заработает. Этим кормится, правильно! Вали, Кока! Видишь, как я тебе сочувствую?
Ломтев любезно поблагодарил. Пошел к Славушке. Кока, пошатываясь, за ним. А сзади шпана, смеясь:
– Кока! Пофартило тебе! Два заказчика сразу.
– Деньгу зашибешь!
– Только смотри, Славка тебя замучает!
А мальчишка ждал, нетерпеливо постукивая каблуком.
Кока подошел. Спросил:
– Стоя будешь?
– Нет! Ты голову сюды!
Славушка хлопнул себя по колену.
– Садись на пол, а башку так вот. Погоди!
Взял со стола газету, расстелил на коленях:
– А то вшам наградишь, ежели без газеты.
Кока уселся на полу, закинул голову на Славушкины колена, зажмурился:
– Глаза-то открой! Ишь ты какой деловой! – сердито прикрикнул мальчишка. – Задарма хошь деньги получать?
Взял из стакана кусочек лимона, пожевал, набрал слюны.
Капнула слюна. Кока дернул головою.
– Мордой не верти! – сказал Славушка, щелкнув Коку по носу.
Опять пожевал лимон.
– Глаза как следует чтобы. Вот так!
Низко наклонил голову. Плюнул прямо в глаза.
Кругом захохотали. Смеялся и Славушка.
– Кока! Здорово? – спрашивала шпана.
– Черт толсторожий! Специально!
– Ладно! – тихо проворчал Кока.
Ломтев, щурясь от дыма, равнодушно смотрел на эту сцену.
– Плашкет! Ты хорошенько! – рявкнул откуда-то Калуга. – Заплюй ему глаза, чтоб он, сволочь, другой раз не нанимался.
– Эх, мать честная! Денег нет! – потирал руки Яшка-Младенец. – Я ба харкнул по-настоящему.
Славушка поднял на него румяное смеющееся лицо:
– Плюй за мой счет! Позволяю!
Младенец почесал затылок.
– Разрешаешь? Вот спасибо-то!
Кока хотел запротестовать, замямлил что-то, но Славушка прикрикнул:
– Замест меня ведь! Тебе что за дело? Кому хочу, тому и дозволю. Твое дело маленькое – харю подставлять!
Младенец шмарганул носом, откашлялся, с хрипом харкнул.
– Убьешь, черт! – загоготала шпана.
– Ну и глотка!
Младенец протянул Славушке руку:
– Спасибо, голубок!
Кока поднялся. Мигал заплеванными глазами. Пошел к Мельникову.
– Смотри, не утирайсь! Денег не получишь! – предупредил Славушка.
– Я за им погляжу, чтобы не обтирался, – предложил свои услуги Младенец.
Славушка заказал чаю.
Ломтев дал Царь-бабе рублевку, важно сказав:
– Это, хозяюшка, вам за беспокойство.
Царь-баба ласково закивала головою:
– Помилуйте, господин Ломтев, от вас никакого беспокойства. Тверезый вы завсегда и не шумите.
Ломтев обрезал кончик сигары.
– Я это касаемо мальчика. Все-таки, знаете, неудобно. Он шалун такой.
– Ничего. Пущай поиграет. Красавчик он какой у вас. Что боровок прямо.
Царь-баба заколыхалась, поплыла за стойку.
– Ну ты, боровок, доволен? – улыбнулся Ломтев.
Мальчуган подошел к нему и поцеловал в лоб.
Ломтев погладил его по круглой щеке.
– Пей чай и пойдем.
А Мельников в это время уже придумал номер: предложил Коке схлестнуться раз на раз с Младенцем.
– Кто устоит на ногах, тому полтора целковых, а кто свалится – рюмка водки.
– А если оба устоят – пополам? – осведомился Кока.
– Ежели ты устоишь – трешку даже дам! – сказал Мельников.
Младенец чуть не убил Коку. Ладошкою хлестанул, да так – у того кровь из ушей. Минут десять лежал без движения. Думали – покойник.
Очухался потом. Дрожа, выпил рюмку водки и ушел, окровавленный.
Славушка ликовал:
– Отработался, Кока? Здорово!
А по уходе Коки составилось пари: кто съест сотню картошек с маслом.
Взялись Младенец и Щенок.
Оба обжоры, только от разных причин: Младенец от здоровья, а Щенок от вечного недоедания.
Премия была заманчивая: пять рублей.
Перед каждым поставили по чугуну с картошкою.
Младенец уписывает да краснеет, а Щенок еле дышит.
Силы неравные.
Яшка – настоящий бегемот из Зоологического, а Костька-Щенок – щенок и есть.
Яшка все посмеивался:
– Гони, Антон Иваныч, пятитку. Скоро съем все. А ему не выдержать. Кишка тонка.
И все макает в масло. В рот – картошку за картошкою.
Руки красные, толстые – в масле.
И лицо потное, блестящее – масляное тоже. Течет, стекает масло по рукам. Отирает руки о белобрысую толстую голову.
Весь как масло: жирный, здоровый.
Противен он Ваньке, невыносим. И жалко отца.
Отец торопится, ест. А уж видно – тяжело. Глаза растерянные, усталые.
А тот, жирный, масляный, поддразнивает:
– Смотри, сдохнешь. Отвечать придется.
Хохочут зрители. Подтрунивают над Щенком:
– Брось, Костька! Сойди!
А Мельников резко, пьяно, точно с цепи срываясь:
– Щенок! Не подгадь! Десятку плачу! С роздыхом жри, не торопись. Оба сожрете – обем по десятке. Во!..
Выбрасывает кредитки на стол. Костька начинает «с роздыхом». Встает, прохаживается, едва волоча ноги и выставив отяжелевший живот.
– Ладно! Успеем. Над нами не каплет! – кривится в жалкую улыбку лицо.
Бледное, с синевой под глазами. А Младенец ворот расстегнул. Отерся рукавом. И все ест.
– Садись, Костька! Мне скушно одному! – смеется.
А сам все в рот картошку за картошкою. Балагурит:
– Эта пища что воздух. Сколь ни жри – не сыт.
Хлопает рукою по круглому большому животу:
– Га-а! Пустяки барабан!
Противен Ваньке Младенец. Жирный, большой, как животное.
И тут же, вроде его, веселый румяный толстяк – Славушка восторженно хохочет, на месте не стоит, переминается от нетерпения на круглых плотных ногах, опершись розовыми кулаками в широкие бока.
И он тоже противен.
И жалко отца.
Бледный. Вздрагивающей рукою шарит в чугуне, с отвращением смотрит на картошку. Вяло жует, едва двигая челюстями.
– Дрейфишь, а? – спрашивает Младенец насмешливо. – Эх ты, герой с дырой! А еще: «Я, говорит, я». Где ж тебе со мной браться? Я и тебя проглочу и не подавлюсь. Ам! И готово!
Глупо смеется. Блестят масляные щеки, вздрагивает от смеха мясистый загривок.
– Сичас, братцы, Щенок сдохнет. Мы из его колбасу сделаем.
Кругом тихо.
Только Славушка, упершись в широкие бока, задрав румяное толстощекое лицо, звонко смеется, блестя светлыми зубами.
– Яшка-а! Меня колбасой угостишь, а? Ха-ха! Слышь, Яшка? Я колбасу очень уважаю.
Захлебывается от смеха.
И больно, и страшно Ваньке от Славушкиного веселья.
И еще страшнее, что отец так медленно, точно во сне, жует.
Вспоминается умирающая лошадь.
Тычут ей в рот траву.
Слабыми губами берет траву. Так на губах и мнется она. Так и остается около губ трава.
Вспоминает умирающую лошадь Ванька – дрожа подходит к отцу, дергает за рукав.
– Папка! Не надо больше!
Поднимается Щенок. Оперся о стол руками.
Наклонился вперед, будто думает, что сказать.
– Ух! – устало и жалобно промолвил и тяжело опустился на стул.
Поднялся. Опять постоял.
– От… правь… те… в боль… ни… цу! – непослушными резиновыми какими-то губами пошевелил.
Тихо стало в чайной.
Только Младенец чавкает. С полным ртом говорит:
– Чаво?.. Жри, знай!
А Щенок не слышит и не видит, может, ничего.
Мучительный, ожидающий чего-то взгляд.
И вдруг – схватился за бока. Открыл широко рот.
– А-а-а! – стоном поплыло. – А-а-а…
Мельников вскочил, схватил Костьку за руку.
– Ты чего, чего? Растерялся.
– Братцы! Извозчика найдите!
Ванька бросился к отцу:
– Папка! Зачем жрал? Папка-а! – в тоске и страхе бил кулаком по плечу отца. – Зачем жрал? Па-ап-ка жа!
А отец не слышит и не видит.
Болью искаженное, темнеющее лицо.
Раздвигается резиновый, непослушный рот:
– А-а-а! – плавно катится умоляющий стон. – А-а-а!
И поднимается суматоха.
Мельников – взлохмаченный, растерянный, отрезвевший сразу:
– Извозчика, братцы! Скорее, ради бога!
Пьяные, рваные бессмысленно толкутся вкруг упавшего лицом вниз Щенка. Гневно взвизгивает Царь-баба:
– Черти! Обжираются на чужое! Сволочи! Тащите его вон отсюдова! Не дам здеся подыхать!
И вдруг, в суматошно гудящую смятенную толпу грозно ударил рявкающий голос:
– Па-гулял богатый гость, купец Иголкин! Теперь наш брат нищий погуляет!
Калуга – пьяный, дикий от злобы, – расталкивая столпившихся, приблизился к Мельникову, взмахнул костистым, в рыжей шерсти, кулаком.
Загремел столом, посудою опрокинутый жестоким ударом Мельников.
Загудела, всполошилась шпана.
– Яшка! – кричал Калуга. – Яшка! Сюды! Гуляем!
Схватил первый подвернувшийся под руку стул и ударил им ползущего на четвереньках окровавленного Мельникова.
– Яшка! Гуляем!
А Яшка опрокидывал столы:
– Ганька! Бей по граммофону!
Шпана бросилась к выходу.
Заковыляли, озираясь, трясущиеся старухи, с визгом утекали плашкеты. Не торопясь, ушел со Славушкою под руку солидный Ломтев.
Царь-баба визжала где-то под стойкою:
– Батюшки! Караул! Батюшки, убили-и-и!..
И покрывавший и крики, и грохот – рявкающий голос:
– Я-а-шка! Гу-ляй!
И в ответ ему – дико-веселый:
– Бей, Ганька! Я отвечаю!
Трещат стулья, столы.
Грузно, как камни, влепляются в стены с силою пущенные пузатые чайники, с веселым звоном разбиваются стаканы.
И бросается из угла в угол, как разгулявшееся пламя, рыжий, кровоглазый, с красным, словно опаленным, лицом Калуга, с бешеною силою круша и ломая все.
А за ним медведем ломит толстый, веселый от дикой забавы Яшка-Младенец, добивая, доламывая то, что миновал ослепленный яростью соратник.
И растут на полу груды обломков.
И тут же, на полу, вниз лицом – умирающий или уже умерший Костька-Щенок и потерявший сознание, в синяках и кровоподтеках Мельников.
А над ним суетится, хороня в рукаве (на всякий случай) финку, трезвый жуткий Маркизов.
Толстый мельниковский бумажник с тремя тысячами будет у него.
3
Осиротевшего Глазастого взял к себе Костя Ломтев.
Из-за Славушки.
Добрый стих на того нашел, предложил он Косте:
– Возьмем. Пущай у нас живет.
Ломтев пареньку ни в чем не отказывал, да и глаза Ванькины ему приглянулись – согласился:
– Возьмем. Глазята у него превосходные.
Приодел Ломтев Ваньку в новенькую одежду. Объявил:
– Ты у меня будешь все равно как курьер. Ежели слетать куда или что. Только смотри, ничего у меня не воруй. И стрелять завяжи. Соренка потребуется – спроси. Хотя незачем тебе деньги.
Зажил Ванька хорошо: сыто, праздно.
Только вот Славушки побаивался. Все казалось, что тот примется над ним фигурять.
Особенно тревожился, когда Ломтев закатывался играть в карты на целые сутки.
Но Славушка над Ванькою не куражился. Так, подать что прикажет, за шоколадом слетать, разуть на ночь.
Раз только, когда у него зубы разболелись от конфект, велел он, чтобы Ванька ему чесал пятки.
– Первое это мое лекарство, – сказал он, укладываясь в постель. – И опять же, ежели не спится – тоже помогает.
Отказаться у Ваньки не хватило духа. Больше часа «работал».
А Славушка лениво болтал:
– Так, Ваня, хорошо! Молодчик! Только ты веселее работай! Во-во! Вверх лезь. Так! А теперь пройдись по всему следу. Ага! Приятно.
Ваньке хотелось обругаться, плюнуть, убежать. Но сидел, почесывая широкие лоснящиеся подошвы ног толстяка.
А тот лениво бормотал:
– Толстенный я здорово, верно? Жиряк настоящий. Меня Андрияшка Кулясов все жиряком звал. Знаешь Кулясова Андрияшку? Нет?.. Это, брат, первеющий делаш. Прошлый год он на поселение ушел, в Сибирь.
Помолчал. Продолжал мечтательно:
– У Кулясова хорошо было… Да. Эх, человек же был Андрияшка Кулясов! Золото! Костя куда хуже. Костя – барин. Тот много душевнее. И пил здорово. А Костя не пьет. Немец будто. С сигарою завсегда. А как я над Кулясовым кураж держал! На извозчиках беспременно. Пешком ни за что. Кофеем он меня в постели поил, Андрияшка. А перстенек вот этот – думаешь, Костя подарил? Кулясов тоже. Евонный суперик. Как уезжал в Сибирь – на вокзале мне отдал. Плакал. Любил он меня. Он меня, Ваня, и к пяткам-то приучил. Он мне чесал, а не я ему, ей-богу! Утром, это, встанет, начнет мои ножки целовать, щекотать. А я щекотки не понимаю. Приятность одна, а больше ничего. Так он меня и приучал. Стал я ему приказывать. «Чеши, говорю, пяты за то, что они толстые». Он и чешет. Хороший человек! Первый человек, можно сказать. Любил он меня за то, что я здоровый, жиряк. Я, бывало, окороками пошевелю. «Гляди, говорю, Андрияша. Вот что тебя сушит». Он прямо что пьяный сделается.
Славушка тихо посмеивается. Лениво продолжает:
– А с пьяным с ним что я вытворял. Господи! Он, знаешь… что барышня, нежненький. В чем душа. А я – жиряк. Отниму, например, вино. Сердится, отнимать лезет бутылку. Я от него бегать. Он за мною. Вырвет кое-как бутылку. Я сызнова отбираю. Так у нас и идет. А он от тюрьмы нервенный и грудью слабый. Повозится маленько и задышится. Тут я на его и напру, что бык. Сомну это, сам поверх усядусь и рассуждаю:
«Успокойте, мол, ваш карахтер, не волнуйтеся, а то печенка лопнет…» А он бесится, матерится на чем свет, плачет даже, ей-ей! А я на ем, жиряк такой, сижу преспокойно. Разыгрываю: «Не стыдно, говорю. Старый ты ротный, первый делаш, а я, плашкет, тебя задницей придавил?» Натешусь – отпущу. И вино отдаю обратно. Очень я его не мучил. Жалел.
Славушка замолкает. Зевает, потягиваясь.
– Еще немножечко, Ваня. Зубы никак прошли. Да и надоело мне валяться… Ты, брат, знаешь, что я тебе скажу? Ты жри больше, ей-богу! Видел, как я жру? И ты так же. Толстый будешь, красивый. У тощего какая же красота? Мясом, как я, обрастешь – фраера подцепишь. Будет он тебя кормить, поить, одевать и обувать. У Кости товарищи которые, на меня, что волки, зарятся. Завидуют ему, что он такого паренька заимел. Письма мне слали, ей-ей! Я тебе покажу когда-нибудь письма. Только ты ему не треплись, слышишь? Да… Всех я их с ума посводил харей своей да окороками, вот! И то сказать: такие жирные плашкеты разве из барчуков которые. А нешто генерал или какой граф отдадуть ребят своих вору на содержание? Ха-ха!.. А из шпаны если, так таких, как я, во всем свете не сыскать. Мелочь одна: косолапые, чахлые, шкилеты. Ты вот, Ванюшка, еще ничего, не совсем тощий. Много паршивее тебя бывают. Ты – ничего. А жрать будешь больше – совсем выправишься. Слушай меня! Верно тебе говорю: жри, и все!
Костя Ломтев жил богато. Зарабатывал хорошо. Дела брал верные. С барахольной какой хазовкою и пачкаться не станет. Господские все хазы катил. Или магазины. Кроме того, картами зарабатывал. Шулер первосортный.
Деньги клал на книжки: на себя и на Славушку.
Костя Ломтев – деловой! Такие люди воруют зря. Служить ему надо бы, комиссионером каким заделаться, торговцем.
Не по тому пути пошел человек. Другие люди – живут, а такие, как Костя, – играют.
Странно, но так.
Всё – игра для Кости. И квартира роскошная, с мягкою мебелью, с цветами, с письменным столом, – не игрушка разве?
Для чего вору, спрашивается, письменный стол?
И сигары ни к чему. Горько Косте от них – папиросы лучше и дешевле.
А надо фасон держать! Барин, так уж барином и быть надо.
В деревне когда-то, в Псковской губернии, Костя пахал, косил, любил девку Палашку или Феклушку.
А тут – бездельничал. Не работа же – замки взламывать? И вместо женщины, Пелагеи или Феклы, – с мальчишкою жил.
Вычитал в книжке о сербском князе, имевшем любовником подростка-лакея, – и завел себе Славушку.
Играл Костя!
В богатую жизнь играл, в барина, в сербского князя.
С юности он к книжкам пристрастился.
И читал всё книжки завлекательные: с любовью, с изменами и убийствами. Графы там разные, рыцари, королевы, богачи, аристократы.
И потянуло на такую же жизнь. И стал воровать.
Другой позавидовал бы книжным и настоящим богачам, ночи, может, не поспал бы, а наутро все равно на работу бы пошел.
А Костя деловой был.
Бросил работу малярную свою. И обворовал квартиру.
Первое дело – на семьсот рублей. Марка хорошая! С тех пор и пошел.
Играл Костя!
И сигары, и шикарные костюмы, и манеры барские, солидные – все со страниц роковых для него романов.
Богачи по журналам одеваются, а Костя, вот, по книгам жил.
И говорил из книг, и думал по-книжному.
И товарищи Костины так же.
Кто как умел – играли в богатство.
У одних хорошо выходило, у других – неудачно. Из тюрем не выходили.
Но все почти играли.
Были, правда, другого коленкора воры, вроде того же Селезня из бывшей тринадцатой.
У таких правило: кража для кражи.
Но таких – мало. Таких презирали, дураками считали.
Солидные, мечтающие о мягких креслах, о сигарах с ножницами – Ломтевы Селезней таких ни в грош не ставили.
У Ломтева мечта – ресторан или кабаре открыть.
Маркизов, ограбивший Мельникова во время разгрома тринадцатой, у себя на родине, в Ярославле где-то, открыл трактир.
А Ломтев мечтал о ресторане. Трактир – грязно.
Ресторан или еще лучше – кабаре с румынами разными, с певичками – вот это да!
И еще хотелось изучить немецкий и французский языки.
У Ломтева книжка куплена на улице, за двугривенный: «Полный новейший самоучитель немецкого и французского языка».
Костя Ломтев водил компанию с делашами первой марки. Мелких воришек, пакостников – презирал.
Говорил:
– Воровать так воровать, чтобы не стыдно было судимость схватить. Чем судиться за подкоп сортира или за испуг воробья – лучше на завод идти вала вертеть или стрелять по лавочкам.
На делах брал исключительно деньги и драгоценности. Одежды, белья – гнушался.
– Что я, тряпичник, что ли? – обижался искренно, когда компаньоны предлагали захватить одежду.
Однажды, по ошибке, он взломал квартиру небогатого человека.
Оставил на столе рубль и записку: «Синьор! Весьма огорчен, что напрасно потрудился. Оставляю деньги на починку замка».
И подписался, не полностью, конечно, а буквами: «К. Л.».
Труд ненавидел.
– Пускай медведь работает. У него голова большая.
Товарищи ему подражали. Он был авторитетом.
– Костя Ломтев сказал.
– Костя Ломтев этого не признает.
– Спроси у Ломтева, у Кости.
Так в части, в тюрьме говорили. И на воле тоже.
Его и тюремное начальство, и полиция, и в сыскном – на «вы».
«Тыкать» не позволит. В карцер сядет, а невежливости по отношению к себе не допустит.
Такой уж он важный, солидный.
Чистоплотен до отвращения: моется в день по несколько раз, ногти маникюрит, лицо на ночь березовым кремом мажет, бинтует усы.
Славушку донимает чистотою.
– Мылся?
– Зубы чистил?
– Причешись!
Огорчается Славушкиными руками. Пальцы некрасивые: круглые, тупые, ногти плоские, вдавленные в мясо.
– Руки у тебя, Славка, не соответствуют, – морщится Костя.
– А зато кулачище какой, гляди! – смеется толстый Славушка, показывая увесистый кулак. – Все равно у купца у какого. Тютю дам – сразу три покойника.
Славушка любит русский костюм: рубаху с поясом, шаровары, мягкие лакировки. Московку надвигает на нос.
Косте нравится Славушка в матросском костюме, в коротких штанишках.
Иногда, по просьбе Кости, наряжается так, в праздники, дуется тогда, ворчит:
– Нешто с моей задницей возможно в таких портках? Сядешь, и здрасте. И без штанов. Или ногу задрать, и страшно.
– А ты не задирай. Подумаешь, какой певец из балета, ноги ему задирать надо! – говорит Костя, с довольным видом разглядывая своего жирного красавца, как помещик откормленного поросенка.
Ванькою не интересовался.
– Глазята приличные, а телом – не вышел, – говорил Ломтев о Ваньке. – Ты, Славушка, в его года здоровее, поди, был. Тебе, Ваня, сколько?
– Одиннадцать! – краснел Ванька, радуясь, что Ломтев им не интересуется.
– Я в евонные года много был здоровше, – хвастал Славушка. – Я таких, как он, пятерых под себя возьму и песенки петь буду: «В дремучих лесах Забайкала».
Запевал.
– Крученый! – усмехался в густые усы Костя.
Потом добавлял серьезно:
– Надо тебя, Ванюшка, к другому делу приспособить. Живи пока. А потом я тебе дам работу.
«Воровать!» – понял Ванька, но не испугался.
К Ломтеву нередко приходили товарищи. Чаще двое: Минька-Зуб и Игнатка-Балаба. А один раз с ними вместе пришел Солодовников Ларька, только что вышедший из Литовского замка из арестантских рот.
Солодовников – поэт, автор многих распространенных среди ворья песен: «Кресты», «Нам трудно жить на свете стало», «Где волны невские свинцовые целуют сумрачный гранит». Эти песни известны в Москве и, может, дальше.
Ваньке Солодовников понравился. Не было в нем ни ухарской грубости, ни презрительной важности. Прямой взгляд, прямые разговоры. Без подначек, без жиганства.
И Зуб и Балаба о Солодовникове отзывались хорошо.
– Душевный человек! Не наш брат – хам. Голова!
– Ты, Ларион, все пишешь? – полуласково, полунасмешливо спрашивал Ломтев.
– Пишу. Куда же мне деваться?
– Куда? В роты – конечно. Куда же больше? – острил Костя.
– Все мы будем там, – махал рукою Солодовников.
День его выхода из рот праздновали весело. Пили, пели песни. Даже Костя вылил рюмки три коньяку и опьянел.
От пьяной веселости он потерял солидность. Смеялся мелким смешком, подмигивал, беспрерывно разглаживал усы.
Временами входил в норму. Делался сразу серьезным, значительно подкашливал, важно мямлил:
– Мм… Господа, кушайте. Будьте как дома. Ларион Васильич, вам бутербродик? Мм… Славушка, ухаживай за гостями. Какой ты, право!..
Славушка толкал Ваньку локтем, подмигивал:
– Окосел с рюмки.
Шаловливо добавлял:
– Надо ему коньяку в чай вкатить.
А Ломтев опять терял равновесие. «Господа» заменял «братцами», «Ларион Васильича» – «Ларькою».
– Братцы, пойте! Чего вы там делите? Минька, черт! Не с фарту пришел.
А Минька с Балабою грызлись.
– Ты, сука, отколол вчерась. Я же знаю. Э, брось крученому вкручивать. Мне же Дуняшка все начистоту выложила! – говорил Минька.
Балаба клялся:
– Истинный господь, не отколол! Чтоб мне пять пасок из рот не выходить! Много Дунька знает. Я ее, стерву, ей-богу, измочалю! Что она, от хозяина треплется, что ли?
А Солодовников, давно не пивший, уже опьянел и, склонив пьяную голову на руку, пел восторженным захлебывающимся голосом песню собственного сочинения.
Скажи, кикимора лесная.
Скажи, куда на гоп пойдешь?
Возьми меня с собой, дрянная,
А то одна ты пропадешь.
О, мое нежное созданье,
Маруха милая моя!
Скажи, сегодня где гуляла
И что достала для меня?
Притихшие Минька с Балабою подхватили:
Гуляла я сегодня в «Вязьме»,
Была я также в «Кобызях»,
Была в «Пассаже» с посачами,
Там пела песню «Во лузях».
К нам прилетел швейцар с панели,
Хотел в участок нас забрать —
Зачем мы песню там запели,
Зачем в «Пассаж» пришли гулять.
Ломтев раскинул руки в стороны, затряс ими, манжеты выскочили. Зажмурился и, скривя рот, загудел басом:
Гуляла Пашка-Сороковка
И с нею Манька-Бутерброд,
Мироновские Катька с Юлькой
И весь фартовый наш народ!..
Потом все четверо и Славушка пятый:
Пойдем на гоп, трепло, скорее,
А то с тобой нас заметут!
Ведь на Литейном беспременно
Нас фигаря давно уж ждут.
А Солодовников поднял голову, закричал сипло:
– Стой, братцы! Еще придумал. Сейчас, вот. Ах, как! Да!
Запел на прежний мотив:
В Сибирь пошли на поселенье
Василька, Ванька, Лешка-Кот,
Червинский, Латкин и Кулясов —
Все наш, все деловой народ.
Солодовников манерно раскланялся, но сейчас же сел и снова, склонив голову на руки, закачался над столом. Дремал.
А Ломтев глупо хохотал, разглаживая усы. Поднялся, пошатываясь (Славушкин чай с коньяком подействовал), подошел к Солодовникову:
– Ларя! Дай я тебя поцелую! Чудесный ты человек, Ларя! Вроде ты как Лермонтов. Знаешь Лермонтова, писателя? Так и ты. Вот как я о тебе понимаю, Ларя! Слышь, Ла-аря? Лермонтова знаешь? Спишь, че-ерт!
Солодовников поднял на Ломтева бессмысленное лицо, заикаясь, промычал:
– По-вер-ка? Есть!
Вскочил. Вытянул руки по швам:
– Так точно! Солодовников!
– Тюрьмой бредит! – шепотом смеялся Славушка, подталкивая Ваньку. – Поверка, слышишь? В тюрьме же это – поверка-то.
Солодовников очухался. Прыгали челюсти.
– Пей, Ларя! – совал ему рюмку Ломтев.
– Не мо… гу… у, – застучал зубами. – Спа-ать…
Его уложили на одной кровати с Ломтевым. Минька с Балабою пили, пока не свалились.
Заснули на полу, рядом, неистово храпя.
– Слабые ребята. Еще время детское, а все свалились! – сказал Славушка.
Подумал, засмеялся чему-то. Уселся в головах у спящих.
– Ты чего, Славушка? – с беспокойством спросил Ванька.
– Шш! – пригрозил тот.
Наклонился над Минькою. Прислушался. Стал тихонько шарить рукою около Миньки.
– Погаси свет! – шепнул Ваньке.
– Славушка, ты чего?
– Погаси, говорят! – зашептал Славушка.
Ванька привернул огонь в лампе.
На полу кто-то забормотал, зашевелился.
Славушка бесшумно отполз.
Опять на корточках подсел. Потом вышел на цыпочках из комнаты.
Ванька все сидел с полупогашенной лампой. Ждал, что кто-нибудь проснется.
«Ошманал», – догадался.
Славушка тихо пришел.
– Спать давай! Разуй.
Улеглись оба на кушетке.
– Ты смотри, не треплись ничего, а то во!
Славушка поднес к Ванькиному носу кулак.
– А чего я буду трепаться!
– То-то, смотри!
Славушка сердито повернулся спиною. Угрюмо приказал:
– Чеши спину! Покуда не засну, будешь чесать.
Ваньку охватила тоска.
Хотелось спать. Голова кружилась от пьяного воздуха. Душно от широкой, горячей Славушкиной спины.
Утром, проснувшись, бузили. У Миньки-Зуба пропали деньги.
Ломтев, сердитый с похмелья, кричал:
– У меня в доме? Ты с ума сошел! Пропил, подлец! Проиграл!
Минька что-то тихо говорил.
Ванька боялся, что станут бить. Почему-то так казалось.
Но все обошлось благополучно.
– Плашкеты не возьмут! – сказал Ломтев уверенно. – Моему – не надо, а этот еще не кумекает.







