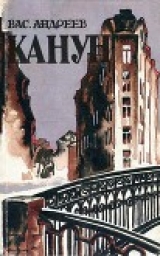
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Она сказала:
– Когда вас видишь, оттепель вспоминается. Иногда, знаете, в конце зимы – тепло. Снег, а тепло. Хочется сбросить надоевшую за зиму тяжелую одежду. Кажется – выкупайся в проруби, и не простудишься, даже не озябнешь… Знаете, вы весенний какой-то. Солнечный. Вам, вероятно, всегда хорошо, радостно? Вы – счастливец? Необыкновенный счастливец! Не правда ли?
Он два дня как приехал с фронта, чтобы по предписанию Реввоенсовета снова ехать на другой уже фронт, на опасный, беспокойный, где царствовали паника, измена, дезертирство, где каждая деревня – гнездо бандитов.
У него ныла контуженая нога.
И еще: перед глазами его мелькали строки недавно полученного письма, извещавшего о гибели бежавшего из плена друга детства. Гибели от истощения, в лесу.
Он улыбнулся.
– Никакого необыкновенного счастья я не испытываю.
– Нет! Нет! Не говорите! Вот вы улыбнулись, и… Разве несчастливые могут так улыбаться?
Она много еще говорила.
Он о т к р ы т ы м своим сердцем чувствовал, что она его любит.
Если бы она спросила:
– А ты меня любишь?
Сказал бы:
– Да.
И не солгал бы. Любил.
Через два-три дня, отправляясь на фронт, в вагоне, почувствовал, что оставил что-то хорошее, радостное. Грустно стало. Прошептал:
– Грустно.
Но не сделалось легко, как в детстве. Не вышла облаченная в слово грусть, не растворилась, как бывало.
Тяжелая, непроницаемая стояла толпа.
Эта толпа укрывала бандитов, дезертиров. Прятала в землю, гноя, продовольствие. Случалось, убивала митингующих агитаторов.
Она и теперь молчала затаенно.
Тяжелая, непроницаемая, как стена, скала, как лес непроходимый.
Но не было ропота, выкриков и свиста. Раньше всегда так во время митинга, а теперь не было.
Комиссар Тропин знал, что не будет. И не в себя верил, не на силу своей убедительности надеялся, а верил толпе этой, не боялся ее.
Как выступил, открыл митинг, как сказал первое, призывное: «Товарищи!» – сразу поверил в толпу, почувствовал, что он, что она – одно.
Потому и верил и не боялся. Потому просто говорил, как о самом простом, что объявляется мобилизация, что дезертирство и саботаж будут караться по всей строгости закона.
И толпа, убивавшая, случалось, агитаторов, как конокрадов – так же зверски, до неузнаваемости, до смешения с землею, – молчала.
И когда сходил с возвышения, с телеги какой-то ломаной спрыгивал комиссар – не было ропота, насмешек и свиста.
И проходил когда через толпу – расступались.
И глаза, в которые мельком вглядывался, много глаз – не хитро сощуренные, звериные, выжидающие (много таких было, когда открыл митинг), а детски печальные, немигающие.
Такие печальные, немигающие и внимательные глаза бывают у сознающих свою виновность детей.
Странное, небывалое стало твориться с Тропиным.
От условий ли жизни беспокойных, опасных на беспощадном фронте, где каждый день бои, каждый миг – опасность, где отдых мимолетен и долог упорный путь борьбы, где спокойствие – мгновение, а ужас, страдание и кровь – цепь мгновений, одно другого страшнее, – от жизни ли такой странное и небывалое стало твориться с Тропиным.
Началось после одного из упорных боев под деревней Кедровкою.
По словам комбрига Жихарева, Кедровка – «могила».
И действительно, деревнюшка в болотистой низине: обстреливай со всех сторон, пока не выбьешь.
Но Кедровка – важный пункт. В версте, не больше, – железная дорога, в двух верстах – река.
Потому и бились из-за нее.
Вырывали друг у друга. По три раза в неделю переходила из рук в руки. И казалось, будто из-за нее и застыли грозными фронтами неприятели, враг против врага. Казалось, из-за Кедровки этой и война затеялась и вечно будет продолжаться.
И вот в Кедровке у Тропина и началось то странное и небывалое, что заставляло задумываться.
Заняли красные тогда Кедровку второй раз.
Ехали в нее комбриг Жихарев и военкомбриг Тропин.
И вот на пути недолгом, лесом, опушкою, стало казаться Тропину, что всегда, всю жизнь ехал он именно здесь, вот в этом низкорослом унылом лесу с деревцами, пулями обшарканными.
И так ясно почувствовалось, что, кажется, и сомнения не могло быть никакого.
Стало неловко. Не по себе.
Даже теснить стала одежда, френч. Крючок отстегнул на воротнике, хотя свежо, ветрено было. «Что за белиберда? Беллетристика, мистика, ерундистика», – нарочно подбирал созвучные слова.
А комбриг говорил, оборачиваясь в седле:
– Дня два побудем. И опять выбьют. Так взад и вперед и будем шляться. Третья бригада месяца два крутилась здесь.
Замурлыкал что-то. Опять оборотился:
– Будто танцуем. Пройдемся. И назад. Опять – сюда, опять – назад. Вальс сумасшедшего.
Тропин засмеялся насильно. И сказал насильно:
– Заколдованный круг.
«Расколдуем», – подбодрил себя мысленно.
В деревню въезжали.
Неприятель делал пристрелку.
С этой Кедровки и началось.
И каждый раз, когда в нее вступали после отступления белых, ощущал Тропин то же, что и раньше.
И еще: неотступно преследовала мысль, что в с е г д а так будет.
Всегда и в е з д е.
И в другой деревне, и в городе. И не на фронтах, а и в детстве, в Питере, в Алтуховом даже доме так было.
«Как? И в детстве – Кедровка?» – спрашивал себя насмешливо.
И смеялся принужденно:
«Дурак! Комиссар еще. Беллетристику развел. Тьфу!..»
Но неспокойно было.
И не Кедровка уже смущала. А всё. Будто везде проникло что-то такое к е д р о в о ч н о е, уныло-безысходное.
«Нервы, что ли», – думал с досадою Тропин и говорил себе твердо: «Обуздать себя надо!»
«Зло обуздай», – вспомнились давнишние слова Тихона-студента. И Голубовский вспомнился. Смерть трагическая его.
И вдруг…
В штабе было. Бумагу, рапорт подписывал.
И перо отложил – так мысль внезапная поразила.
А мысль была: «Голубовского – н е б ы л о вообще. Не умер, а вовсе не было, не жил…»
Боролся с мыслью этой. А она упорно, водой капала: «Не было, не было, не было»!..»
До того стало странно и неприятно – быстро, не читая, подписал бумагу и, отдавая ее секретарю, сказал:
– А у меня, товарищ Борисов, был друг такой, Голубовский…
Сделал ударение на слове «был».
– Я знал одного Голубовского на колчаковском фронте, – сказал Борисов, – вероятно, тот и есть.
– Ага, знали! – вскрикнул, неожиданно для себя, Тропин. – Был? Значит, был?
Бумага выскользнула из рук секретаря. Прошелестела, упала на пол.
– Фу, как вы меня напугали! – вздрогнул Борисов, нагибаясь за бумагой.
Тропин молчал. Не рассказывал про Голубовского. К окну отвернулся.
Синее, за окном, точно вымытое сентябрьское небо. Чуть заметно проплывающие облака.
Что это?
Затуманилось в глазах.
– Черт возьми!
Поспешно вытащил платок. Покосился на Борисова.
А в груди тесно.
В детстве, вспомнил, раз так было, плакал тогда.
Ясно понял: жалко Голубовского.
Не за то, что погиб Голубовский, а за то, что мрачен и темен, как в ночи беззвездной, путь был Голубовского.
Ясно понял: прежнее, о т к р ы т о е его, Тропинское, недавнее еще радостное – тучами ли, облаками, вот такими незаметно проплывающими, заволакивается.
А если – погаснет солнце?
А если – беззвездная ночь?
И новое в жизнь Тропина вошло.
Ночь обнимала светлое, солнечное небо его.
Тоска, не знал которой никогда, тихо, незаметно вкрадывалась, вором хищным вошла в душу Тропина, в открытое сердце его.
А от тоски и страх.
В бою одном особенно сильно почувствовал.
И бой не особенный какой, не такие видел Тропин, не в таких участвовал. Перестрелка небольшая.
И вдруг – страх. И не от мысли, что убьют, не смерть пугала, а назойливый неотступный вопрос: «Зачем – смерть?»
И после уже боя все стоял этот вопрос: «Зачем?»
И главное: слишком в е л и к о значение слова «з а ч е м?».
Каждое слово, если оно представляется (самое простое слово) во всей в е л и ч и н е своей – з н а ч и т е л ь н о, к о л о с с а л ь н о.
И теперь у Тропина выросло в необъемлющую величину, в неизмыслимые размеры слово «зачем?». Все видимое, познаваемое, чувствуемое в один облеклось вопрос.
И по вопросу этому понятно стало, почему угнетала Кедровка, почему Голубовский казался не существовавшим никогда, почему беззвездной ночью объят был его, тропинский, мир – жизнь.
И все – необъясняемо понятно стало.
И необъясняемо понятен «з а к о л д о в а н н ы й к р у г » – «з а ч е м?».
После радости огромной, такой как и раньше – ж е н и х о в о й, – вдруг – печаль.
Чудилось: ноги его, ноги богатыря, отрывались от земли.
Изменила ли земля?
Враг ли неведомый какой осиливал?
Бессильны ли стали слова «Мать-земля! Выручай!»?
Или – богатырь перестал верить в землю?
Дрогнула, может, богатырская сила?
Кто знает? Кто скажет?
Но только вместо радости, которая – возможность всех возможностей, наступила печаль – невозможность.
Было это в городке маленьком, затерянном – села бывают больше и горделивее, чем приникший тот покорный городок.
И печаль эта наступила вслед за радостью. После того как приехала в городок она, Люся.
Она говорила:
– Я не могла больше! Я так исстрадалась. Думала, сойду с ума. Я не могу без тебя.
Говорила не так, как раньше.
Просто. Без оттепелей, без солнца.
Просто:
– Не могла. Не могу без тебя.
Искренно.
Знал Тропин, что искренно.
И залились тройки свадебной лихие бубенцы, грудь захватил воздух – ветер буйный, встречу летящий свадебному поезду.
И опять восторженно шептала, глаза вперив молящие и жадные, влюбленные глаза:
– Счастливец! Счастливец! Дай на счастье посмотреть! От солнца твоего погреться.
Но печаль и тревога охватили Тропина.
Обходя однажды караулы, остро почувствовал печаль и тревогу.
На красноармейца-татарина, одиноко стоящего, взглянул – и стало печально и тревожно.
И неловко перед ним, перед татарином-красноармейцем, перед часовым.
Одинокий часовой!
Один, как часовой!
Так неловко стало, что, пройдя мимо, вернуться хотел и сказать часовому:
– Прости, что изменил тебе, часовой. Ты один, а я – не один. Я ведь тоже часовой, но я – не один.
И повернул уже назад.
И фраза эта, внезапно, без воли его в мозгу его возникшая, уже шевелилась на губах.
Но не подошел, а, глаза опустив, ускорив шаг, прошел мимо часового, равнодушно смотрящего вслед.
В тот же день говорил Люсе:
– Видеться нам часто нельзя. Да и лучше бы тебе ехать домой, в Питер.
Городок был почти в тылу. Жители не эвакуировались, но он говорил:
– Здесь – фронт. Тебе жить здесь неудобно.
Люся дулась:
– Ты меня гонишь, я отлично вижу. Все живут, а мне нельзя?..
Она не уехала. Но виделись реже.
Тропин всегда был с нею. В с е г д а. Минуты не забывал о ней.
Но – печаль не проходила.
И тревога и неловкость.
Точно изменил ч е м у – т о.
Как-то раз почувствовал: богатырь изменяет земле.
Теперь земля не выручит.
Было страшно.
Первый раз в жизни испытал такой страх.
Сковывающий, железный, как кандальное кольцо.
Но так просто.
Это всегда п р о с т о.
Она сказала:
– У вас здесь, при бригаде, арестованный, пленный. Мой родной брат.
Тропин вспомнил:
– Да, да! Я думал – однофамилец.
– Ничего подобного. Родной брат.
Она заволновалась:
– Боже, что с ним сделают?
Тропин молчал. Он знал, что сделают. Контрразведчик, на фронте, попавший в плен.
– Я завтра отправляю его в тыл.
Тропин сказал неправду.
Он пошлет сегодня следственный материал.
Знал, что расстреляют здесь, что ему придется отдавать распоряжение о приведении приговора в исполнение.
И знал еще, что дело Люсиного брата никому не известно, что он может отослать его в тыл как обыкновенного пленника.
Она спрашивала тихо, но настойчиво:
– Но что же с ним сделают? Расстреляют?
Тропин ответил:
– Да.
Не мог лгать.
Она кричала:
– Нет! Это невозможно! Я… О, боже мой! Звери! Изверги! Сумасшедшие дикари!..
Ругалась бешено. С ненавистью в голосе и глазах. Плакала долго, до истерики.
Тропин подавал воду. Успокаивал. Происходило это в ее маленькой квартирке, в доме вдовы-почтальонши, на окраине города.
У порога лежала. Растерзанная. В ленты рвала не платье уже – лохмотья.
Тела не стыдясь обнаженного, кричала до сипоты:
– Не уйдешь, пока не скажешь: «Да!» Или по мне пойдешь? Через меня, через невесту – переступишь?
Он молчал. Он знал: будет надо – переступит.
Она, не ослабевая, кричала.
Требовала, молила, чтобы он прекратил братино дело.
– Ведь никто-никто не знает, сам говорил. Отправь в тыл… Ведь он же безвреден будет там для твоей партии. О, ты сделаешь это, да? Ведь да? Ну скажи: «Да!»
Он молчал.
Первый раз понял, что и «да» бывает как «нет».
И потому с трудом, но твердо ответил:
– Нет!
Ползала у ног, ловила его ноги, в отчаянии и тоске безмерной молила:
– Нет, ты не сделаешь этого! Ты же любишь меня! Ведь не сделаешь, да?
– Нет! Не могу! Ты пойми…
Говорил много о том, что ясно, на что и слов тратить нечего.
Ясно: нельзя! Ясно: нет!
И двух слов, оба в пять букв, так ужасна была борьба.
И понял сразу, не мыслями, а как-то в с е м с о б о ю, всеми чувствами, жизнью своей всей: настоящей, прошедшей и даже будущей, понял, что́ такое заколдованный круг. Не «зачем?», как думалось раньше, а круг тот – из двух слов: «да», «нет».
И еще понял: р а с к о л д о в а т ь или, наоборот, з а к о л д о в а т ь его, этот круг, еще сильнее можно опять-таки этими же словами: «да» или «нет».
И страх, и тоска, и неловкость – пропали мгновенно, и силу почувствовал в мыслях и ясность, каких никогда не бывало.
И радость, радость – хоть смейся. Твердо на земле (которая – он сам), незыблемо стоял богатырь.
Выручила правда – земля.
Сделал шаг к двери.
Люся вскочила. И глаза ее (навсегда запомнил Тропин) были з н а ю щ и м и.
Тихо прошептала:
– Ты… не любишь… меня?..
Он так же тихо:
– Люблю, но не так, как люблю…
– Как что?
Спросила не как кого, а что.
Молча сделал еще шаг.
Она открыла дверь:
– Иди! Уйди!..
Голос ее задрожал.
Звонко крикнула вслед:
– Проклятый! Убил меня! Убийца!
На минуту, обезумевшая, выбежала:
– Убийца!
На другой день Тропин получил два пакета: один – из тыла, в ответ на «следственное производство» о контрразведчике Любимове.
В конце стояло: «По исполнении немедленно донести».
Второе письмо – записка. Два слова: «Убийца! Проклинаю!»
Через час, не больше, прибежал мальчуган, приносивший записку.
Задыхался. Бежал, вероятно, с самой окраины.
– Товарищ… комиссар… Барышня…
Тропин смотрел на раскрасневшееся, потное лицо мальчика, на испуганные глаза. Все понял.
Закружилась голова. Но совладал с собою.
– Ишь запыхался. Ну что – барышня?
– Барышня… отравилась.
Вздрогнувшей рукой погладил мальчика по мокрым волосам и недвижимыми губами произнес:
– Иди… милый.
Взял портфель. «Портфель, – думал напряженно. – Зачем – портфель?»
Стоял минуту, держа в обеих руках сложенный вдвое портфель.
Вспомнил: в портфеле – бумага, утром полученная из тыла.
Вспомнил, в конце той бумаги значилось: «По исполнении немедленно донести»…
Вечером того же дня комбриг спрашивал Тропина:
– Неужели вы сами расстреляли того… Любимова, что ли?.. Собственноручно?
– Да, – ответил военкомбриг Тропин.
1924 г. Лето
ВОЛКИ
Повесть
1
Ваньки Глазастого отцу, Костьке-Щенку, не нужно было с женой своей, с Олимпиадою, венчаться.
Жили же двенадцать лет невенчанные, а тут, вдруг, фасон показал.
Граф какой выискался!
Впрочем, это все Лешка-Прохвост, нищий тоже с Таракановки, поднатчик первый, виноват:
– Слабо, – говорит, – тебе, Костька, свадьбу сыграть!
Выпить Прохвосту хотелось, ясно! Ну, а Щенок «за слабо» в Сибирь пойдет, а тут еще на взводе был.
– Чего – слабо? Возьму, да обвенчаюсь. Вот машинку женкину продам и готово!
А Прохвост:
– Надо честь честью. В церкви, с шаферами. И угощение чтобы.
Олимпиады дома не было. Забрал Щенок ее машинку швейную ручную, вместе с Прохвостом и загнали на Александровском.
Пришла Олимпиада, а машинку Митькою звали. Затеяла было бузу, да Костька ей харю расхлестал по всем статьям и объявил о своем твердом намерении венчаться, как и все прочие люди.
– А нет – так катись, сука, колбасой!
Смех и горе! Дома ни стола ни стула, на себе барахло, спали на нарах, в изголовье – поленья – «шестерка», как в песне:
На осиновых дровах
Два полена в головах.
И вдруг – венчаться!
Но делать нечего. У мужа – сила, у него, значит, и право. Да и самой Олимпиаде выпить смерть захотелось. И машинка все равно уж улыбнулась.
Купили водки две четверти, пирога лавочного с грибами и луком, колбасы собачьей, огурцов. Невеста жениху перед венцом брюки на заду белыми нитками зашила (черных не оказалось) и отправились к Михаилу Архангелу.
А за ними таракановская шпана потопала.
Во время венчания шафер, Сенька-Черт, одной рукою венец держал, а другой брюки поддерживал – пуговица одна была и та оторвалась.
Гости на паперти стреляли – милостыню просили.
А домой как пришли – волынка.
Из-за Прохвоста, понятно.
Пока молодые в церкви крутились, Прохвост, оставшийся с Олимпиадиной маткою, Глашкой-Жабою, накачались в доску: почти четверть водки вылакали и все свадебное угощение подшибли.
Горбушка пирога осталась, да огурцов пара.
Молодые с гостями – в дверь, а Прохвост навстречу, с пением:
Где ж тебя черти носили?
Что же тебя дома не женили?
А старуха Жаба на полу кувыркается: и плачет и блюет.
Невеста – в слезы. Жених Прохвосту – в сопатку. Тот – его.
Шпана – за жениха, потому он угощает.
Избили Прохвоста и послали настрелять на пирог.
Два дня пропивали машинку. На третий Олимпиада опилась. В Обуховской и умерла. Только-только доставить успели.
Щенок дом бросил и ушел к Царь-бабе, в тринадцатую чайную.
А с ним и Ванька.
Тринадцатая чайная всем вертепам вертеп, шалман настоящий: воры всех категорий, шмары, коты, бродяги и мелкая шпанка любого пола и возраста.
Хозяин чайной – Федосеич такой, но управляла всем женка его, Царь-баба, Анисья Петровна, из копорок, здоровенная, что заводская кобыла.
Весь шалман держала в повиновении, а Федосеич перед нею, что перед богородицей, – на задних лапках.
С утра до вечера, бедняга, крутится, а женка из-за стойки командует да чай с вареньем дует без передышки – только харя толстая светит, что медная сковородка.
И не над одним только мужем Царь-баба властвовала.
Если у кого из шпаны или из фартовых деньги завелись – лучше пропей на стороне или затырь так, чтобы не нашла, а то отберет. Самых деловых собственноручно обыщет и отнимет деньги.
– Пропьешь, – говорит, – все равно. А у меня они целее будут. Захочешь чего, у меня и заказывай. Хочешь – пей!
Водку она продавала тайно, копейкою дороже, чем в казенках.
Ванька-Селезень, ширмач, один раз с большого фарту не захотел сдать деньги Царь-бабе, в драку даже полез, когда та начала отбирать.
Но ничего у Ваньки не вышло.
Да и где же выйти-то?
Сила у него пропита, здоровье тюрьмою убито, а бабища в кожу не вмещается.
Принялась она Селезня хлобыстать со щеки на щеку – сам денежки выложил.
Так Царь-баба и царствовала.
Одинокие буйства прекращала силою своих тяжелых кулаков или пускала в ход кнут, всегда хранящийся под буфетом.
Если же эти меры не помогали, на сцену являлся повар Харитон, сильный, жилистый мужик, трезвый и жестокий, как старовер.
Вдвоем они как примутся чесать шпану – куда куски, куда милостыня.
Завсегдатаи тринадцатой почти сплошь – рвань немыслимая, беспаспортная, беспорточная; на гопе у Макокина и то таких франтов вряд ли встретишь.
У иного только стыд прикрыт кое-как.
Ванька-Глазастый, родившийся и росший со шпаною, не предполагал, что еще рванее таракановских нищих бывают люди.
В тринадцатой – рвань форменная.
Например – Ванька-Туруру.
Вместо фуражки – тулейка одна; на ногах зимою – портянки, летом – ничего; ни одной заплатки, все – в клочьях, будто собаки рвали.
А ведь первый альфонс! Трех баб имел одновременно: Груньку-Ошпырка, Дуньку-Молочную и Шурку-Хабалку.
Перед зеркалом причесывается – не иначе.
Или вот «святое семейство»: Федор Султанов с сыновьями Трошкою, Федькою и Мишкою-Цыганенком.
Эти так: двое стреляют, а двое в чайной сидят. Выйти не в чем. Те придут, эти уходят.
Так, посменно, и стреляли.
А один раз – обход.
«Святое семейство» разодралось – кому одеваться?
Вся шпана задним ходом ухряла, а они дерутся из-за барахла. Рвут друг у дружки.
Всю четверку и замели: двое в одежде, двое чуть не нагишом.
Или еще король стрелков, Шурка-Белорожий. В одних подштанниках и босой стрелял в любое время года. В рождество и крещенье даже.
«Накаливал» шикарно! Другой вор позавидует его заработку.
Да и как не заработать?
Красивый, молодой и в таком ужасном виде.
Гибнет же человек! В белье одном. Дальше нижнего белья уж ехать некуда.
Не помочь такому – преступление.
А стрелял как!
Плачет в голос, дрожит, молит спасти от явной гибели.
– Царевна! Красавица! Именем Христа-спасителя умоляю: не дайте погибнуть! Фея моя добрая! Только на вас вся надежда!
Каменное сердце не выдержит, не только женское, да еще если перед праздником.
А ночью к Белорожему идет на поклон шпана. Поит он всех, как какой-нибудь Ванька-Селезень, первый ширмач, с фарту.
Костька-Щенок Ваньку своего отдал Белорожему на обучение.
Пришлось мальчугану босиком стрелять, или, как выражался красноречивый его учитель, «симулировать последнюю марку нищенства».
– Ты плачь! По-настоящему плачь! – учил Белорожий. – И проси – не отставай! Ругать будут – все равно проси! Как я! Я у мертвого выпрошу.
Действительно, Белорожий у мертвого не у мертвого, а у переодетого городового (специально переодевались городовые для ловли нищих) три копейки на пирог выпросил.
Переодетый его заметает, а он:
– Купи, дорогой, пирога и бери. Голодный! Не могу идти!
Тот было заругался, а Белорожий на колени встал и панель поцеловал:
– Небом и землей клянусь и гробом родимой матери – два дня не ел.
Переодетый три копейки ему дал и отпустил. Старый был фараон, у самого, поди, дети нищие или воры, греха побоялся – отпустил.
Ванька-Глазастый следовал примерам учителя: плакал от холода и стыда. Подавали хорошо. Отца содержал и себе на гостинцы отначивал.
Обитатели тринадцатой почти все и жили в чайной.
Ночевали в темной, без окон, комнате.
На нарах – взрослые, под нарами – плашкетня и те, кто позже прибыл.
Комната – битком, все вповалку. Грязь невыразимая. Вошь – темная; клопы, тараканы.
В сенях кадка с квасом – и та с тараканами. В нее же, пьяные, ночью, по ошибке мочились.
Только фартовые – воры – в кухне помещались, с поваром.
Им, известно, привилегия.
«Четырнадцатый класс» – так их и звали.
Выдающимися из них были: Ванька-Селезень, Петька-Кобыла и Маркизов Андрюшка.
Ванька-Селезень – ширмач, совершавший в иной день по двадцати краж. Человек, не могущий равнодушно пройти мимо чужого кармана.
Случалось, закатывался в ширму, забыв предварительно «потрёкать», то есть ощупать карман, – так велико было желание украсть.
Селезень – вор естественный.
«Брал» где угодно, не соображаясь со стремой и шухером.
На глазах у фигарей и фараонов залезал в карман одинокого прохожего.
Идет по пятам, слипшись с человеком. Ребенок и тот застрёмит.
А где «людка» – толпа, – будет втыкать и втыкать, пока публика не разойдется или пока самого за руки не схватят.
Однажды он «сгорел с делом», запустив одну руку в карман мужчины, а другую – в карман женщины.
Так, с двумя кошельками – со «шмелем» (мужской кошелек) и с «портиком» (дамский) в руках – повели в участок.
У Знаменья это было, на литургии преждеосвященных даров.
Петька-Кобыла – ширмач тоже, но другого покроя. Осторожен. Зря не ворует. Загуливать не любит. С фарта и то норовит на чужое пить.
Из себя – кобёл коблом.
Волосы под горшок, но костюм немецкий. И с зонтиком всегда, и в галошах. Фуражка фаевая, купеческая.
Трусоват, смирен. Богомол усердный. С фарта свечки ставил Николаю Угоднику. В именины не воровал.
Маркизов Андрюшка – домушник.
Хорошие делаши, вроде Ломтева Кости и Миньки-Зуба, с Маркизовым охотно на дела идут.
Сами приглашают, не он их.
Маркизов – человек жуткий.
Не пьет, а компанию пьяную любит, не курит, а папиросы и спички всегда при себе.
Первое дело его, в юности еще: мать родную обокрал, по миру пустил. Шмару, случалось, брал «на малинку».
Вор безжалостный, бесстыдный.
На дело всегда с пером, с финкою, как Колька-Журавль из-за Нарвской.
«Засыпается» Маркизов с боем.
Связанного в участок и в сыскное водят.
В тринадцатую перебрались новые лица: Ганька-Калуга и Яшка-Младенец.
Не то нищие, не то воры или разбойники – не понять.
Слава о них шла, что хамы первой марки и волыночники.
Перекочевали они из живопырки «Манджурия».
Калуга «Манджурию» эту почти единолично (при некотором участии Младенца) в пух и прах разнес.
Остались от «Манджурии» стены, дверь, окна без рам и стул, что под бочонком для кипяченой воды стоял у дверей.
Остальное – каша.
Матвей Гурьевич, хозяин трактира, избитый, больше месяца в больнице провалялся, а жена его – на сносях она была – от страха до времени скинула.
И волынка-то из-за пустяков вышла.
Выпивала манджурская шпана. Взяли на закуску салаки, а хозяин одну рыбку не додал.
Калуга ему:
– Эй ты, сволочь! Гони еще рыбинку. Чего отначиваешь?
Тот – в амбицию:
– А ты чего лаешься? Спроси как человек. Сожрал, поди, а требуешь. Знаем вашего брата!
Калуга, вообще не разговорчивый, схватил тарелку с рыбою и Гурьевичу в физию.
Тот заблажил. Калуга его – стулом. И пошел крошить. Весь закусон смешал, что карты: огурцы с вареньем, салаку с сахаром и т. д.
Чайниками – в стены, чай с лимоном – в граммофон.
Товарищи его – на что ко всему привычные – хрять.
Один Младенец остался.
Вдвоем они и перекрошили все на свете.
Народ как стал сбегаться – выскочили они на улицу. Калуга бочонок с кипяченой водою сгреб и дворнику на голову – раз!
Хорошо, крышка открылась и вода чуть тепленькая, а то изуродовать мог бы человека.
Калуга видом свирепый: высокий, плечистый, сутулый, рыжий, глаза кровяные, лицо – точно опаленное. Говорит сипло, что ни слово – «мать».
Про него еще слава: в Екатерингофе или в Волынке где-то вейку ограбил и зарезал, но по недостаточности улик оправдался по суду.
И еще: с родной сестренкою жил, как с женою. Сбежала сестра от него.
Калуга силен, жесток и бесстрашен.
Младенец ему под стать.
Ростом выше еще Калуги. Мясист. Лицо ребячье: румяное, белобровое, беловолосое. Младенец настоящий!
И по уму дитя.
Вечно хохочет, озорничает, возится, не разбирая с кем: старух, стариков мнет и щекочет, как девок, искалечить может шутя. Убьет и хохотать будет. С мальчишками дуется в пристенок, в орлянку. Есть может сколько угодно, пить – тоже.
Здоровый. В драке хотя Калуге уступает, но скрутить, смять может и Калугу. По профессии – мясник. Обокрал хозяина, с тех пор и путается.
Калуга по специальности не то плотник, не то кровельщик, картонажник или кучер – неизвестно.
С первого дня у Калуги столкновение произошло с Царь-бабою.
Калуга заговорил на своем каторжном языке: в трех словах пять «матерей» – Анисья Петровна заревела:
– Чего материшься, франт? Здесь тебе не острог!
Калуга из-под нависшего лба глянул, будто обухом огрел, да как рявкнет:
– Закрой хлебало, сучья отрава! Не то кляп вобью!
Царь-баба мясами заколыхалась и присмирела.
Пожаловалась после своему повару.
Вышел тот. Постоял, поглядел и ушел.
С каждым днем авторитет Царь-бабы падал.
Калуга ей рта не давал раскрыть.
На угрозы ее позвать полицию свирепо орал:
– Катись ты со своими фараонами к чертовой матери на легком катере.
Или грубо балясничал:
– Чего ты на меня скачешь, сука? Все равно с тобой спать не буду!
– Тьфу, черт! Сатана, прости меня господи! – визжала за стойкою Анисья Петровна. – Чего ты мне гадости разные говоришь? Что я, потаскуха какая, а?
– Отвяжись, пока не поздно! – рявкал Калуга, оскаливая широкие щелистые губы. – Говорю: за гривенник не подпущу. На черта ты мне сдалась, свиная туша! Иди вот к Яшке, к мяснику. Ему по привычке с мясом возиться. Яшка-а! – кричал он Младенцу. – Бабе мужик требуется. Ейный-то муж не соответствует. Чево?.. Дурак! Чайнуху заимеешь. На паях будем с тобою держать!
Младенец глуповато ржал и подходил к стойке.
– Позвольте вам представиться с заплаткой на…
Крутил воображаемый ус. Подмигивал белесыми ресницами. Шевелил носком ухарски выставленной ноги, важно подкашливал:
– Мадама! Же-ву-при пятиалтынный. Це зиле, але, журавле. Не хотится ль вам пройтиться там, где мельница вертится?..
– Тьфу! – плевалась Царь-баба. – Погодите, подлецы! Я, ей-богу, околоточному заявлю!
– Пожалуйста, Анись Петровна! – продолжал паясничать Младенец. – Только зачем околоточному? Уж лучше градоначальнику. Да-с! Только мы усю эту полицию благородно помахиваем, да-с! И вас, драгоценнейшая, таким же образом. – Чего-с? – приставлял он ладонь к уху. – Щей? Спасибо, не желаю! А? Ах, вы про околоточного? Хорошо… Заявите на поверке. Или в обчую канцелярию.
– Я те дам – помахиваю! Какой махальщик нашелся! Вот сейчас же пойду заявлю! – горячилась, не выходя, впрочем, из-за стойки, Анисья Петровна.
А Калуга рявкал, тараща кровяные белки:
– Иди! Зови полицию! Я на глазах пристава тебя поставлю раком. Трепло! Заявлю! А чем ты жить будешь, сволочь? Нашим братом шпаной да вором только и дышишь, курва!
– Заведение закрою? Дышишь? – огрызалась хозяйка. – Много я вами живу. Этакая голь перекатная, прости господи! Замучилась!..
Калуга свирепел:
– Замолчь, сучий род! Кровь у тебя из задницы выпили! Заболела туберкулезом.
Младенец весело вторил:
– Эй! Дайте стакан мусору! Хозяйке дурно.
Такие сцены продолжались до тех пор, пока Анисья Петровна не набрала в рот воды – не перестала вмешиваться в дела посетителей.
В тринадцатой стало весело. Шпана распоясалась. Хозяйку не замечали.
Повар никого уже не усмирял.
2
В жизни Глазастого произошло крупное событие: умер отец его, Костька-Щенок.
Объелся.
Случилось это во время знаменитого загула некоего Антошки Мельникова, сына лабазника.
Антошка – запойщик, неоднократно гулял со шпаною.
На этот раз загул был дикий. Все ночлежки: Макокина, Тру-ля-ля (дом трудолюбия), на Дровяной улице гоп – перепоил Мельников так, что однажды в казенках не хватило вина – в соседний квартал бегали за водкою.
Мельников наследство после смерти отца получил. Ну и закрутил, понятно.
В тринадцатую он пришел днем, в будни, и заказал все.
Шпана заликовала.
– Антоша, друг! Опять к нам?
– Чего – к вам? – мычал, уже пьяный, Антошка. – Жрите и молчите! Хозяин! Все, что есть, – сюда!
Царь-баба, Федосеич, повар и шпана – все зашевелились.
Антошка уплатил вперед за все, сам съел кусок трески и выпил стакан чая.
Сидел, посапывая, уныло опустив голову.
– Антоша! Выпить бы? А? – подъезжала шпана.
– Выпить?.. Да… И музыкантов! – мычал Антошка. – Баянистов самых специяльных.
Разыскали баянистов. Скоро тринадцатая заходила ходуном. От гула и говора музыки не слышно.
Вся шпана – в доску.
Там поют, пляшут, здесь дерутся. Там пьяный, веселый Младенец-Яшка задирает подолы старухам, щекочет, катышком катя по полу пьяного семидесятилетнего старика, кусочника Нила.







