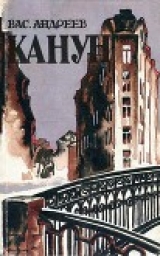
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 26 страниц)
Жара – не продохнуть. А от праздничной сытости еще жарче.
Что после бани – распарен Никитка.
Томится от безделья большое сытое тело.
Сжимает и разжимает круглые загорелые кулаки.
Ноги вытягивает, выгибая пальцы, отчего выпячиваются мясистые выпуклости под пальцами, на подошвах, а сверху, под крутым скатом ступней, у пальцев, складки – трещинки на грубой загорелой коже, – слоновьи ступни.
«Эвона, ножищи у меня богатырские, – думает радостно Никитка, – огромадные и гольное мясо!»
А тут Петька стошки считает. Всегда со стошками – везет ему в игре.
Укладывает пачечки бережно.
Протягивает Никитка ногу, лапищу, ступню слоновью – весь капитал Петькин накрывает.
– Чего лезешь, брось! – толкает Петька Никиткину ногу. – Помнешь стошки. Пусти!
– А ну-ка-сь, сдвинь ножку-то! Слабо!
Посмеивается. Грызет семечки.
Петька хватается обеими руками за толстую ногу, упирается, как в столб, теребит круглые, твердомясые пальцы, с плоскими, как миндаль в заварном тесте, ногтями.
– Черт толстомясый, чего лезешь? К тебе же не лезут?
Злится: на силу Никиткину негодует и на бессилие свое.
Непоколебима упористая лапа. Над пальцами на загорелой грубой коже складки – трещины.
Слоновья ступня.
Хнычет Петька.
– И все лезет, все лезет!.. Пусти, говорят! Помнешь стошки! Ники-и-тка!.. Пусти-и жа!
Петька бьет бессильным сухоньким кулачком по круглой твердой ноге Никитки.
– Пальчик-то отогни, один хоша! Двум рукам!.. Гы-ы-ы!..
Посмеивается. Лузгает семечки. Толстые, блестящие, точно маслом смазанные щеки выпирают так, что глаз не видать.
– Пусти, толсторожий!.. Никитка! Пусти жа!
– Гы-ы! Моська! Понатужься, авось согнешь пальчик-то! Ну-ка-ся! «Ой, дубинушка!» Гы-ы-ы!..
Отирает губы увесистым, коричневым кулаком.
Натешился.
Петька выпрямляет, разглаживает карточки.
– Измял вот!.. Ладно же!.. Пристает всегда! Его не трогают!
Никитка зевает, потягиваясь.
– С чего ты, Петька, такой прыштик, понять не могу! С ногой с моей не совладать, с пальчиком, Петь, а?
– Ладно! Смейся! Тебе харя дозволяет! Морда что у слона у настоящего! – огрызается Петька, засовывая за пазуху карточки.
– Ну дак что, как у слона! Зато я здоровенный, а ты прыштик. Я с тобой что захочу, то и сделаю, а ты со мной ничего.
Никитка схватывает Петьку за шиворот и пригибает к земле:
– Вона! Вся твоя жизня тут!
Но все эти грубые издевательства против прежних Никиткиных жестокостей для Петьки – что хлеб с маслом.
Ожил Петька. Повеселел даже и порозовел.
Против прежнего не житье ему, а масленица.
Веня с Рыжим подружился. И не потому лишь, что Рыжий Тольку побил и за Петьку, затравленного Никиткою, заступился.
Другое что-то влекло его к новому товарищу.
И ухарству Рыжего, перед чем благоговела славновская мелкота, краснобайству его прибауточному особенной цены Веня не придавал.
Наоборот, больше нравился Рыжий, когда молчаливо слушал Толькины рассказы или когда стружки подметал в мастерской хозяина своего, столяра Ивана Кузьмича Гладышева.
Но особенно теплотою какой-то веяло, когда вспоминал Рыжий по весне как-нибудь о Нарвской заставе.
– Травка теперь. Парнишки, поди, купаться скоро начнут. Весело, хорошо у нас, за Нарвской. Будто родные все промежду себя.
И, в тон скомороший впадая, сплевывал сквозь зубы:
– Черт, Кузьмич корявый! Угораздило сюда ехать жить. Сменял кукушку на ястреба.
И запевал горестно-шутливо:
Прощай, ты, Нарвская застава,
Прощай, ты, Веников трактир!
Этот Веников трактир нравился Вене, трогал даже. Точно в честь его, Вени – Веника, трактир назывался.
Роднил его с Нарвской заставой, которую, не зная, любил почему-то Веня.
– А в праздники! Эх, мать честная! Скобари наши партиями так и шалаются, с тальянками. Ломака впереди всех разоряется.
Рыжий передавал в уморительных картинах пение загулявших «скобарей», кривляние «ломаки» – запевалы:
Шел я лесом,
Видел беса,
Бес в чугунных сапогах! —
дребезжал голос Рыжего.
– А тальяночка что змея – во, извивается!..
Кувыркается, ломаке подражая, по земле ожесточенно ладонями прихлопывает, топчет брошенную наземь шапку, взвизгивает:
– И-и-и, жаба, гад ену! Змей ползучий!
В восторге – ребятишки.
Особенно толстый Никитка.
– Гы-ы-ы!..
Ржет жеребенком. Щеки от смеха трясутся, выпирают, глаз – не видать.
Потом – драки скобарей:
– По черепам – песоцыной! Тростями железными – в коклеты искромсают, ей-ей!
И не может Веня понять, что хорошего в диких этих Рыжего рассказах, но слушает, затаив дыхание.
А иногда Рыжий запевал с искренней грустью:
Недалеко от Нарвской заставы,
От почтамта версте на седьмой,
Там, обрытый глубоким каналом,
Для рабочих приют дорогой!
И представлялась Вене шоссейная дорога, убегающая вдаль, от Триумфальных заставских ворот, между домами, где люди все как родные!
И казалось, что здесь, в Славновом доме, нет у него, у Вени, родных, а там они, за Нарвской.
И просил тогда Рыжего:
– Пойдем к вам, за Нарвскую, погулять.
Рыжий ласково, как никогда, хлопал Веню по плечу:
– Пойдем, брат Веник, обязательно пойдем!
И добавлял еще ласковее:
– Ты, Веник, изо всех ребят отменный. Только тихой больно. Надо позубастее быть. Без зубов, брат, никак невозможно. Съедят безо всякого гарниру.
За Нарвскую Веня попал совершенно неожиданно для себя.
Как-то зимою, вскоре после рождественских каникул, в воскресенье, Рыжий сказал Вене:
– Пойдем сейчас за Нарвскую. Обязательно сейчас нужно! – серьезно говорил и взволнованно.
– Надо спроситься дома, – начал было Веня, но Рыжий перебил:
– Не просись, не пустят.
– А может быть, пустят.
– Брось! Знаю! Я тоже не спрашивался своего корявого.
Веня еще мялся, но товарищ внушительно повторил:
– Обязательно сейчас!
По дороге Рыжий с таинственным видом сообщил, что сегодня Путиловский и вся вообще Нарвская застава идет к царю с прошением.
– Значит, брат, надо идти и нам. Что же мы, своих оставим, что ли? Верно, Веник? Ведь вся Нарвская пойдет! Наши столяры которые, чуть светок ушли.
– Да ведь я же не нарвский, – покраснел почему-то Веня.
– Ты вроде как бы нарвский тоже.
Далее Рыжий стал рассказывать, что рабочие решили говорить царю о своей жизни.
– Наш брат рабочий вроде как при крепостном праве живет, – говорил Рыжий, очевидно, не свои слова. – Знаешь, как при помещиках, давно еще крепостная жизнь была? Людей, как скот, продавали, драли розгами.
– А теперь же не так. Теперь все свободные. Царь-освободитель освободил, – перебил Веня, но Рыжий хмуро сказал:
– Освободитель! Много ты знаешь! Мы вот как-нибудь сходим к братеннику к моему, путиловский он. Он те расскажет про твоего освободителя-то.
– Какой он мой? – обиделся Веня. – Он меня не освобождал.
– Он никого не освобождал, – хмуро оборвал Рыжий.
Потом долго молчал. Шли торопливо по незнакомым Вене улицам.
Утро было холодное, ветреное. Холод пощипывал уши и носы.
– Сядем на конку, – предложил Веня, которому было очень холодно, – у меня есть деньги.
– Догонит, так сядем, – согласился Рыжий. – Только где ей догнать!
Действительно, шли долго, но конка не догоняла и ни один вагон не попадался навстречу.
– Не ходят конки чего-то, – задумчиво сказал Рыжий. – Пойдем, брат, скорее. Сейчас вот Нарвский проспект, а там и площадь и ворота.
– Эге, брат! – сказал Рыжий, когда вышли на площадь. – Вот те и раз! И фараонов-то!..
На широкой площади гарцевали всадники и грелись у костров солдаты.
Вене стало беспокойно при виде расположившихся, как на войне, солдат.
– Пойдем назад, – тихо сказал Веня.
– Куда назад!? – сердито спросил Рыжий и пошел, несколько замедлив шаг, по направлению к Нарвским воротам.
Но конный городовой издалека махнул рукою в белой перчатке.
– Не пропущают! – глухо сказал Рыжий.
– Пойдем назад, – повторил Веня.
– Э, погоди, брат, – вдруг встрепенулся Рыжий, – я знаю, как пройти. Через Екатерингоф, в Волынку. Айда, братишка!
Бегом, через скрипучий деревянный мост, потом по широкой, в гору, дороге.
– Это – Волынка, – торопливо сообщал Рыжий, – а сейчас – по Болдыреву переулку и за Нарвскую. Я, брат, здесь все ходы и выходы знаю. Завяжи глаза – и найду, честное слово!
Через минуту были на шоссе, за Нарвской.
Было страшно.
Черная, огромная толпа, несколько секунд назад бодро идущая шаг за шагом, с пением молитв, с хоругвями, – стала черной стеною.
Лишь колыхались хоругви и несколько человек тянули еще слова молитвы.
И вдруг в морозном, точно притихшем воздухе резко и тревожно запела труба.
И едва смолкла – загрохотало что-то, словно гигантский молот запрыгал по камню.
Толпа задвигалась, прокатился по рядам ропот.
– Стреляют! Стреляют! – болезненный где-то крик.
Потом опять – молот по камню.
– Веник, сюда! – кричал Рыжий. За каменным столбом, похожим на могильный памятник без креста, залегли Рыжий и Веня.
А грохот – чаще и чаще.
И бледными вздрагивающими губами выкрикивал Рыжий тяжелые ругательства.
– Надо опять в Болдырев! – шепнул он наконец Вене. – Скорее! Голову не поднимай, а то подстрелят, сволочи!
Уже к Волынкиной деревне когда подходили, Рыжий, догнав торопливо идущего Веню, остановил его, дернув за рукав:
– Погодь!
– Чего ты? – спросил Веня, остановившись.
– Погодь, – тихо, точно слюну глотая, промолвил Рыжий.
Веня смотрел на него и ждал.
И тот, казалось, ждал.
Потом махнул рукою и отвердевшими, словно застывающими губами проговорил чуть слышно:
– Веник, видал? Ведь убивали. А? Веник? Ведь позаправду стреляли.
Рот раскрыл, как рыба на берегу. С трудом вдохнул в себя воздух.
Веня испугался. Ему показалось – Рыжий ранен.
Но тот оправился.
Сплюнул, выругался тяжело и злобно, как мужик.
Нахлобучил ушастую шапку и сурово бросил:
– Пошли!
6
ОТТЕПЕЛЬ
Расстрел рабочих, ходивших с петицией к царю, – небывалое еще в Питере событие, – нашло отголосок и среди детворы Славнова дома.
Мнения и симпатии разделились.
Толька, а с ним и Никитка стояли за солдат, полицию – за царя.
Очевидцы кровавого события – Рыжий и Веня, находящиеся еще под свежим впечатлением виденного, отстаивали правоту рабочих и негодовали на зверство правительства.
– Сколь, небось, ребятишек без отцов остались, сиротами, – говорил Рыжий. – Хорошо бы тебе было, если бы твоего батьку убили?
– А зачем они шли? – отвечал вопросом же Толька. – Ишь, чего захотели: с царем разговаривать! Разве это можно?
– А почему нельзя? Царь такой же человек.
– Такой да не такой. А если бы его убили? Он вышел бы разговаривать, а тут: бац! – из револьвера, – горячился Толька. – Мало там разных студентов да жидов переодетых.
– Конечно, – поддерживал своего «господина» Никитка. – Они для этого небось и шли: «Боже, царя храни», а сами – с левольвертами.
– Никаких левольверов и не было. Ведь мы с Веником видели. Их стреляют, а они на колени стали и молитвы поют. Нешто за это можно стрелять?
Никитка сопел, видимо колебался, но Толька насмешливо замечал:
– Значит, можно, когда стреляли.
– Дурак ты опосля этого и сволочь! – сердился Рыжий. – Когда люди безоружные, конечно, стрелять не страшно, а только это неправильно.
Он окончательно выходил из себя и угрожающе говорил:
– Ладно! Все равно это так не пройдет. Соберутся потом все рабочие да как начнут трепать этих твоих фараонов да генералов!
– Ничего! – поддразнивал Толька. – Хватит на них пуль-то. Из пушки как выпалят, тут твои путиловцы, что тараканы, запрячутся. Ха-ха!
– Гы-ы! – вторил Никитка. – Это верно, много ли им надо, ежели из пушки.
– Ладно! И на них пушки найдутся, – не сдавался Рыжий. И обращался к Вене. – Верно, Веник?
– Верно, – соглашался тот, хотя не верил, что у рабочих найдутся пушки.
Была оттепель.
Капало с крыш, как весною. На дворе дымила снеготаялка.
Мальчики играли в снежки: Толька с Никиткою против Вени, Леньки и Петьки.
Сначала игра шла почти ровно, но потом слабый Петька и неумелый Ленька стали сдавать.
Вене почти одному пришлось защищаться против двух сильных противников.
Осыпанный снегом, с ноющей скулою от крепкого Никиткиного снежка, Веня стал отступать.
Слабо поддерживавший Ленька все промахивался.
Петька выбыл, ушибленный снежком в глаз.
Победители с радостными криками загнали противников в угол двора.
Ленька закрыл лицо руками и не оборонялся.
– Вали! Бей путиловцев! – вдруг закричал Толька. – Пли!
Снежок больно ударил Веню по носу. Из глаз пошли слезы.
– В кучу их! – радостно заржал Никитка.
Веня не успел опомниться, как Толька схватил его и бросил на кучу снега.
– Сдаешься? – торжествующе крикнул, насев на Веню.
Веня силился подняться, но глубже проваливался в снег.
Тяжелый Толька навалился всем телом.
Никитка, в свою очередь, подмял под себя слабосильных Леньку с Петькою.
Веня слышал плаксивый голос Петьки:
– Никитка жа!
И озлобленный – Леньки:
– Пусти, черт!
– Сдавайсь! – ржал Никитка.
– Не сдавайся, братцы! – закричал Веня и снова сделал отчаянную попытку освободиться от Тольки.
Но Толька придавил его так, что тяжело стало дышать.
Поймал Венины руки, сжал в своих широких сильных руках, разбросил в стороны.
Задышал прямо в лицо:
– Ну что? Много ли тебе надо? Сдаешься?
– Не… нет! – с трудом выговорил Веня.
Увидел, как нахмурился Толька. Розовые, с ямками, щеки вздрогнули. И вздрогнула нижняя пухлая и выпяченная вперед губа.
– Сдавайся! – запенившимися губами произнес Толька и до боли сжал Венины руки.
Подщуренные глаза зазеленели. «Злится», – подумал Веня и внезапно озлился сам.
– Пусти! – крикнул предостерегающе и злобно.
– Не пу…
Толька не договорил.
Веня, приподняв голову, быстро, крепко впился зубами в круглую плотную Толькину щеку.
Почувствовал соленое на губах.
Толька вскрикнул, отпустил Веню. Отскочил, держась рукою за щеку.
– Ты – кусаться? Девчонка!
Веня поднялся. Стоял, точно чего-то ожидая.
Толька тоже ждал.
– Драться хочешь? – спросил тихо.
Веня не ответил. Случайно взгляд его упал на копошащуюся на снегу кучу тел.
Толстомясый Никитка навалился на Леньку и Петьку, натирая им лица снегом.
Веня сделал шаг, но Толька схватил его за руку:
– Не лезь! Не твое дело! Какой заступник!
Веня вырвал руку, но в тот же момент ощутил тупую боль в скуле.
Голова закружилась. Едва удержался на ногах.
А Толька опять взмахнул рукою. Веня увернулся. Удар пришелся в плечо. Бросился на Тольку.
Опять боль в скуле.
И вдруг услышал:
– Веник, бей!
Звонко отдался этот крик в ушах. Радость от этого крика. «Рыжий», – подумал Веня.
А Толька отступил на шаг. Смотрел на Веню в упор зелеными дикими глазами и вдруг громко крикнул:
– Никитка! Брось тех! Рыжий!
Рыжий уже подходил.
В одной рубашке, в опорках на босу ногу, в шапке с ушами.
Примял шапку.
– Братцы, крой! – крикнул пронзительно.
И точно ожидали этого крика все трое: и Веня, и Ленька, еще не успевший отдышаться после могучих Никиткиных объятий, и плачущий заморыш Петька – все бросились на Тольку и Никитку, уже стоящих рядом.
Но силы были неравные: два силача уже сбили с ног Леньку и Петьку.
Те вскочили, но снова были сбиты.
– Эх, братцы, плохо! Разве так надо? – крикнул Рыжий.
Двенадцать рук замелькали. Двенадцать ног заскользили на гладком оттаивающем снегу.
С каждым ударом Рыжий вдохновлялся.
Кулаки его невидимо взлетали. Опорок соскочил с одной ноги. Так и не надел его.
– Бей, братцы! Веник! Молодец!
Веня разбил Никитке нос.
Никитка бестолково размахивал руками, пытаясь поймать Веню за руки.
Но Веня увертывался от его страшных лап.
И бил, и бил по окровавленному противному толстому лицу.
Толька держался долго, но после двух подряд резких ударов Рыжего, оставивших на сытых розовых Толькиных щеках темно-красный знак, Толька, отскочив в сторону, засунул руку в карман и, поспешно вытащив перочинный ножик, крикнул:
– Не подходи!
– А, с ножом! – остановился Рыжий.
Драка прекратилась.
А Толька и Рыжий стояли друг против друга.
Рыжий надел опорок.
– Резать будешь? – спросил, тяжело дыша.
– Зарежу! – ответил Толька.
– Слышали, братцы? – обратился Рыжий к мальчишкам.
– Слышали!
– Все слышали!
Рыжий сказал тихо:
– Толька, брось нож! Спрячь!
Толька молчал.
Рыжий сделал осторожный шаг вперед. Толька взмахнул ножом.
Рыжий сдернул с головы шапку и внезапным движением наотмашь ударил шапкою по ножу, а другой рукою схватил Тольку за горло.
Петька подхватил упавший нож.
Рыжий ударил Тольку по носу. Потекла кровь, Толька закрыл лицо руками.
– Довольно? Наелся? – спросил Рыжий и добавил: – Надо бы тебе за нож все зубы повышибить, сволочь!
Толька тихо отошел, вынул из кармана платок и медленно, вдоль стены, отправился со двора на улицу.
– Гулять пошел! – хихикнул Петька.
– Моцион ему нужно обязательно, – сказал Рыжий серьезно.
Потом обратился к Никитке, продолжавшему утираться:
– А ты чего, чудак, завсегда за него пристаешь? Морду накрасили? Хорошо? Вы, ребята, теперь чуть что – мне говорите. Мы их расчешем, как полагается. А ты, Петька, ножик евонный возьми и ежели он али вот этот черт полезут – режь прямо!
– Ей-богу, резать буду! – вдруг заговорил Петька, захлебываясь. – Это что же такое? Этот Никитка чуть что – в морду! Вот сегодня все брюхо раздавил, дьявол толстозадый! Посичас больно. Что я ему, подданный, что ли?
– Слышь, Никитка? Не стыдно тебе, все маленьких забиждаешь. Погоди! – погрозил Рыжий пальцем. – С тобою я еще по-серьезному поговорю.
– Я больше не буду Петьку трогать… – глухо сказал Никитка.
Засопел. Заморгал глазами.
– Это Толька меня все поджучивает.
– Толька? А у тебя своей головы нет? Теперь чтобы Тольку баста слушаться, понимаешь?
– Понимаю, – прогудел Никитка. – Я с им больше водиться не буду.
Он вдруг подошел к Петьке, вздрогнувшему от неожиданности, и протянул огромную красную лапищу:
– Ты, Петь, не сердися. Я больше тебя не трону, – конфузливо проговорил.
Петька опасливо поглядел на своего вечного мучителя и протянул сухонькую грязную ручонку.
– Ладно, помиримся.
– Вот, теперь у нас одна компания, – засмеялся Рыжий. – Давно бы так! Будто у нас, за Нарвской, ей-ей! Веник, слышь, у нас, за Нарвской, все дружные! Эх, братцы!
Он снял шапку, почесал затылок. Веня чувствовал радость. Смеяться хотелось и вместе плакать, Рыжего поцеловать. Подошел уже к нему, но устыдился.
– Ты чего? – пытливо взглянул на него Рыжий.
– Ничего!
Веня подумал. Вздрогнувшими губами промолвил:
– Ты – хороший…
– Пока сплю – хороший, ничего, – засмеялся Рыжий. Спохватился:
– Бежать надо! Хозяин заругается, я ведь выскочил на скору руку. В окно увидал, как ты с Толькою хлестался. Думаю: «Изувечит парня». Вот и прибежал.
Схватил снежок, запалил в стену, побежал, скользя опорками.
Была оттепель.
Капли веселее, звончее дробились по обледеневшему снегу.
Не верилось, что на дворе – январь.
И небо чистое, голубое, омытое, словно – не январское.
‹1925›
ПРЕСТУПЛЕНИЯ АКВИЛОНОВА
Повесть
1
СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ
Еще с детства Алексей Аквилонов проявлял некоторую странность.
Возможно, странность эта была следствием какой-нибудь ненормальности в строении организма. Может быть, мозг помещался в черепной коробке не так, как надо; мозговые извилины, может, не такие были, как у прочих людей, – кто знает?
Но, во всяком случае, никаким сумасшедшим Аквилонов никогда не был.
С детства отличался завидным здоровьем, ни свинками, ни флюсами не хворал и впоследствии не простужался, не хандрил и на разные там нервы не жаловался.
И ум имел ясный, характер спокойный.
А между тем странность одна у Аквилонова, несомненно, была, и заключалась она в том, что он всегда норовил сделать себе что-нибудь худое.
Бывало, такое положение создаст, ну прямо сам себя в дамках запирает!
Конечно, у всякого барона, как говорят, своя фантазия, и каждый по-своему сходит с ума, но если, например, генералиссимус Суворов петухом пел и через стулья прыгал, то все-таки он Чертов мост и Альпы перешел. Будь же на его месте Аквилонов, Алексей Исаевич, то обязательно нарочно проигрывал бы сражения.
На самой вершине славы взял бы и проштрафился.
Да так еще, чтобы весь мир рот разинул.
А Аквилонов ликовал бы: «Ага! Ждали от меня подвигов, чудес? Верили в меня как в гениального полководца? Так вот, смотрите, как мне французы да турки шею накостыляли!»
В детстве, бывало, подарят Алеше игрушку, о которой мечтал как о счастье, просил которую чуть не со слезами.
Носится он с ней, из рук не выпускает, от восторга места не находит.
Но пройдет день, а то и того меньше, и игрушка сломана, да так, что ни клеем, ни гвоздями не поможешь, и ни один мастер не возьмется чинить.
И ломал не потому, что игрушка надоедала. А просто непреодолимо захочется сломать.
А то явится желание огорчить близкого человека: маму, отца.
И жалко. И страшно. А вот хочется же! Покоя не найти!
Как жажда.
Отцову шапку дорогую, бобровую, спалил. На видном месте плешину, с блюдечко, сделал. Пропала шапка. Брошку матери в горшочек герани, в землю, глубоко запрятал. Нашли брошку много времени спустя. Цветы пересаживали и нашли случайно.
Когда исполнилось мальчику десять, мать уверилась, что он ее не любит.
И до конца жизни не знала, что сын любил ее – как никого никогда. Не знала, как он плакал всякий раз, после того как огорчал ее.
А когда мать ласкает:
– Ты паинька, славненький мой! Не шалишь теперь. Слушаешься папу и маму. Всегда будешь таким, не правда ли, миленький?
Алеша смотрит на мать, прямо в жадные ее, любящие глаза, и спокойно, несколько лениво, говорит:
– А я, мамочка, тебя не люблю-ю.
– Что ты, милый? – пугается мать. – Как тебе не стыдно?
– А раз не люблю? Я же не виноват, что не люблю.
Мучается мать. Плачет и вымаливает сыновней ласки, как милостыни.
А Алеша… Сердце бьется от своих же страшных слов, лицо бледнеет и дрожат губы:
– Не целуй! Ну тебя! Надоела! Говорю – не люблю! Ну и отстань, пожалуйста.
А после – мучается одиноко и тайно.
Игра – не в игру, забава – не в забаву.
Но на вид весел, даже особенно шумно весел.
В комнатах, не умолкая, звенит его голос.
На улице, во дворе затевает дикие игры, приводящие взрослых в негодование, а детвору – в восторг.
А сердце Алеши Аквилонова, коновода, застрельщика диких забав, томится одиноким страданием.
Ждет Алеша ночи, томится в ожидании ночи. Ночью он подкрадется к спящей матери и поцелует ее. Тихонечко, едва касаясь губами, как верующие целуют икону. Хочется крепко-крепко обнять маму и целовать бесконечно, а вместо того – чуть губами. Не поцелует, а приложится.
Мать умерла внезапно. Сидела за утренним кофе. И умерла. У нее что-то с сердцем было.
Долго помнил Алеша этот день. Знойный июльский день. Томительный и тревожный.
Духота в залитых солнцем комнатах.
В раскрытые окна – грохот улицы и щебетание птиц – знойное тоже.
Мать с утра жаловалась на сильную слабость, сердцебиение и головную боль. Сидела за столом бледная. Тяжело дышала.
С улицы звенели трамваи. Чирикали под окнами воробьи.
Казалось, от звона этого и чириканья – душнее в залитых солнцем комнатах.
И пришла Алеше мысль пошалить, огорчить раздражительную нездоровую мать.
Принес маленькое зеркальце и стал пускать солнечных зайчиков.
Навел на мать. Заслонила глаза рукой, недовольно сказала:
– Не шали! Я совсем больна.
Мальчик не унимался. И когда мать закричала, уже сердясь: «Господи! Какой бессердечный мальчишка!» – Алеша вышел из комнаты.
И сильное желание явилось. Взять зеркало побольше. Навести зайчика на лицо матери, прямо в глаза.
Сердце забилось. Жалко матери. А потому желание сильнее.
Как жажда.
Взял с комода большое круглое зеркало и тихонько пошел в столовую.
Мать сидела, опустив голову на грудь. Казалось, спала.
Алеша навел зеркало.
Светлое пятно задрожало на лице и груди матери. Розовые цветы – рисунок на капоте – выступили ярко.
И вдруг увидел Алеша на ковре, у стола, чайную чашку.
Тревожно стало при виде этой стоящей не на своем месте вещи.
Поспешно поставил зеркало на подоконник и подошел к матери.
Вгляделся в ее бледное неподвижное лицо.
Почему-то почудилось, что от этого лица – тихо.
И вдруг явилась мысль:
«Это не мама».
– Мама! – тихо и тревожно позвал мальчик.
И опять подумалось:
«Это не мама».
– Мама! – громче, с усиливающейся тревогой, сказал Алеша.
И не понимая зачем, быстро зашептал:
– Мамочка! Прости! Я не буду… зайчиков. Мама. Я люблю тебя! Люблю, мама!
Понял вдруг – мать мертва.
Испугался. Обнял ее крепко и закричал:
– Мамочка! Я люблю! Да люблю же!..
Отец был на службе. Прислуга ушла на рынок. Долго кричал Алеша.
Понимал, что все уже поздно, что не нужно теперь матери ни правды, ни лжи, но все кричал, что любит дорогую свою мамочку, всегда любил, что не будет больше шалить и пускать зайчиков.
А когда отошел от матери и хотел бежать за кем-то, звать кого-то, услыхал грохот трамваев и чириканье воробьев за окном и почувствовал непонятную обиду и тоску.
Увидел на стене вздрагивающее круглое светлое пятно, и цветы в пятне этом ярко выступали.
Вскрикнув, зарыдал Алеша и выбежал из комнаты…
2
ГОЛУБЕНЬКИЕ ПИСЬМА
Гимназии Аквилонов не кончил.
Не стал являться на выпускные экзамены и не остался на второй год.
Поступил на службу в банкирскую контору.
Отец сердился недолго.
Он в то время серьезно хворал и старался не обращать внимания на сына, один вид которого раздражал его.
Алексей же чувствовал себя как всегда: спокойно, несколько скучновато.
Разницы между училищем и конторой не нашел никакой.
В год, когда умер отец, Аквилонов полюбил девушку.
И первую свою юношескую любовь погасил сразу. Как гасят лампу.
С девушкой этой, Наточкой Авиловой, познакомился через школьного товарища Привезенцева.
Сначала она не возбудила в Аквилонове никакого интереса.
Но спустя несколько времени, как-то вечером, совершенно неожиданно вспомнил Наточку.
Всю представил себе: от пышных мягких волос до крохотных ножек. Даже будто и голос ее слышал: робкий, виноватый.
И захотелось увидеть ее. Сейчас же, сию минуту.
Потянуло к Привезенцевым, где Наточка бывала почти ежедневно.
Заторопился. Одеваясь, долго не мог сладить с одеждой, и сам удивлялся своему волнению.
К Привезенцевым пришел, когда Наточка уходила. Испугался, что она уйдет одна или с Привезенцевым. И потому поспешно вызвался ее провожать.
Она, конфузясь, согласилась.
По дороге Аквилонов спрашивал, в какой гимназии она учится, какие предметы ей нравятся, ходит ли в театр.
Она нехотя отвечала и шла торопливо.
Прощаясь, Аквилонов спросил:
– Вы любите танцевать?
– Люблю, – ответила Наточка.
– А какой танец вам нравится?
– Больше всего венгерка.
Взялась за ручку парадной двери.
– А меня вы любите? – спросил Аквилонов тем же тоном, каким только что спрашивал о танцах.
Девушка несколько секунд молчала, не шевелилась. Аквилонову показалось, что она не дышит.
Было темно.
Аквилонов не видел лица девушки.
Громче повторил вопрос.
Она ответила не то смущенно, не то обиженно, тщетно стараясь говорить насмешливо:
– Я об этом никогда не думала.
Аквилонов сказал серьезно:
– Подумайте.
И подал ей руку.
С этого дня стал чаще бывать у Привезенцевых.
Не чувствовал ни малейшей неловкости перед девушкой.
А Привезенцев как-то позвал Аквилонова к себе в комнату и стал расспрашивать о его ночном разговоре с Наточкой, сообщив, что узнал об этом от своей сестры, Наточкиной подруги.
– Неужели так и спросил: «А меня не любите?» – смеялся Привезенцев.
И на утвердительный ответ Аквилонова протяжно вздохнул.
Потом взял с дивана гитару и, тихо пощипывая струны, сказал как бы с сожалением:
– Так с барышнями не разговаривают. Любую, брат, спугнешь.
Взял два глухих аккорда и продолжал:
– Нехорошо, милый. Некрасиво. Надо щадить девичий стыд.
И тотчас же, не выпуская из рук гитары и не меняя тона, рассказал, как «влюбил в себя» хорошенькую девочку и почти насильно овладел ею.
Аквилонов стоял у окна, полуоборотясь к Привезенцеву.
Из окна видна была улица, узкая и безлюдная. Напротив – сад, пушистый, бледно-зеленый – весенний. Глядя на нежную зелень сада, Аквилонов почему-то неожиданно подумал о Наточке: «А вдруг я ее убью?»
Удивился этой нелепой мысли. «Убить? За что?» – задал вопрос.
Вздрогнул, когда Привезенцев запел:
За щечки, глазки,
Что были как в сказке,
И за пару ножек,
Что мне всего милей!
– Что такое – «за пару ножек и за глазки»? – быстро обернулся Аквилонов.
Привезенцев тряхнул смоляными, густо спадающими на лоб волосами и тихо засмеялся.
– Про тебя я пел, дорогуша. За глазки и ножки девочку полюбил. Разве не так?
Продолжал уже серьезно:
– Ножки у нее восхитительные. Ножки, брат, великая штука – Пушкин женскими ножками добрался до памятника нерукотворного.
Аквилонов сказал, не скрывая раздражения:
– Сколько лет тебя знаю и не могу понять: мерзавец ты или играешь под мерзавца?
Привезенцев быстро перебрал струны, глухо забренчавшие, и тотчас же прикрыл их ладонью.
Ответил не торопясь, равнодушно-задумчиво:
– Мерзавцев не бывает. Все мерзавцы. А актеры мы плохие. Мало того что не свои роли берем, но и не учим их.
Подошел к Аквилонову близко, на шаг.
– Ну? – спросил Аквилонов, чувствуя в себе тревожно поднимавшуюся тихую злобу.
Сощурил глаза:
– Ну-у?
Привезенцев сказал чуть слышно:
– Твоя роль самая трудная. И… страшная.
Аквилонов закусил дрожащую губу.
Глаза Привезенцева стали совсем черными – затерялись на смуглом лице.
– Алексей, – сказал Привезенцев, – Алексей, – повторил он тихо, умоляюще: – Несчастный ты человек.
Широко раздвинул рот. Губы тонко облепили заблестевшие зубы. Такой звериный оскал видел Аквилонов не раз, когда Привезенцев, еще гимназистом, дрался.
– Лучше тебе, Алешка, подохнуть. Руки на себя наложить, – сказал Привезенцев просто.
Губы опять стали пухлыми, детскими.
Аквилонов, секунду перед тем стоявший как пойманный, овладел собою. Сказал презрительно:
– Дурак!
И вышел из комнаты.
Проходя мимо окон Привезенцева, слышал разухабистое пение:
Эх, распошел,
Ты, мой сивый конь, пошел!
Э-эх, распошел,
Ты, хорошая моя!
Это пел Привезенцев. Громко и весело, заглушая гитару.
Когда Аквилонов, гимназистом, готовился к экзаменам, его никогда не покидала уверенность, что экзамены он выдержит, но вместе было жалко времени и труда, потраченных на зубрежку. Как уроки, так и на экзаменах, отвечал неохотно, с досадою.
Служа в банкирском доме, ведя статистику чьих-то денежных вкладов, подсчитывая чужие капиталы, испытывал ту же досаду, что и на экзаменах.
Любя Наточку, проверяя чувства свои к ней, видел, что любовь его скучна и нелепа.
Встречи с девушкою, мысли о ней, письма утомляли и раздражали, как извлечение квадратного корня или подведение итогов банкирских вкладов.
И поэтому смотрел на любовь как на нечто пришедшее извне, лично ему не нужное, навязанное непонятными обстоятельствами.
И как добровольно отказался когда-то держать экзамен на аттестат зрелости, так же отказался от любви.
Мысль о разрыве с Наточкой явилась в день, когда она прислала ему письмо.
Письмо было написано робко, как всегда, и нежно, как никогда еще Наточка не писала.







