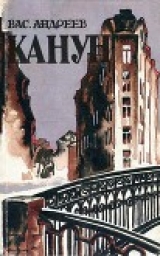
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
Билось в ушах от невыносимого крика, даже обругался Васька, а Самсончик – так же, как розовый, – стеклом дребезжа:
– Поне-ес! Пряж-ка! По-не-е-с!
Выбежал, выставив полусогнутую левую руку и на отлете – правую.
Ждал.
Розовый, бросив на мостовую пиджак и фуражку, кинулся на Самсончика, наклонив в светлых бараньих кудряшках голову.
Схлестнулись. Отскочили.
Словно два волчка, полосатый и розовый, завертелись: один – на бронзово-золотистых, другой – на черно-блещущих ногах.
В коротком взмахе стремительно взлетали руки, хлопали, отбивали одна другую, выстрелами влеплялись в полосатое и розовое тела.
Пловец, шагу не могущий сделать, дрожащий от неописуемо радостного волнения, забравший в рот ворот рубахи, смотрел на еще не виданное по красоте единоборство.
Сжимались непроизвольно кулаки, топтались нетерпеливо ноги, до боли напрягаясь в икрах, и теребился, как удила, скрипящий на зубах ворот рубахи.
А когда розовый клубок отлетел, в розовую развернувшись полосу, всклубивши пыль мостовой, а полосатый Самсончик, выжидая, с рукой на отлете, с грудью, крутой поднявшейся ступенью, – крепко стоял, будто врос в площадь стройными смуглыми ногами, – Пловец, вскрикнув торжествующе: «Понес!» – бросился на двух пряжинских плашкетов, так же, как он минуту назад, нетерпеливо топтавшихся. Увидел на мгновение спокойные, детские на чистом лице глаза и другие – острые, на рябом широконосом лице; потом ощутил тупую боль под горлом, пропали четыре глаза и два лица, а ноги сами скользнули вперед; боль в спине и затылке.
«Сшибли, черти!» – быстро подумалось, а в ушах хлестнуло:
– Пловец! Не качай!
Вскочил. Подбегали Самсончик и нарядный кудряш.
И снова десять рук, проворных и метких, замелькали; десять ног, упругих и быстрых, заклубили пыль площадную.
Но сзади и впереди, почти одновременно, свистки. И почти одновременно зазвенели нестерпимо резко розовый и Самсончик:
– Конча-а-а-ай!
– Пловец, хряй сюда! – отбегая в сторону, крикнул Самсончик.
– Куда? – догнал его Васька.
– Сейчас начнут…
Самсончик дышал порывисто, сплевывал закипавшую в уголках ярких губ белую слюну, вздрагивали ноздри и огоньки в цыганских глазах.
По площади – быстро-быстро – две цепи, одна навстречу другой.
Впереди покрошей – Христос-Гришка, невзрачный, сутулый, близоруко вглядывающийся, качающийся при ходьбе, как и все, а во главе Пряжки – высокий, с шапкою золотистых кудрей, парень.
– Ихний атаман, Шурка-Казак, братишка Баранчика, того, с которым я сейчас хлестался, понял? – скороговоркою горячо задышал Самсончик и тут же в нескольких словах рассказал, как Гришка Казаку нос сломал.
– Один раз Гришка Казаку по сопатке ка-ак даст! Нос – хрясть и посичас на боку.
И добавил веско, будто точку ставя:
– Мо-о-лодчик!
Первыми схлестнулись атаманы.
Звонкие, по всей площади, удары.
Отскочили. Переменились местами, как петухи. Разошлись, покачивая раздвинутыми руками.
«Будто плывут», – подумал Пловец.
Казак упал.
– Ловко! – радостно крикнул, обжигая Ваське ухо, Самсончик. – Ай да Христос! Видел, Пловец, а?
– Мо-о-лодчик, Гришка, – добавил, точку поставил.
Потом – глухой гул, свист; обе партии, сблизившись, стенку образовав каждая, двинулись.
Сошлись. Перемешались. Замелькали руки. Гулко зазвучали удары. И вместе с ударами – свистящими хлыстами по воздуху – бранные слова. С каждым мгновением бойцы оживлялись.
Руки – бесчисленные мельничные крылья.
Брань – все резче, но короче ударяла по воздуху.
Падали. Вскакивали. Падали.
Туманом – пыль над площадью.
Васька дрожал, топтался, перебегал с места на место, подпрыгивал, как от уколов.
И теребил зубами ворот, уже порванный и измокший от слюны.
Самсончик томился тоже: огнем горели смуглые щеки, свечками – глаза. На жарких губах высыхала пена.
Приседал к земле, вцепляясь темными крепкими пальцами в булыжины.
Как раскаленное железо рукою часто, порывисто хватал Ваську и обжигал:
– Гришка-то! Гришка! Толково бьет! А-а!
Васька, академик по драке, оценивал «работу» атамана добросовестно: угадывал каждое движение, предусматривал результаты. Одобрял меткие удары и досадовал на промахи.
А Гришка, вошедший в раж, разлохматив волосы, в щелки сощурив близорукие глаза и оскалив крупные лошадиные зубы, бил метко, привычно, и каждый почти раз от стремительного удара его костлявого кулака полосой или пятном ложился знак удара на лицах, неосторожно под него подвернувшихся.
Вдруг двое налетели на Гришку.
И тотчас же один отскочил, а другой как-то странно сел на землю и медленно согнулся в боку.
Кто-то что-то крикнул. Сразу прекратилось побоище.
Опять крик:
– Запятнал!
А над ухом Васьки обжигало:
– Гришка… Фарватера-Федьку… перо-ом.
Васька вздрогнул от этого шепота и взглянул на товарища.
Ослепительно горели черные глаза, раздувались ноздри, а в углах губ, лоснящихся алостью, белая вскипала слюна…
Фарватера вынесли на руках из круга.
Трель фараонова свистка близко где-то настойчиво и беспокойно сверлила воздух.
4
Гришка-Христос, покровский атаман, убивший пряжинского бойца Фарватера «мореным», то есть отравленным, ножом, был парень что надо.
Своих товарищей любил, как Христос учеников.
Часто говорил, правда, полушутя:
– Стервецы, ведь я вас, как Христос, люблю. Христос я для вас или нет, суки вы паршивые?
Даже как у Иисуса Иоанн был любимейшим, так у Гришки – Павлик, поварок из греческой кухмистерской с Садовой.
Гришка любил Павлика за молодость и необычайную смелость.
Павлик действительно был смел.
Прямо не умел бояться. Не понимал боязни.
Гришка о нем говорил так (философствовать, как и Христос, он любил):
– Есть люди всякие, каких чудаков бабы не родят. Я вот музыки не понимаю. Один черт для меня, что пианино, что трензель или барабан. Шум, и больше ничего. А скрипку терпеть не могу. Пищит, скулит, точно нищего через Урал тянет. А вот Павлик страха не понимает. Как вот я – музыки. Верно, Павлик, не понимаешь?
Павлик смеется весело, по-детски. И по-детски смотрит глуповатыми, красивыми, как у куклы, глазами:
– Как не понимаю? Что я – чума, что ли? Я знаю: страшно. А только не знаю, как это страшно-то бывает.
– Погоди! – перебивает Гришка. – Идешь ты, скажем, с Лизкой со своей на Митрофаниевском кладбище.
– Никогда мы с ней там не гуляем. Скучно, да и воняет.
– Дурак! Это мы предположим. Понял?
– Ну ладно, понял.
– Ни черта ты не понял… Значит, идешь. Теперь, вдруг из могилы – мертвец. Паршивый такой, почти сгнил.
– Стой! Как же он может?..
– Э! Не перебивай… Это так, вроде сказки. Ну, вылез это… «Ты чего, мол, шкет, со шкицею треплешься, мне, мертвецу, спать не даешь?» Понял? Это мертвец тебя спрашивает.
Павлик смотрит на Гришку непонимающими глазами и начинает вполголоса:
– До-ля-фа!.. Ты не ври…
Гришка безнадежно машет рукой.
Парни смеются.
Павлик не понимает страха, а потому обнаруживание у людей страха, боязни интересует и забавляет его. Особенно если люди боятся пустяков: крыс, пауков, тараканов, щекотки.
Павлик, так же как и ничего, не боится и щекотки, и люди, боящиеся ее, для него необыкновенно смешны и забавны, даже необычайны, как какие-нибудь редкие существа.
Это заставляет его чуть не ежедневно щекотать одного из покрошей, Кольку-Бульонного.
Бульонный – из «чистых», сын вдовы-чиновницы, самый слабый из парней.
Даже малолетний Самсончик с ним справляется.
По будням, в послеобеденные часы, прямо из кухмистерской или после разноса обедов на квартиры, с пустыми судками, Павлик наведывается к Покрову.
Завидя его, покроши, смеясь, Кольке:
– Сейчас тебе, Бульонный, жара будет.
А Павлик, белым костюмом и колпаком, сытыми щеками и улыбкою мелкозубого рта напоминающий веселого здоровяка поваренка с жорж-борманских реклам, садится рядом с Колькою, вздрагивающим от одного взгляда своего вечного мучителя, и говорит, подмигивая парням:
– Бульонный, поди, по мне стосковался?
– Брось трепаться, Павлушка! – сразу пугался парень.
– Зачем трепаться? На гармозе сыграю, только и всего.
Павлик, не торопясь, засучивал на полных розовых руках рукава, скидывал с жарких ног башмаки.
Затем, так же не торопясь, валил слабосильного Кольку, садился верхом.
Точно нехотя проводил пальцами по вздрагивающим Колькиным бокам.
Тот отчаянно взвизгивал, начинал биться, силясь сбросить с себя тяжелого, полнотелого Павлика.
– Мало, брат, каши ел, матка, поди, бульоном кормила, – смеялся веселый палач.
Ловил Колькины руки, раскидывал их в стороны, прижимал в сгибах толстыми пятками и начинал работать вовсю: быстро мелькали пальцы, забегали под мышки, останавливались.
Внезапно схватывали Колькины бока.
Бешенство, ругань, смех, плач – от прикосновения пальцев.
Как гармонист – чего только пальцами не выделывает!
Весело неудержимо Павлику.
Колька – гармонь, значит?
Изумленными, счастливыми глазами смотрит в искаженное непонятным ужасом и мучениями лицо, вскрикивает не понимающий страха Павлик:
– Чего боишься? Вот чудак. Братцы, ведь я легонько, пальчиками только. Вот святая икона!.. Глядите! Во… А он!
– Гармонь, ей-богу! Баян!
Захлебывается от восторга. Раскраснелся весь. Даже полная обнаженная шея порозовела. А Колька воет, визжит, умоляет:
– Пав… Пав… Ай! Ппп… Павлик! Ау! У-у-у! Ми… лень… не… на… на…
Весело, безумно весело Павлику на страхе человеческом, как на гармони, играть. Не выпускает из рук жертвы. Уже не сопротивляется обессилевший Колька, уже не сидит на нем Павлик, а, крепко зажав коленями Колькины ноги, держит его перед собою, как гармонь. И беспощадно-весело и глазами кукольными, красивыми, глуповатыми, и полнокровными персиками-щеками – смеется в измученное, потное, страхом и страданием искаженное лицо.
Не выпускает жертвы – гармони своей.
Все, что захочет, может сыграть.
– Вам что? Полечку? Краковяк?
Восторженными, счастливыми обводит всех глазами.
Но Гришка-Христос вдруг – грозно, зубы оскалив:
– Брось!
С Колькою – истерика. Ослаб. Мутные глаза – мимо Павлика.
Грубо отталкивает Павлика Христос:
– Черт толстомордый! До смерти ведь можно… Чума!
Опустившись на землю, к ограде прижался Колька.
А Павлик недоумевающе смотрит на него, зевает, потягиваясь:
– Настоящий ты, Колька, – бульонный. Поиграли с ним, а он и нюни распустил.
– Поиграли, – всхлипывает Колька. – Ты знаешь, защекотать можно насмерть. Это, брат, не игра.
– Почему же я не боюсь? Вот щекоти, на, где хочешь.
Павлик поднимает руку, подставляя бок, ногу сует Кольке на колени.
– На! Не бойся, щекоти!
– Уйди ты со своими лапами, – сердито отталкивает Павликову ногу Колька. – И так руки онемели от твоих пяток, толстущий черт.
Павлик ложится головой на Гришкины колени:
– Пятки, брат, у меня настоящие. Мясные. Вроде как биточки. Вкусные, сочные.
Павлик опять зевает, закидывает за голову руки. Потягивается. Бело-розовый, красивый. Спокойный, как счастье.
Вверх глядит, на широкие листья кленов.
– Гришка, разве от щекотки умирают?
– Умирают.
– От щекотки или от страха?
– От разрыва сердца.
Молчит, чешет глаза кулаками.
– А… разве… Спит почти:
– Раз… ве… под мышками… сердце?
– У кого где, – смеется Гришка, – у другого совсем нет. У тебя вот, например. Слышишь, Павлушка?
Но Павлик не слышит. Сладко спит. Слюна струйкою из румяного, полуоткрытого рта. Жемчужинами – зубы в алой оправе губ.
– Заснул, – говорит Гришка шепотом.
Долго смотрит, прищурясь. Потом – задумчиво:
– Красив, сволочь. Полюбуйтесь-ка, братцы.
Парни осторожно заглядывают.
– Что? А? – обводит Гришка близоруко.
– Будто шмара, – прыскает Баламут.
– Шикарный паренек, – говорит тихо Козел.
– Только толстый зачем. Во, окорока-то, – гладит Женя-Сахарный полные, обтянутые белыми брюками, ляжки Павлика:
– А здесь!..
Он щупает ступни, толстые в подъемах и пятках, короткопалые, без следа костей.
– Ишь, леший, что у копорки какой, у толстопятой, ноги-то. Отъелся у грека-то своего. Грек его любит.
– К окорокам-то евонным грек, поди, подъезжает, – смеется Баламут, – любят греки да армяшки толстых мальчишек.
– Тише вы! – машет на них Гришка. – Дайте парнишке покимарить. Он с Лизкой вчерась всю ночь проканителился.
– Он с ей второй год канителится, а ничего промеж их нету, – говорит Козел.
– А ты их проверял?
– Моя Стешка сказывала. Лизка с ей – начистоту. «Сколь, говорит, разов в Варшавской гостинице ночевали, и хоть бы поцеловал когда, не только что». Лизка говорит: «Я, говорит, что на угольях, а он – харю к стене. Спать, говорит, мешаешь».
– Молодец! Не курит, не пьет и баб не целует, – смеется Гришка, – «Спать мешаешь»! Козел, а? Как?
– «Спать мешаешь», – усмехается Козел. – Лизка утром – на работу, а он еще дрефить остается в гостинице.
– Будите Павлушку! Опоздает к греку-то, – говорит Женя.
Павлика долго расталкивают. Наконец поднимается. Красный, как мак. Кулаками – глаза. Плечами поводит. Сон долит.
– Баламут говорит – грек к твоим окорокам подсыпается, Павлушка, – спрашивает Женя, – правда это?
– Какие окорока? – зевает паренек.
– Вот какие, – звонко шлепает его по заду Баламут.
– А я думал – телячьи, – просто говорит Павлик.
Все смеются.
– Тебе сколько лет, Павлик? – спрашивает Гришка.
– В Петров день будет семнадцать.
– В Петров? Значит, ты – Петруха? А я и не знал…
– День Петра и Павла, двадцать девятого июня, знаешь?
Павлик собирает судки и кричит, уходя:
– Вечером ждите с пирожками.
– Припрешь? – кричат вслед парни.
– Ага! – отвечает, не оборачиваясь.
– С чем пирожки-то?
– С луком, с перцем, с собачьим сердцем! – выкрикивает, точно продает, Павлик.
Против ограды, через улицу, останавливается у аптекарского магазина и, дождавшись какую-то старушонку, кричит ей неожиданно в самое ухо:
– Го-рячие пирожки-и!
Старушонка шарахается.
Павлик – в восторге. Напугал!
Хохочет звонко, на всю площадь, глядя на озлобленную, стучащую клюкой бабку.
Обессилел от смеха, крышку уронил с судка. Крышка – на панели. Павлик – у стены.
В белом костюме, в белом колпаке, розовощекий, светлозубый – веселый рекламный поварок.
Бодрым эхом – хохот парней у ограды.
Баламут утверждал, что Павлик ничего не понимает.
– С гулькин нос у него понятия нет.
Павлик действительно не понимал иногда такое, что понял бы ребенок.
Шутки, остроты, анекдоты принимал или за чистую монету, или как «заливание» – обман.
Но главное – не понимал страха и боли.
Бывали с ним случаи, удостоверяющие, что он не знал, что такое боль.
Например, из озорства ходил на Пряжку, на Рижский проспект, в Семеновский полк – лез прямо в зубы «неприятелю».
Придет к пряжинцам.
– Здорово, трепачи!
Те во все глаза:
– Павлушка? Покровский? Бей его!
И – понесут.
В участках всегда волынился. Или околоточного дежурного облает, в лицо плюнет.
Бьют нещадно, как людей нельзя бить – бьют.
Однажды пристав остановил его на улице. Утром, в воскресенье. К обедне звонят, а парень – на всю площадь: «Любила меня мать, обожала…»
Безобразие! Пристав его – за рукав:
– Чего горланишь, хулиган?
А с приставом – жена беременная.
Павлик ее – ногой в живот.
Чуть пристав его не застрелил на месте.
Что делали с ним в участке после – неизвестно, но предположить можно все, кроме хорошего.
Когда спрашивали товарищи:
– И понесли же тебя здорово?
Павлик:
– Не помню, здорово или нет. Известно, в Коломенской здорово несут. А положим, не знаю. Черт их знает!
– Как же не знаешь? – приставали товарищи.
– Да вот – не знаю. Чего пристали? Идите и спросите.
– Да ты без памяти был, что ли?
– Зачем без памяти? Я все время пристава крыл почем зря.
Парни удивленно переглядывались, но не смеялись.
Над геройством – какой смех?
Не герой разве человек, избиваемый не по-человечески и через день-два забывший, как били: больно или не больно?
Это не геройство даже, а выше.
Имени этому – нет.
Так и товарищи Павликовы сознавали.
И уважали за это молоденького, с Садовой, из греческой кухмистерской, поварка.
Перед необъятной волей его – преклонялись.
Да и воля ли это была?
Имени этому тоже нет.
Есть, но имя – тайное.
Сказочная какая-то красота, изумляющая, поражающая, в Павлике цветущим цвела садом.
Садом этим роскошным он ограждался от всего, что плохо.
И огражденный – не должен был знать страха, боли и, может быть, всего, что омрачает, старит, изнуряет, убивает человека. Поэтому, насильно приучаемый к водке, табаку – в рот, случалось, вино вливали и совали папиросы, – не привык ни пить, ни курить.
Потому, с девицами ночуя, спал крепко, к стене обретясь.
Огражденный.
И – счастливый, как никто, как само счастье.
И потому знавшие Павлика преклонялись перед ним.
И когда Гришка-Христос называл его красивым, то щеки ли одни розовые, или кукольные глаза имел в виду?
Не другую ли, тайную красоту чувствовал Гришка в хорошеньком поварке?
5
Гришка-Христос из всех покровских умнейший и начитаннейший.
– Гришка любому студенту очки вотрет! – говорили про атамана товарищи. – Он все книги перечитал, оттого и ослеп.
Гришка действительно знал и читал много, но понимал как-то все по-своему.
Однажды Васька-Пловец слышал, как Христос беседовал с приятелями о книгах, о писателях.
– Самый первосортный писатель – это, братцы, Пушкин. Здорово писал. Все про нашего брата, шпану. Есть у него рассказ в стихах про наших, покровских.
– Брось лепить горбатого, Гришка! – смеялись парни.
– Чтоб я был подлец, если вру. Про Покров, ей-ей! И ловко как! Там у него парнишка, вор-домушник, нанялся к купчихе в кухарки.
– Парнишка? В кухарки? Как же это?
– Чего ржете, дураки? Очень просто… Подбрился, парик купил, косы, накрасился. Платье бабское. Подложил, где надо, ваты: титьки, там, и все прочее, честь честью. А купчиха слеповатая, вроде меня. Приняла за девчонку.
– Ну? – настораживаются парни.
– Ну, а теперь он живет и закрутил любовь с дочкой купчихиной. Открылся: «Так, мол, и так, люблю тебя, потому и платье бабское надел». Дочка спервоначалу испугалась. Уговорил. Баки вколотил, что надо, а после и дочка в него втрескалась.
– Врешь?
– Будь я сволочь! Так у Пушкина и сказано. Эх, черт возьми, забыл, а ловко у него про любовь ихнюю стихами… Так вот, парнишка живет у купчихи. А борода выросла. Стал бриться, а купчиха и закатись в комнату.
– Ну, ну? – уже теряют терпение парни, а у Павлика и рот полуоткрыт, и щеки зарумянились.
– Теперь купчиха шухер подняла. А парень ее – раз! – бритвой. Всю «хазовку» обчистил. Брильянтов одних на три тыщи, денег – не помню сколько, да и был таков. Шикарно писал Пушкин!.. И парень был что надо. Тоже, как и мы, хулиганил, но, конечно, по-благородному, с револьвером. Его и убил черносотенец, офицер. Вроде как Вальку-Баяниста. Только Пушкина – за шмару.
О книгах, писателях, хотя по-своему, фантазируя и сочиняя, много говорил Гришка, и кое-чему научился у него Пловец.
И то, что упорно стал искать книги и, найдя, читал запоем, и то, что на драки не как на безобразия стал смотреть, а как на необходимый каждому пройти путь, то, что сознательным хулиганом стал, – всем этим обязан был Гришке.
И сознавал, и ценил это, и благодарен был учителю и наставнику, площадному своему Христу.
За два-три года Васька весь курс жизни прошел. Все, что необходимо знать городскому парню.
Уличный курс. Улица учила. Кто же больше?
Одна она и мать, и наставник, и профессор.
Школа ее – живая. И наука – живая. И вся она, улица, – сама жизнь.
С детства на улице. Ею воспитанный, живущий ею, знающий ее, чувствующий, осязающий грудь ее суровую, но ласковую необутыми ногами (не ходящий никогда босым по земле человек – несчастен, земли не знает, любить землю не может так сильно, как тот, кто телом своим ее ощущал), школу улицы прошедший суровую, но не обманную, закаляющую тело и окрыляющую дух школу, Васька-Пловец с юности стал улицы гражданином.
Знал науку – закон ее, как прилежный ученик урок.
А наука – закон ее – искание путей к борьбе и сама борьба.
И еще тверже знал, что один – не боец, что партия нужна, артель.
И не только знал – знать-то не штука, – а бороться умел.
И опасности прямо смотрел в глаза, как при «сходке», стычке, на врага в глаза – непременно надо. Опускать головы, глаз прятать – нельзя.
Гришкина еще наука это.
Гришка многому научил. Он же пробудил потребность к знанию. Пушкиным натолкнул. С Пушкина Васька и начал, с «Домика в Коломне».
Многого не понял, многое показалось скучным, ненужным, но полюбил Пушкина и гордился им.
– Пушкин – голова. Что надо парень! Такие люди – на редкость.
Так говорил. И с гордостью – еще:
– Наш, покровский.
Верил, что покровский.
Раз «Домик в Коломне» описал – значит, покровский.
6
Много воды утекло в Екатериновке и Фонтанке, много сменилось парней.
Гришка в Обуховской кончил, от ран. Сакулинский атаман Соловей запятнал.
Павлик, заменивший Гришку, утонул во время волынки с пряжинцами, близ Турухтанского, Вольный тож, острова.
Много смен и перемен. Баламут в Балаклаву пешком ушел и не вернулся. Зачем ушел – ему только, Баламуту, известно. А почему не вернулся – неизвестно никому.
Женя-Сахарный «котовить» стал, на проституткины деньги жить, с Анюткою жил, со шмарою.
Идет, бывало, по улице, а мелочь, плашкетня – посадскими кругом воробьями – скачут: «Кис-кис! Котик! Кис-кис!»
Дразнят.
Бульонный тоже по примеру его хотел жизнь устроить – на бабий перейти доход. Да только ошибся. Под каблук бабе попал. Со вдовой, ларечницей бывшей, торговкой, сошелся. А она – жох, торговать его заставила, с лотком: дули моченые, квас грушевый. И каждая копейка – на счету. Работником сделала. В черном держала теле, била – чуть что. Баба здоровая, деревенская. Бульонный против нее – прыщик.
Иной раз не выдержит Колька, сбежит. Неделями ночует в чайных, на «гопе», в ночлежке то есть. Ищет его Авдотья – жена. Разузнает. Разыщет.
Крик поднимет, на всю площадь:
– Изверг! Пьяница! Мучитель!
Да со щеки на щеку при всем-то народе!
Потом – за воротник и, как мальчишку, тащит домой. Очнуться не дает.
Плохое дело Бульонного!
Много перемен. Смен много.
После Павлика Самсончик атаманил. Самый молодой из атаманов, семнадцати не было – не запомнят таких. Но атаман приличный.
Потом Самсончик на добровольном транспортном судне в плавание кругосветное уехал.
Васька стал верховодить.
Тогда же, в первые месяцы атаманства, закрутил Пловец любовь с Нюткой-Немкою из чулочной, с Английского.
Нютка – шикарная, пышная, стройная; волосы только светлые очень не особенно нравились Ваське. «Будто немка» – так говорил о волосах. И лицом Нютка на немку похожа: полная, румяная, глаза – голубенькими стеклышками.
Немка – девица «не выкати шара» – артельная, не ломака.
Крепко Васька ее любил.
7
В германскую войну много ушло и от Покрова.
И Васька угадал, хотя ненадолго.
Потом в запасном полку служил. В Ораниенбауме.
В революцию, в первую, в пулеметном был, в Ораниенбауме тоже. Оттуда и пришли в Питер, но здесь уже все порешено было. Фараоны сняты были; Каблуков, околоточный, из серебряковского дома, на канале выброшенный, дней пять не убирался, после кто-то на санках, через спуск, в Екатериновку, в полынью, рыбам на закуску.
Васька потом на Балтийском работал, оттуда в Красную гвардию угадал, а потом и в армию.
8
Тяжелые дни… тревожные…
Словно земля из-под ног уплывала.
В воздухе будто бы повисал человек.
Дни испытаний, черных дум и тревожных волнений – тяжелые дни.
Город, завоеванный теми, кто строил, кто жизнь ему дал, – этот Н о в ы й г о р о д ждал нестерпимо, тревожно, тяжко, что придут, войдут в него те, что прав на него не имеют.
И они шли…
Неведомо откуда взявшиеся, близко уже подходили.
Тяжелые дни. Тревожные.
Земля из-под ног уплывала. Земля траншеями прорезалась.
Вышки, колокольни укреплялись мешками с песком.
Каждый дом – крепость.
Каждое окно – бойница.
Ни одной пяди – т е м!
Ни одного камня мостовой – т е м!
О, если бы камень каждый динамитным стал снарядом!
О, если бы каналы, реки города все – пламенеющей нефтью!
О, если бы цок конского копыта, каждый звук – громкогремящим молотом бил в мозг врага!
О, если бы огоньки окон, свечек, спичек – разящей молнией!..
Так пел бы Новый город молитву боевую, так пел бы, если б имел голос, сердце и мозг если б имел!
Но разве не имел?
Те, что выросли в нем, – не часть его разве?
Не нотки голоса его, не капли крови, не тонкое волокно мышц его сердца?
А все они – сыны. Разве не он сам отец?
Он – каменный.
Но они не каменные разве?
Твердостью духа, закалкою, силой мышц творящих, беспредельностью творящей мысли – не каменные?..
9
В тяжелые тревожные дни, когда сынам города – бойцам грозило лихо, гибель, смерть, когда враг двигался черной тучей, стремясь затмить возгоревшее ярко солнце, в те дни бойцы – а сыны, строители города, все бойцы – почувствовали, сознали, что должны победить или пасть.
Слава пережившим эти дни, не хоронившимся в углах, а идущим на поля загородные для встречи врага!
Слава ждущим его в городе, пядь каждую вооружа земли!
Счастливы жившие в эти дни!
Живший в эти дни, умирая, не скажет, что даром жил!
Жил ли кто даром, живет ли кто напрасно сейчас?
Не было и нет таких!
А если были, есть – умолчим о них, ибо они – мертвы.
Живя – мертвы.
Умолчим, ибо сказано о них все!
10
В те дни на питерском фронте встретился Васька со старым товарищем, Самсончиком-матросом.
В пехотный отряд сформированные моряки держали связь с полком, в котором находился Васька.
Самсончик – такой же цыгански черный, чернее еще, чем был, такой же горячий, вспененными губами произносящий горячие, часто не договоренные от поспешности слова.
В кожаной нараспашку куртке, смуглой грудью обнаженно встречающий октябрьский ветер и непогоду, грудь эту также обнаженно нес навстречу губящему ветру-непогоде вражьих пуль.
Не ложился, перебежек не делал при перестрелке, а силою молодого, воспламененного жаждой битвы сердца, жаждою, в крик переходящей, в звонкое, дерзкое «Даешь!», – шел с этим вскриком, лозунгом и молитвою бойца и пал, четырьмя сраженный, четырьмя разрывными в грудь.
Во время короткого затишья, раненый, перевязанный, пришел в морской отряд Васька проститься с убитым товарищем.
Стояли хмурые над лежащим моряком товарищи-моряки.
Ни слова. И кругом тишина закатного осеннего часа. Изредка только вдалеке щелкнет одинокий выстрел.
Теплая зеленая земля, питерская, болотистая. И на ней, на земле на питерской, – питерец извечный, в жертву Питера, города своего, себя принесший, – на питерской, слезами и кровью двести с лишним лет поливаемой земле.
Не нужно ему отпеваний и ладана церковного, пусть это тем, при жизни мертвым.
Черный весь: волосами, лицом смуглым, на котором черные не закрылись глаза, черный одеждою кожаной, клешем, широко и ласково приникшим к ногам, весь словно отлитый из вороненого металла, как вороненым стволом блещущая, застывшая в руках винтовка и стволы торчащего из-за пояса браунинга.
Весь – одно; тело и металл, кость, мышцы, кровь и оружие, жизнь и борьба – одно.
Есть ли ярче, понятнее символ?
И не смел пожалеть тоскливо и мягко, да и не умел так жалеть Васька.
И сказал только:
– Парень был что надо! Выросли вместе. Плашкетами еще познакомились.
Обступили моряки. Спрашивал кто-то:
– Товарищ твой? Да? Может, знаешь батьку с маткой? Адрес знаешь?
Но не знал этого друг детства, да и знал ли кто?
– Не знаю, где жил. Знаю, что в Питере.
– Конечно, не в Москве, – засмеялся кто-то, но осекся.
Не потому ли осекся, устыдился, что понял, что не нужно знать родных убитого, ибо родные его, батька с маткой, – все батьки и матки, братья и сестры, товарищи-питерцы – в с е?
И адрес его – Питер.
Чего же еще?
11
Славная смерть товарища и встреча в городке под Питером с русским революционным вождем заставили Ваську поверить в победу.
Голос вождя из туго обтянутой кожаным груди, кованый голос, острый, твердый – металл, оружие – бил и резал воздух, бил и резал, и гнал страх, малодушие, недовольство, смятение.
И сюда же, в городок, летели вражьи свистящие, рвущиеся со злобно-зловещим треском в палисадниках и на мостовой снаряды, горохом прыгала по крышам шрапнель.
А он, черный металлически и говорящий металлически, твердо стоящий и твердо говорящий, не слышал, казалось, что смерть бешеную кружила карусель. И страх, малодушие и недовольство, а это же – смерть, бил и бил кованым острым металлом – оружием – голосом.
И когда уехал из городка так же быстро, как приехал, революционный вождь, не стало уже страха, малодушия, недовольства и смятения. И на другой день наступавший все время враг отступил, и отступал уже с каждым боем, с каждым часом, и земля, не могущая ему принадлежать по праву жизни и по праву права, но разбойно на время попранная кровавой его стопой, земля оживала, земля ликовала, и город, разорвавший охватившее было змеей кольцо, – стоял твердо и незыблемо, кровью бойцов-строителей вспоенный. И, в знак возвеличения этой крови, кроваво-красными расцвеченный знаменами.
12
Василий Соболев года полтора как женат. Живет не у Покрова, а в улице, прилегающей к Невскому, но улице такой же отчаянной, грязно-разбитной, как родные улицы Коломны.
Много пережил Васька-Пловец передряг: войны германскую и гражданскую, и вот, женатый уже, а все такой же, как и парнишкою был, только внешне изменился, да и то больше костюмом: лакироши и шаровары, отошедшие в минувшее еще до революции, сменились клешем семидесятидвухсантиметровым, рубаха с кистями – беловоротниковым апашем. Чуб не зачесом, а приспущенная прядь над смелой тонкой бровью – темно-русым уголком.
И лицом почти юноша, хотя около тридцати.
Улица здоровьем неувядаемым наградила.
Хранила молодость, как сокровище драгоценное, сильная хранила воля.
Боец опускаться не должен.
А человек – боец, всю жизнь – солдат.
Знал это, чувствовал вернее, Соболев.
Жалел искренно, что нет фронтов.
Тогда исполнил бы все, смутно еще в детстве познанное, когда с замиранием сердца следил за борьбой атаманов и бойцов, горя от нетерпения, места не находя, и, как молодой конь удила, грыз ворот рубахи.
И жалел искренно подчас, что не постигла его участь Самсончика, так шикарно кончившего, Питер защищая, – четырьмя в грудь из пулемета вражьего.
Кровь волною приливала, губы кусал в такие минуты, как когда-то ворот рубахи.
Зная, что драки уличные не в моде, что бессмысленны, ни к чему они там, где все – товарищи (тех, нетоварищей, в счет не ставил, те – «мертвые души», по Гоголю прочитанному, называл), – зная это, драки любил, но безобидные, мальчишеские стычки.
Не отрываясь, подолгу смотрел на дерущихся. И нравились новые мальчуганы – очень смелые и бойкие, куда смелее и бойчее прежних.
Иногда думал: «Вот бы из таких – шатию».
Но тотчас же одергивал себя: «Ишь, черт Веревкин, что выдумал! Хулиганничать, брат, – не дело. Не такое нынче время».
Васька женат на Марусе Хавалкиной, с бывшего Лаферма. Хорошенькая. Глаза – что у ребенка или у телки годовалой.







