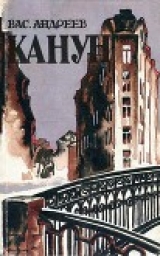
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 26 страниц)
СЛАВНОВ ДВОР
Повесть
Посв. Отто О.-С.
1
В ДОМЕ СЛАВНОВА
Родители Вени Ключарева двадцать с лишним лет в доме Славнова прожили. И все в одной квартире, номер – тридцать.
Бывает такая оседлость, привычка у людей.
Квартира – тридцать, окнами во двор, но светленькая, веселая: четвертый этаж и сторона солнечная.
Коридор только темный, страшный.
По коридору этому Веня стал без опаски с девяти лет ходить. А раньше – днем и то бегом, с бьющимся сердцем.
Вечером же, бывало, ни пирожным, ни шоколадом каким и мармеладом не соблазнить. Не пойдет!
Славнов двор казался Вене огромным, рябым, серым полем, с двумя дорожками.
Дорожки эти – панели, от двух лестниц до ворот.
Остальные же три лестницы без дорожек, так.
В конце двора, далеко-далеко у кирпичной нештукатуренной стены, бревна-дрова сложены до второго почти этажа.
По утрам и вечерам их колол большущим, больше Вени и других славновских ребятишек, топором богатырь в белой рубахе, с засученными рукавами.
Колол не так, как колют, – ну, взять да колоть, а забивал железный клин, долго звонко стучал топором по клину, и с треском разваливалось потом толстое бревно.
Веня, осенними дождливыми днями, когда не пускали гулять, подолгу смотрел на работу богатыря. Даже приучился по звуку топора узнавать, когда бревно не поддается и когда скоро развалится.
Потом прибегал мальчуган, брал в охапку наколотые дрова и уносил куда-то.
Веня решил, что мальчуган – сын богатыря, будущий богатырь; и дрова им нужны для варки пищи в больших богатырских котлах.
Варят же они, конечно, целых быков.
Но когда Веня подрос – богатырь богатырство свое потерял. Оказался худощавым и невысоким вовсе обыкновенным мужичонкою, клинобородым, вроде пахаря из хрестоматии, там, где: «Ну, тащися, Сивка».
И – как узнал из разговоров с ним Веня – никаких он богатырских подвигов не совершал: со Змеем-Горынычем не дрался, о Соловье-Разбойнике слыхом не слыхал и не крал прекрасных царь-девиц.
И имя у него было не Илья, не Добрыня и не Еруслан, а совсем не богатырское – Харитон.
И мальчуган, прибегавший за дровами, вовсе не был ему сыном.
А оба они из овощной и хлебопекарни Малышева из Славнова же дома: Харитон – пекарь, а мальчуган Ванька – лавочный мальчик.
Узнав все это, Веня почувствовал недовольство и как бы досаду и против Харитона, и Ваньки, точно они были в чем-то виноваты: насмеялись или обманули его.
Многое, что в детстве кажется необычайным, таинственным или страшным, но всегда одинаково красивым и интересным, – с годами теряет красоту, тускнеет, точно выцветает от времени.
Как обои. Оклеят комнаты: стены – яркие, цветочки розовые или какие синие. И пахнет со стен весело. А потом запах теряется. Цветы, как будто настоящие, – увядают, бледнеют, а потом еле-еле их различаешь.
Чем больше проходило времени, чем больше рос Веня – все менялось.
На что уже – двор славновский.
Когда еще только первый год стал Веня ходить в начальную – «в память св. св. Кирилла и Мефодия, первоучителей словенских» – школу, двор славновский стал значительно меньше: раньше от лестницы до ворот было пятьдесят четыре и даже пятьдесят пять шагов, а тут – тридцать семь неполных.
От этого грусть какая-то, недоверие к прошлому и обида: точно насмеялся кто, обманул.
Одно лишь волновало в прошлом и не забывалось с годами – радостные, светлые какие-то дни.
Может, и не дни, а мгновения, минуты.
И не событиями какими особенными были они памятны – нет!
События запоминаются как события, а все, что их сопровождает, – неважно, бледно, не памятно.
Помнилась радость о с о б е н н а я, беспричинная.
Помнил Веня, как однажды, еще маленький, трех-четырех, не больше, забрался на окно в кухне – с ящиком такое окно было, кухонное. А напротив на таком же ящике лежали пучок редиски и огурцы – два огурчика.
И от солнца ли, или мокрые они были – так блестели р а д о с т н о, будто с м е я л и с ь.
Так и подумал тогда: «Огурчики смеются».
И в восторге запрыгал на подоконнике. И не выдержал. Не мог один упиться этой радостью, весельем, восторгом – слишком много радости этой, восторга было.
Побежал в комнату, к матери.
Ухватил ее, удивленную, за юбку:
– Мамочка! Мама! Огурчики, ах!.. Пойдем!
Не мог объяснить на бедном детском своем языке, задыхался.
И все тащил:
– Пойдем!.. Кухню… Огурчики… Пойдем!
Целовала потом, смеясь, мать.
Купила ему два таких же огурчика зелененьких, свеженьких.
Но радость прошла.
Помнилось: капризничал весь день.
И грустно было.
Первый раз – грустно.
Помнил долго первую эту грусть, помнил много лет спустя.
Как и радость ту, первую, помнил.
Но радость бывала все-таки чаще.
И т а к а я радость, особенная.
И просто радость – веселье, от событий интересных, веселых.
Событий, особенно весною и летом, когда весь двор на виду, много.
Одних торговцев переходит – не счесть.
Чего только не кричали:
– Швабры половые, швабры!
– Клюква подснежная, клюква!
– Селедки голландские!
Это – бабы. И голоса у них разные.
У торговок швабрами – недовольные, сиповатые, напоминающие иногда квакание лягушек. У тех, что с клюквою, – ласковые, сладенькие. И слово «подснежная» – особенно располагало.
У селедочниц – унылые, гнусавые. И руки, стянутые лямками корзинок, уныло висят.
Мужчины продавали разное.
Рано утром, просыпаясь, Веня, маленький еще, удивлялся, почему торговец во дворе знал, что он спит.
– Что спишь? Что спишь?
Но после оказалось, тот продавал штокфиш – рыбу.
Мужчины – торговцы интереснее женщин: разный у них товар.
– А вот ерши, сиги, невска лососина!
– Костей, тряп! Бутыл, бан!
– Сиги копчены!
С невской лососиной особенно нравились и с копчеными сигами. Такие веселые голоса – прелесть! Это утренние торговцы.
А с полдня: «цветы-цветочки», «мороженое» по десяти раз и «садова земляника».
С земляникою мужики бородатые, в красных рубахах с горошинами – вроде разбойников или палачей. Широко вздувались рукава. А на голове, на длинном лотке, – корзинки с яркими ягодами. И как рукава – красная, с горошинами, вздувалась ситцевая покрышка над лотком.
Все – от рубахи до ягод на лотке – яркое, красное.
Красивые – мужики-земляничники.
Много – татар-халатников. Их дразнили «свиным ухом» или спрашивали:
– Князь, а князь, не видал ли ты пса-татарина?
Бывали не повседневные, а редкие события.
Пьяный наборщик Селезнев окна бил у себя в квартире.
У чиновника Румянцева сынок утонул, Володя.
Страшный был день, осенний.
С Петропавловской из пушек палили. Наводнение было.
Володя, как оказалось после, воду бегал смотреть на Фонтанку (от Славнова дома близко).
И как-то вот утонул.
Страшный был день.
Ветер зловеще выл, и потерянно стонали флюгарки на трубах.
Серые тучи катились быстро и низко.
Косой, колкий дождь хлестал.
И вдруг голос во дворе, дворника Емельяна голос:
– Барин, а барин!
Тревожный голос. Тревожный и потерянный, как стон флюгарок.
Емельян кричал во второй этаж чиновнику Румянцеву:
– Барин, а барин! Ваш мальчик… Уто-о-п!
Это неправильное и продолженное, как стон, «уто-о-п» страшнее было правильного «утонул».
Несмотря на непогоду, захлопали отворяющиеся рамы.
Застучали торопливые шаги по панели, к воротам. В шапке, но без пальто, с поднятым воротником пиджака, пробежал по панели, к воротам, чиновник Румянцев. Слышались голоса.
Много славновских любопытных жильцов, несмотря на непогоду, побежало на Фонтанку.
Веню не пустили родители.
Сидел на окне.
На тучи смотрел серые, как дым, быстро катящиеся.
Ждал, когда принесут Володю Румянцева.
Тревожно, неспокойно было на душе.
И пришли во двор певцы бродячие, несмотря на непогоду. Четверо. Трое мужчин и женщина.
И, несмотря на непогоду, запели.
Ветер зловеще выл. Стонали флюгарки.
Серые, низко катились тучи. Как дым.
И певцы запели:
На речке, на речке-е-е,
На том береже-е-ечке.
Вене стало не по себе.
И хотя пели о том, что какая-то Марусенька мыла «белые ноги» и что на нее напали гуси, которым она кричала: «Шижма! Летите, воды не мутите!» – мальчику казалось, что певцы посланы к е м – т о спеть о Володе, утонувшем «на речке, на том бережечке».
А когда раздались слова:
Шла стара баба,
На скрипке играла,
На скрипке играла,
Сама подпевала, —
стало совсем нехорошо. Представилось почему-то, что старуха, играющая на скрипке, – или ведьма, утопившая Володю, или Володина смерть.
И вставал мучительный вопрос:
«Зачем старуха – со скрипкою? Разве старухи играют на скрипках?..».
Редкие песни – не мучили. Редкие были – ясны. Когда в праздники отец пел: «Нелюдимо наше море» или «Среди долины ровныя» – тоже было томительно и неясно.
И удивляло Веню, что во всех песнях не было радости…
Отцовский дом спокинул мальчик я…
Травою зарастет.
Собачка верная моя
Залает у ворот, —
пели маляры и штукатуры.
И представлялся уходящий куда-то человек, тоскливо воющая собака и дом, заросший травою, как могила.
Даже о саде зеленом те же штукатуры и маляры пели невесело: грусть-тоска о саде, рано осыпающемся, и о разлуке с каким-то другом, отправляющимся далече.
Но особенной неудовлетворенностью веяло от излюбленной всеми мастеровыми песни. Каждый день слыхал ее Веня.
Умерла моя Мальвина,
Во гробу лежит она:
Руки к сердцу приложили,
Грудь прикрыли полотном.
Громко певчие запели,
На кладбище понесли…
Приносили на кладбище —
Застонала вся земля.
Вся вселенная сказала:
– Вот погибшая душа!
Тело в гробе говорило:
– Подойди, милый, сюда!
Подойди, милый, поближе,
Встань ко гробу моему…
Вся от начала до конца – похоронная, но не трогающая, а назойливая, неотвязная, как зубная боль. И мелодия неотвязная, незабываемая, как ошибка.
2
ТОЛЬКА И ТОНЬКА
Двенадцатилетним Веня увлекался игрою в карточки. В моде тогда была эта игра. Азарт какой-то поголовный, поветрие.
Целые коллекции ребятишками составлялись. Покупались за деньги, выменивались на сласти и игрушки. В мусорных ямах, в садах, во всех закоулках искали папиросных коробок.
И играли в эти карточки, то есть в оторванные от коробки крышки и донышки, до самозабвения, до драк и слез включительно.
И в эту-то карточную эпоху переехал в Славнов дом новый жилец, капитан второго ранга Одышев.
Сам он еще находился в плавании, а приехали сначала его сестра, Софья Алексеевна, и дети: сын Анатолий и дочь Антонина. А еще – капитанский пес, Гектор.
Когда во двор въезжали три воза с мебелью, из окон, как полагается в таких случаях, торчали женские головы.
Но внимание славновцев, как взрослых, так и малолетних, главным образом было обращено не на разгрузку возов и не на мебель капитана, а на его детей.
И не только потому, что дети были очень уж не похожи на славновских ребят: рослые, чуть не с извозчиков, раскормленные здоровяки, толстоногие, с круглыми румяными лицами и с двойными подбородками.
И не потому еще возбуждали они всеобщее внимание, что были в костюмах, смешных для их видных фигур: в широкополых соломенных шляпах с лентами, свисающими сзади, в матросских рубашках; мальчик в коротких штанишках, а девочка в короткой юбочке.
Но не вид их и не костюмы привлекали внимание славновцев, а поведение: очень смело, даже оскорбительно вели себя капитанские дети.
Первым долгом они принялись науськивать огромного сенбернара на кошку, пробегавшую через двор.
– Гектор! Гектор! Усь! Усь! – кричали во все горло. – Черт! Гектор! Бери-и!
Огромный пес, басисто тявкая, прыгал перед ощетинившейся кошкою.
Из окон уже кое-кто кричал:
– Мальчик! Дети! Зачем? Не надо!
И тетка бросила смотреть за мебелью и побежала за озорниками.
– Анатолий! Антонина! Что вы делаете? Как вам не стыдно?
Была она маленькая, значительно ниже своих племянника и племянницы, худенькая, тонкоголосая.
Суетилась, натыкаясь на широкие спины, на голове тряслись кружева и ягоды какой-то странной шляпки.
– Дети! Как вам не стыдно?
– Дурак, сам упустил! – говорил мальчик девочке. – И никогда он кошек не берет, дурак!
– Собака-то умнее вас! – не вытерпел кто-то из наблюдавших из окон.
Дети задрали широкие поля шляп, посмотрели вверх.
Потом, как бы сговорясь, мальчуган показал кукиш, а девочка язык.
Где-то засмеялись.
– Я вот выйду и уши надеру! – крикнул оскорбленный.
И опять, как бы сговорясь, капитанские дети состроили «носы».
После этого случая капитанских детей называли Толькою и Тонькою, оболтусами и дылдами.
Дальнейшее знакомство славновских ребят с новыми ребятишками ознаменовалось скандалом.
Толька примкнул к играющим в карточки и неожиданно кинулся на одного, у которого была в руках солидная пачка карточек, – выхватил их и убежал.
Ребятишки, не догнавши длинноногого грабителя, стали стучать в двери капитанской квартиры, но вместо тети Сони выскочил страшный Гектор с грозным лаем.
Мальчишки в страхе бежали.
В этот же день Тонька, встретив во дворе наборщикова Петьку, сорвала с него шапку, а когда тот бросился на нее с кулаками, схватила за руки и поставила слабосильного мальчугана на колени, крича при этом весело:
– Кланяйся королю в ноги!
Петька, обиженный до слез, не рискнул драться с большой и толстой девчонкой, силу которой уже испытал, и, отойдя на почтительное расстояние, начал дразнить ее «девчонкой – тухлой печенкой» и «толсторожей копоркою», а в ответ получил не менее обидное: «заморыш» и «мальчик с пальчик».
Потом, играя в «школы-мячики» с девочками, Тонька вырвала у одной ленточку из косички и убежала.
Девочка со слезами и с матерью пошла к тете Соне.
Но опять Гектор – и фиаско.
А когда пожаловались дворнику Емельяну и тот решительно двинулся было по направлению к лестнице, где находилась квартира капитана, – Толька из окна предупреждал:
– Эй, дворник! И на тебя спущу пса, вот святая икона!
И крестился так истово, что дворник помотал головою:
– Ну и разбойник!
И успокоил обиженных:
– Отдадуть ленточку вашу. Куды им!
Через несколько дней славновские мальчишки скопом напали на проходившего по двору Тольку. Мальчик защищался отчаянно. Встал к стене, чтобы не окружили, и бился долго.
– Отдай стошки! – кричали нападающие.
– Не отдам. Вот вам стошки!
Толька делал непристойный жест – хлопал рукою ниже живота.
И опять жестоко отбивался. Но, видя неустойку, закричал на весь двор:
– Тонька, выпусти Гектора!
Но сестра, побитая полчаса назад братом, спокойно отвечала из окна:
– Как бы не так! Мальчики, отдуйте его хорошенько! Ага! Ловко! Вы его по носу! У него нос слабый! Ага!..
– Тонька, сволочь! – свирепел, уже теряющий силы и терпение, мальчуган. – Тонька! Все равно же не убьют! Говорят: выпусти!.. Гек…
Но его сшибли с ног. Образовалась куча тел на камнях. Задыхающиеся крики:
– Отдай стошки!
И перехваченный голос:
– Вот вам… х..!
Из всех почти окон смотрели, но никто не заступался.
Тети Сони не было дома. А Тонька хохотала, пела:
– Попало, попало!.. Ловко попало! Мальчики, вы его по носу!
Но уже из носа Тольки и так текла кровь.
Кому-то из жильцов надоело наблюдать дикую сцену.
– Перестаньте, ребята! Я за дворником пошлю!
И дворник уже шел.
Побоище прекратилось.
Толька, окровавленный и прихрамывающий, сел на ступеньку подъезда. Сестра не пустит – до прихода тетки.
Сестра дразнилась из окна.
– Попало? Здорово?
Толька грозился:
– Ладно! Получишь!
Вечером из окон капитанской квартиры раздавались вопли Тоньки, лай Гектора и голос тети Сони:
– Разбойник, ты убьешь ее!.. Разбойник! О, боже мой!
Но через несколько минут брат с сестрой, оба красные и потные, лежали на окнах. Он на одном, она на другом. И передразнивались.
– Здорово я тебя, Тонька, а? Волоса-то целы? Много осталось?
– А у тебя ухо держится?
– Ухо-то на месте, а вот волос у тебя только на две драки осталось.
– А здорово я тебя укусила? Забыл?
– Ишь, хвастает! Кусаться-то всякий умеет! А вот на кулак ты не годишься!
– Дурак! Ведь я не мальчишка.
– А не мальчишка, так и помалкивай в тряпочку. Все равно же я тебе всегда накепаю.
– Накепаю! Посадский! Посадский! Вот-с!
Тонька высовывала язык. Соскакивала с окна.
Соскакивал и Толька.
Опять вопли, визг, лай басистый Гектора. И пронзительный голос тети Сони:
– О, боже мой! Дети!.. Разбойники!
Звон посуды.
На другой день Толька появился во дворе с завязанной головой.
На вопросы мальчишек отвечал спокойно:
– Сестренка тарелкою.
– Вот те и раз! – смеялись мальчишки.
– Ну зато и я выспался на ней здорово!
Толька действительно дрался с сестрою дико, бессердечно, как с мальчишкою, равным себе: бил кулаком и метил всегда или в ухо, или в нос, в глаз, а если надоедало канителиться – хватал за волосы, валил, прижимал коленом грудь. И торжествующе кричал:
– Смерти или живота!
И в фигуре его не по летам крупной и крепкой, в торжестве дикого крика, и в диких глазах, и в самом гладиаторском попирании жертвы чувствовалось нечто нерусское, древнее, варварское.
Недаром кличка Варвар укрепилась за ним быстро. Правда, называли его так только взрослые.
Но случалось, брат и сестра Одышевы вели себя мирно.
И все их тогда хвалили.
Мальчики играли с Толькою, заискивая перед ним, хвалили его за силу. Девочки наперебой болтали с Тонькою, обнимались с нею и чмокались, и от ее сильных объятий не плакали, а визжали радостно-испуганно.
Толька не дразнил татар и торговцев, ребятишек не бил, а играл с ними милостиво и даже угощал сахаром, запасы которого всегда были в его карманах. Рассказывал интересные истории, слышанные им от отца, капитана, везде побывавшего, объездившего весь свет раз десять. И не бил гимназиста Леньку Шикалова, когда тот прерывал его рассказы эпизодами из жюль-верновского «Вокруг света в восемьдесят дней».
Лишь когда Ленька особенно надоедал, Толька обрывал его спокойно:
– Твой Жюль Верн в восемьдесят дней свет объехал, а мой отец в сорок дней. А один раз даже в тридцать пять!
Рассказывал Толька неплохо. Загорался. В такие благодатные дни тетя Соня накупала любимцам своим сласти, одевала в новые костюмы.
Толька появлялся во дворе в новом матросском костюме, в панталонах подлиннее и просторнее вечных своих смешных коротких, тесных штанишек. Огромная шляпа заменялась фуражкою «Жерве».
Из-под козырька прихотливо выбивался белобрысый хохолок.
И дикие, когда озорничал, глаза в те тихие дни делались обыкновенными, светлыми, ребячьими.
Смелые, но не глупые.
Тонька, или Тоня, как ее в такие дни называли, в коричневом гимназическом платьице, веселая, но не озорная, играла с девочками в «школы-мячики», в «котлы».
Но потом вдруг, утром как-нибудь, раздавался лай Гектора, визг тети Сони:
– Толя! Ты с ума сошел! Толя!
А Толька сидел на окне, болтая не обутыми еще длинными ногами.
Смотрел с трехэтажной высоты вниз.
А сзади надорванный голос тетки:
– Сумасшедший! Ты убьешься!
– Давай полтинник, а то спрыгну! – оборачивался мальчуган.
– Толька! О, боже мой! Что я буду делать? Мучитель!
– Полтинничек пожалуйте! А? Нет? Ну, тогда прощайте!
Тетя Соня взвизгивала на весь двор:
– Помоги-и-и-те!
Из окон глядели любопытные. Некоторые срамили мальчика.
Но это не смущало озорника.
– Тетя, и не стыдно вам из-за несчастного полтинника такую историю поднимать? – нахально, но резонно спрашивал мальчуган.
В конце концов деньги он, конечно, получал.
Тонька шла за ним и просила себе долю.
Но Толька с изуверской невозмутимостью уписывал за обе щеки накупленные сласти, даже угощал мальчишек, но сестре не давал.
– Тянушечки хорошие! Ах! Объедение!
Глаза у него уже были дикие, озорные: верхние веки широко приподняты, нижние – подщурены.
– А вот – мармелад! Приятно!
Тонька, красная от обиды, косилась на брата:
– Ладно! Папа скоро приедет, я ему все, все расскажу!
– Я сам ему расскажу, дура! Всегда же рассказываю, сама знаешь! А вот ты послужи лучше. Поймай конфетку, мармеладинку! Я брошу, а ты лови, только ротом, а не руками. Ну, раз, два!
– Иди к черту! Что я, собака, что ли?
– Ну, как хочешь. А я сейчас мороженого куплю.
– Негодяй! Вор! Тетю обокрал!
– Она сама дала.
– Вот так сама, когда ты окном пугал!
– А вот ты попробуй так. Иди да напугай!
Тонька шла. Но не пугала, а выпрашивала со слезами и визгом.
Тетя Соня кричала:
– Вы меня в гроб вгоните!
Это была ее любимая фраза.
Но все-таки давала – не полтинник хотя, а четвертак.
Тоня бежала вниз радостная, но на лестнице ее ловил брат.
Раздавались дикие крики и потерянный плач.
Толька выбегал с лестницы с мармеладом во рту и с четвертаком в кулаке.
Сзади – плачущая сестра с криком:
– Держите вора!
Хлопали рамы. Испуганные головы высовывались. Кричала тетя Соня:
– Дети! Изверги! О, боже!.. Толя, я за дворником пойду!
Но мальчишка валил девочку с ног, пинал ногой:
– Сволочь! Лезет тоже!
И вихрем – в ворота.
Приходил поздно, к чаю.
Губы синие – от черники.
– Два фунта слопал! – хвастал перед мальчишками, – прямо горстями жрал, святая икона! Во!..
Показывал синие, как в чернилах, руки.
– Люблю чернику! – добавлял задумчиво. – Я в деревне одно лето из лесу не выходил. Всю чернику обобрал! У девок отнимал! У мальчишек!
Иногда Толька и Тонька озорничали совместно, избирая предметом для диких своих забав тетю Соню.
Наигравшись, уставши бегать и возиться, Толька распаренный, опахивающийся фуражкою, обращался к сестре:
– Тонька, знаешь, что я придумал?
– Что?
– Угадай?
– А я откуда знаю? Наверное, глупость какую-нибудь!
– Дура! Отличную штуку придумал!
Щелкал языком и глядел на сестру дико-веселыми, снизу сощуренными глазами.
– Ну чего, говори, а то я играть пойду! – нетерпеливо кусала губы Тонька.
– Пойдем тетю Соню в гроб загонять.
Тонька смеялась, также дико щуря глаза.
– Ка-ак? По-настоящему?
– Зачем? Понарочну!
– А как?
– Я буду по стеклу ножом царапать.
– Ну так что ж? А она что?
– Дура! Она же боится! Для нее это все равно что черный таракан. Сама же знаешь!
– А она возьмет и убежит!
– Зачем? Один – царапает, другой – держит и уши не дает затыкать. Что ты, порядка не знаешь, что ли?
– Тогда ты держи, а я буду царапать, – предлагала Тонька.
– Я лучше царапаю, – не соглашался Толька. – Я такую песенку заведу, что и ты не вытерпишь. Знаешь, так, с дрожанием: в-жж-и-и… Будто ножом по сердцу!
Тонька в восторге прыгала, хлопая в ладоши.
– А я ее как захвачу вместе с руками и со всем, а ты над ухом над самым, верно? Толька?
– Ну да, как следует!.. Пойдем!
Бежали, перегоняя друг друга, домой.
Дома действовали хитро и коварно.
Толька закладывал осколок стекла в книгу и входил в комнату тетки с видом ягненка:
– Тетя Соня, можно у вас почитать в комнатке?
Та, не привыкшая к подобным нежностям со стороны озорника, «варвара», радостно разрешала:
– Миленький, конечно! Сколько угодно!
Озорник скромно садился в угол и осторожно, боясь выронить стекло, раскрывал книгу.
Тетка тоже бралась за Поль-де-Кока или Золя.
Входила Тонька, едва сдерживая душащий ее смех.
– И ты бы почитала что-нибудь, Тонечка, – ласково предлагала тетя Соня. – Видишь, какой Толя умник.
Тонька хмурилась, чтобы не рассмеяться, и говорила уныло:
– У меня голова болит, я лягу.
Ложилась на диван.
Тетка пугалась, шла к ней. Садилась рядом. Щупала горячую от недавней возни голову племянницы:
– Как огонь! Господи! Надо хины!
Она делала попытку встать. Толька кашлял – сигнал. «Больная» вскакивала с дивана. Испуганная тетка успевала только крикнуть:
– Что такое?
Книга падала из рук Тольки. Ягненок превращался в волка:
– Крепче держи, Тонька!
Громко вскрикивал.
Крик тетки терялся в этом крике и звонком хохоте Тоньки.
Маленькая, худенькая тетя Соня через секунду тщетно рвалась из крепкого кольца рук озорницы.
– Сумасшедшие, что вы делаете?
А над ухом взвизгивало под ножом стекло. Неприятный звук заставлял нервную тетю Соню дрожать, взвизгивать, жмуриться. Напрягала всю слабую силенку, стараясь освободиться из рук мучительницы, но сильная девчонка совсем втискивала ее в угол дивана, хохоча прямо в лицо.
А Толька, вспотевший от старания, с высунутым из уголка рта языком, дикоглазый, виртуозно, по-особенному, с дрожанием, чиркал лезвием ножа по стеклу.
И невыносимый, как ножом по сердцу, звук лез и лез в незащищенные уши тети Сони.
Из соседней комнаты раздавался лай Гектора, предусмотрительно запертого Толькою.
– Ты не ори, не хохочи! – кричал на сестру Толька. – Музыки не слышно! После посмеешься!
А тетка молила:
– Дети! Перестаньте! О-о!.. Ай! Толя, я с ума сойду! Ой!.. Над… самым ухом! Тоня! Гадкая девчонка! Ты мне ребра сломаешь! Ой!.. Боже мой! Мучители! Что они со мной делают?
Трясла головой, как от пчелы:
– И-и-и-и!..
Тонко взвизгивала. Топотала тонкими ножками в узконосых башмачках. Стуком каблучков старалась заглушить пугающий, раздражающий визг.
Но напрасно.
Слабые ножки зажимались сильными ногами озорницы.
– Тонька! Медведь! Ты мне ноги отдавила! Ой, мозоль!..
– Любимая! – гоготал Толька.
И опять все настойчивее, беспощаднее взвизгивало стекло.
Несчастная тетка, вся в слезах, кричала:
– Мучители! Изверги! Сумасшедшие! Вы меня в гроб вгоните!
Последняя фраза тонула в диком восторженном хохоте озорников.
Толька, обессиленный от смеха, садился на пол, но не прерывал «работы».
И язык высовывался от напряженного старания. Наливалось кровью лицо и даже руки.
А Тонька совсем смяла в объятиях уже переставшую сопротивляться и кричать жертву.
С тетей Соней начиналась истерика.
Толька выскакивал из комнаты.
Тонька осторожно опускала тетку на диван и, закрыв ладонью рот, чтобы не прыснуть, выбегала следом за братом.
Лежали в креслах в соседней комнате.
– Уф, черт возьми! Упарился! – отирался платком Толька. – Здорово я наигрывал, слышала? «Дунайские волны», слышала, а?
– Какие там «Дунайские»! – смеялась красная Тонька.
– Вот святая икона, первый куплет выходил…
– Жарко, – утомленно закрывала глаза сестра. За стеной – тихий плач вперемежку с рыданиями.
– Долго мы мучили, Толька, надо было поменьше.
– А что?
– Что? Не слышишь – что?
– Чепуха! – спокойно закрывал глаза Толька. – Тоже «Дунайские волны»! Первый раз, что ли, вгоняем в гроб?
Он вдруг громко загоготал.
– Тьфу! Чего ты? – вздрагивала сестра.
– Все-таки сказала: «Вы меня в гроб вгоните!..»
– Дурак! Еще смеется!
– Заплачь, умница!
Молчание.
Воет Гектор. Опять – рыдания за стеной.
– Я боюсь! – говорит тихо Тонька.
– Кого? Медведя? – не открывает глаз брат.
– Дурак! Сам ты медведь!
– Это ты ей ноги отдавила – ты медведь! Большая медведица, – острит Толька.
Тонька смеется. Потом говорит тихо:
– Какая она слабенькая! Худышка!
– Не всем же быть таким толстым, как ты. Колбасница!
– Уж ты молчал бы! Тоненький, тоже! Помнишь, вчера рубашка не лезла?
– Давнишняя. Потому и не лезла.
– Вот так давнишняя! К пасхе сшили, а теперь троица.
– Дура! У меня – сила, мускула растут. А у тебя бабское мясо: дурное!
– Мускула! Подумаешь, какой борец Пытлязинский. Харя – красное солнышко!
– А у тебя полночная луна! Оба мы с тобой чахоточные, – смеялся Толька.
Тонька тоже смеялась.
Потом говорила серьезно:
– А ведь толстые здоровее худых? Верно?
– Понятно! – соглашался Толька. – На одних костях не разгуляешься. В мясе – сила!
– Это верно! Я вот толстая, так я Петьку наборщицкого всегда валю. А видел, как я тетю Соню держала? Я еще ее тихонько.
– Ишь, хвастает! Нашла кого тоже! Петька известный заморыш, а тетя Соня старая дева засушенная. Сила у тебя тоже! Была у тебя сила, когда тебя мать знаешь куда носила?
– Дурак! Всегда гадости говорит.
– А чего ты хвастаешься? Выходи на левую! Что? Слабо вашей фамилии?
– Вашей фамилии? – передразнивала сестра. – А у тебя другая фамилия, что ли?
– Конечно, другая! Ведь мы не родные.
– Сказал! А какие же? Двоюродные?
У Тольки рождалась тема для нового озорства. Он делал угрюмое и таинственное лицо и говорил, точно нехотя:
– Ладно! После…
– Чего после? Ты на что намекаешь? – пытливо смотрела Тонька в насупленное лицо брата. – Ты говори!
Толька молчал угрюмо и загадочно. Напряженно посапывал. Вздыхал.
Тонька садилась рядом:
– Ну Толечка, Анатолий, скажи! Я вижу, что-то есть такое. Ты стал такой скучный, некрасивый…
– Отстань! – устало отмахивался брат. – Не могу я говорить… Отец узнает – убьет!
– Как убьет? За что?
Всякое терпение оставляло девочку.
Молила, встав на колени:
– Ну милый! Ну я прошу! Видишь, я на коленях! Вот, ручку поцелую! Ну скажи! Еще вот поцелую ручку!
– Проболтаешься, – отвечал, не отдергивая руки Толька. – Хоть ноги целуй – не скажу! Этого никто-никто не должен знать!
– Ей-богу, не проболтаюсь! Истинный бог! Хочешь, икону поцелую?
Толька думал угрюмо и мучительно.
– Поклянись гробом м о е й матери! – говорил торжественно, коварно подчеркивая слово м о е й.
Сестра что-то соображала.
– Постой! Ты сказал… м о е й. Значит, т в о е й? А… моя?..
У нее делалось испуганное лицо.
– Толька, что ты сказал?
Толька же отходил решительно к окну.
– Толька! – мучительно звенело сзади. – Толя!
– Тоня, милая! – оборачивался мальчуган. – Ты же сама знаешь! И себя, и меня мучаешь…
– Что я знаю? Я не знаю, я боюсь, – задыхалась девочка. – Скажи яснее.
– Не могу я… Ты… ты… Нет, не могу!
Толька вспоминал, как открывают роковые тайны в театрах. Входил в роль.
– Милая, сеет… милая, дорогая девочка! (Подчеркивал: девочка) Я… Нет, я не должен… этого… говорить!
– А, я знаю, – соображала вдруг Тонька. – Это – ужасно! Я… я… не сестра?.. Да?..
Толька вздрагивал, как бы от страха, протягивал руку (вспомнил – в балаганах так видел) и усиленно задыхался:
– О… дорогая!.. О… не бойся!.. Так богу угодно… Что я?.. О, ужас!..
Отбегал, как настоящий балаганный трагик, на цыпочках, картинно протягивал руку, как будто защищаясь от страшного видения, и зловещим шепотом произносил:
– Ты – подкинутый младенец!.. Крещена… имя – Параскева!
Последнее приводил из вчерашней газеты. Сестра дико взвизгивала, тяжело плюхалась в кресло.
Толька, увлеченный ролью, схватывался в неподдельном отчаянии за виски и, закидывая голову, шатался, как раненый:
– О, что я наделал! Безумец!
Тонька визжала ушибленным поросенком.
В дверь барабанила тетя Соня.
– Мучители!.. Опять? Вам мало?.. Что вы делаете там?.. Что ты с ней сделал, несчастный ребенок?
А несчастный ребенок, продолжая интересную роль, шипел на ухо сестре:
– Ты слышишь? Ни слова о страшной тайне!.. Иначе – погибнем! О, ты знаешь меня?
Скрежетал зубами:
– О, я тогда убью и тебя, и себя!..
В двери – беспрерывный стук.
Заливался Гектор.
Взвизгивала кликушей тетя Соня:
– Отворите же, изверги! Я умру! Вы меня в гроб вгоните!..
За несколько дней до приезда отца, Толька подводил итог всем своим озорствам.
Выписывал на бумаге. Некоторые с пометкою числа и месяца.
– Что я скажу вашему отцу, когда он приедет? – заламывала руки тетя Соня.
– Я все скажу сам. Вот!
Толька показывал листок.
Тетя Соня читала и пугалась.
– Боже! Ведь он убьет тебя!.. Несчастный!
– Не беспокойтесь, шкура у меня крепкая! Вот эта барышня завертит хвостом: «Я – ничего, это все Толька». Знаю я ваше дело!







