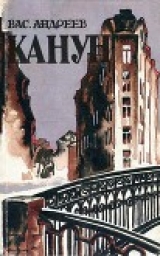
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
ОШИБКА
1
Только накануне страшного того дня горячо поссорился Николай Акимович с женою.
Никогда за шесть лет совместной жизни не было такой дикой ссоры.
С кулаками – к испуганной женщине. Зубы стучали, дрожало что-то за ушами.
А жена – в слезах:
– Сумасшедший, я боюсь тебя! Жить с тобой не буду!
Хватала, отбрасывала и снова схватывала одежду, с треском зашнуровывала ботинки.
Потом, заплаканная, наскоро напудренная, хлопая дверьми, задевая за мебель, – ушла.
К сестре. Жаловаться. Поплакать. Успокоиться.
И вот, на другой день, Николай Акимович, придя домой, нашел жену в спальне, на полу, зарезанной.
Когда давал показания в милиции о случившемся – понял по вопросам дежурного помощника начальника раймилиции, что близко-близко что-то опасное, точно пропасть, обрыв.
Потом шли: он, помощник, милиционеры.
Молча. Поспешно. Всю занимая панель.
В квартире толкались, совались в углы. Шкафы открывали, комоды.
Цедил, про себя точно, помощник:
– Браслет, говорите? И кольцо?.. И только?.. Немного… Не успели, вероятно… Или…
Быстрый, щупающий взгляд.
И от этого взгляда – опять: пропасть – вот!
После второго допроса следователь хмуро, не глядя:
– Я должен заключить вас под стражу.
– Почему? – тихо, затвердевшими губами.
– Показания сестры вашей жены не в вашу пользу. Накануне убийства вы ведь грозились убить жену. Поссорились когда, помните?
– Поссорился – да… Но убить?.. Что вы!
– Во всяком случае, впредь до выяснения.
Вошедшему охраннику коротко:
– Конвоира.
В шумной камере угрозыска почувствовал себя спокойнее – будто ничего не произошло.
Длинноносый какой-то, с живыми карими глазами, подошел:
– Вы, гражданин, по какому делу?
– Видите ли… У меня… жену убили… Налетчики, конечно…
– А вас за что же?
Веселые блеснули глаза.
– Черт их знает!
Возмутиться хотел, но не вышло – в пустоту как-то слова.
А длинноносый вздохнул разочарованно. Слышал Николай Акимович:
– Мокрое дело. Бабу пришил.
– Здорово!
Смех. Выругался кто-то сочно. Голос из угла:
– Вы, гражданин, из ревности?
– Ничего подобного… Понимаете… – направился к говорившему.
– Не из ревности, а из нагана, – кто-то в другом углу.
Камера задрожала от смеха.
Стало неловко и досадно. Но все-таки, когда затих смех, сказал, ни к кому не обращаясь:
– Это ошибка.
Приподнялся на нарах черноволосый, цыгански смуглый. Прищурился:
– Что же вы нам заявляете? Заявите следователю.
– Да я не вам…
Умолк. Противно говорить. Лег на нары.
В ушах – ульем – шум.
2
Освоился. Пригляделся к новым товарищам. Знал уже некоторых по фамилиям, кличкам. Не нравились все. Наглые, грубые, вечно ругающиеся, даже дерущиеся.
Особенно неприятное впечатление производили двое: Шохирев, по кличке Сепаратор, слывущий в камере за дурачка, маленький, со сморщенным птичьим лицом, по которому не угадать возраста, и Евдошка-Битюг, самый молодой в камере, но самый рослый и сильный, по профессии – ломовой извозчик.
Евдошка почти все время занят травлей Шохирева, в чем ему деятельно помогает камера.
Обыкновенно утром, после чая, кто-нибудь начинает:
– Битюг, какой сегодня порядок дня?
Парень чешет за ухом и отвечает деланно-серьезно:
– Сегодня, товарищи, первый вопрос – банки поставить Сепаратору, потом перевозка мебели – это уж по моей специальности; потом – определенно, пение.
Шохирев быстро садится на нарах и взволнованно обращается ко всем:
– Товарищи, бросьте, ей-богу! Я совсем больной!
– Вот больному-то и нужно банки! – хохочут в ответ.
А сосед Николая Акимовича, рыжеватый веснушчатый парень, со странной не то фамилией, не то кличкою – Микизель, – радостно возбуждается:
– Сейчас его Битюг упарит! Здоровенный гужбан, черт!
Все с жестоким интересом разглядывают испуганную фигурку Сепаратора, забившегося в угол, хнычущего, как ребенок.
В диком восхищении хохочут, когда Евдошка, не поднимаясь с нар, ловит Сепаратора за ноги, дергает, зажимает голову коленами, не торопясь, задирает на животе рубашку, захватывает, оттягивает кожу и ударяет ребром ладони, большой и широкой, как лопата.
И, покрывая визгливый вой жертвы, кричит:
– Кто следующий? Подходи!
Торопясь, со смехом, подходят. Оттягивают. Бьют.
Дальше Битюг берет Сепаратора за ноги, держа их на манер оглобель, и, не торопясь, вразвалку ходит по камере, грузно переступая босыми мясистыми ступнями, а Сепаратор, держась только на руках, после двух-трех концов ослабевает, опускается на пол, и Битюг волочит его по полу.
Это и есть перевозка мебели.
Камера в восторге, особенно рыжий Микизель. Он валяется от хохота.
– Битюг! Рысью вали! Битюг!
Захлебываясь, кричит.
А Битюг поворачивает широкое темное лицо и говорит спокойно:
– Рысью нельзя! Не выдержит!
– Зачем он его так мучает? – спросил Николай Акимович Микизеля.
– А так! Здоровый. Да и скучно. Молодой – играть хочется.
– Однако, игра. Ведь убить так можно.
– Это верно, – согласился Микизель, – такой черт давнет – мокро будет от Сепаратора.
А задыхающийся, замученный Сепаратор, сидя на полу, пел визгливым голосом.
Евдошка, широко расставив ноги, стоял над ним и от времени до времени заказывал:
– Теперь «Яблочко», – говорил серьезно, не торопясь, не обращая ни малейшего внимания на гогочущих во всех углах товарищей.
И в фигуре его, большой и громоздкой, в наклоне толстой шеи, переходящей крутым скатом в могучие лопатки, в широком мясистом заде и в твердом упоре крутоступных ног чувствовалось что-то тяжело-сильное, неумолимо-животное, битюжье.
И когда смотрел Николай Акимович на обоих: на Сепаратора, мужчину, похожего на заморенного мальчугана, и юношу – Евдошку, напоминающего циркового силача, казалось ему, что ошибка какая-то произошла.
Как-то вышло по ошибке непонятной, что один вот человек, до зрелых доживя лет, обделен в силе тела и ума, а другой – юноша еще – ростом вытянулся и еще расти будет, костью широко раздался и мяса и силы нагулял и еще нагуляет.
И было тяжело почему-то Николаю Акимовичу, и казалось, что его участь чем-то походила на участь слабосильного, слабоумного Шохирева.
3
С каждым днем издевательства Битюга над Сепаратором становились возмутительнее.
Дошло до того, что Сепаратор при одном приближении мучителя забивался в угол, а Евдошка останавливался против него и протягивал руку, шевеля пальцами.
Сепаратор испуганно вскрикивал:
– Битюг, не тронь! Оставь!
Кругом хохотали. Микизель радостно удивлялся:
– Черт, Битюг, вот страху нагнал! Совсем дураком сделал!
Иногда Битюг забирался на нары и ложился рядом с Сепаратором. Приказывал:
– Рассказывай сказки.
– Я не знаю, – лепетал Сепаратор.
– Как не знаешь? – деланно сердился Битюг. – Чего ж ты зря на свете живешь? Рассказывай, а то…
Он приподнимался на локте, глядел в упор на Сепаратора.
– Ну? Слышишь?
Отовсюду кричали:
– Вали, Битюг, пускай рассказывает!
– Правильно! Чего он вала вертит?
– Товарищи! Я не умею! – жалобно молил Сепаратор. – Ей-ей, ни одной не знаю!
Битюг подвигался к нему.
– Ну не надо, не бей, я… сейчас!.. – пугался Шохирев.
Начинал. Несвязное, дикое, созданное идиотской фантазией, не сказка, не быль – бред затравленного, от которого требуют невозможного.
Все хохочут. Евдошка говорит сердито:
– Ты чего лепишь? Разве это сказка? Смотри, худо будет.
– Братцы! – кричит Сепаратор. – Я же не умею!
– А вот сейчас заумеешь!
Битюг хватал его за грудь, встряхивал.
– Стой! Да! В некотором царстве, в государстве!.. – поспешно выкрикивал Сепаратор.
И опять – нелепый бред.
– Записки сумасшедшего! – называет так Сепараторовы сказки налетчик Рулевой, самый образованный в камере.
В конце концов Евдошка мнет или ломает Сепаратора – травит до синяков, до потери сил.
Мокрый, как из бани, порывисто дыша, сидит измученный идиот в уголку.
На время забыт. Отдыхает.
Только Николай Акимович не может забыть Сепаратора. Все время тот ему попадается на глаза.
И еще – Битюг.
Эти две фигуры заполнили все мысли его. Странно, дело свое даже отошло на задний план.
Непреодолимое желание не дает покоя. Желание это – заступиться за Сепаратора, даже больше – самого Евдошку избить, подвергнуть таким же мучениям: банки поставить, «Яблочко» заставить петь.
Даже сердце начинает усиленно биться.
Лежит, закинув руки за голову, и смотрит на Битюга, развалисто бродящего взад и вперед по камере.
Вот садится Битюг к Микизелю и о чем-то говорит.
Николаю Акимовичу кажется, что он говорит о нем. «А вдруг он со мной начнет играть от «делать нечего», как говорит Микизель?» – приходит в голову Николаю Акимовичу.
Пугается этой мысли.
И тотчас же со злобою думает: «Тогда я его убью».
Эти мысли окончательно захватывают Николая Акимовича.
«Убить придется, так не справиться».
Через минуту мысленно смеется над собою: «Чего я в самом деле? Мне какое дело и до него, и до того идиота?»
Но опять лезут непрошеные мысли.
«Боишься этого Битюга».
Битюг начинает насвистывать что-то.
Свист беспокоит Николая Акимовича. Кажется отчего-то, что Битюг что-то задумал против него.
Ночь Николай Акимович плохо спал.
Наутро Микизеля вызвали в суд.
Не вернулся. Рядом с Николаем Акимовичем, на опустевшем месте Микизеля, поместился Битюг.
4
Теперь целыми днями Битюг на глазах Николая Акимовича.
По ночам чувствует его горячее сильное дыхание. Спит Евдошка беспокойно, то руку, то ногу забрасывает на Николая Акимовича.
Николай Акимович плохо спит ночи.
Однажды Битюг, гоняясь за Сепаратором, поймал и приволок того на свое место.
Сепаратор закричал Николаю Акимовичу:
– Чего лезет? Товарищ! Заступись!
Николай Акимович сказал Евдошке:
– Перестаньте его мучить. Как вам не стыдно?
Евдошка отпустил Сепаратора, повернулся:
– А тебе чего надо?
Николай Акимович смотрел на него молча.
– Тебе чего?
Большое темное лицо, приплюснутый нос, животно-коричневые глаза.
Николай Акимович чувствовал – ни слова не в силах сказать.
И руки дрожали. И билось сердце.
– Брось, Битюг! – крикнул кто-то. – Он тебя пришьет, как бабу свою.
Николай Акимович что-то хотел сказать, но Битюг размахнулся.
Тупая, горячая боль в скуле. Завертелось в глазах.
А в ушах – хохот, крики.
Николай Акимович поднялся с пола. Увидел опять близко знакомое широкое лицо.
Сердце тоскливо сжалось.
Почувствовал – крепко сдавило что-то шею.
Крик опять:
– Битюг, не убей, смотри!
Николай Акимович рванулся, но шея была как в тисках.
Давило на шею. Ноги подогнулись, стукнулся коленами об пол.
Видел у самого лица широкие мясистые ступни.
Рванулся, но шея – как в железе.
– Брось, Битюг! – слышал, крикнул кто-то.
Давление на шею прекратилось.
Ни на кого не глядя, дошел Николай Акимович до нар, лег.
Долго лежал, не открывая глаз.
В тот же день, вызванный следователем, Николай Акимович вспомнил о случившемся. Почувствовал, не может вернуться назад в угрозыск.
«Если не свобода, так пусть тюрьма или расстрел, – только не туда», – назойливо в голове.
А следователь спрашивал:
– Так ничего нового и не скажете?
Николай Акимович вздрогнул.
И вдруг, сильно заволновавшись, сказал:
– Я убил жену.
Острые, на бледном лице следователя глаза минуту – не мигая.
Потом тихо:
– Как?
– Как? – насмешливо переспросил Николай Акимович. – В протоколе же видно – как. Ножом финским. У красноармейца на рынке купил нож.
И стал рассказывать подробно, как давно хотел убить жену. И когда накануне трагедии ругался с нею, то и тогда хотел убить.
Говорил и удивлялся, как складно выходит, но боялся – вдруг следователь не поверит.
Но тот писал. Спрашивал и писал.
5
Это было неожиданно и страшно. Вечером того же дня, как признался Николай Акимович в преступлении, которого не совершал, в камеру угрозыска, где еще пока находился Николай Акимович, пришел новый человек, какой-то Цыбулин, налетчик или вор – неизвестно.
Николай Акимович не обратил на него внимания.
Но ночью, когда новый арестант играл в карты, Николай Акимович, плохо спавший, отправился смотреть игру.
Новичок, по-видимому, проигрался. Играли уже долго.
Он горячился. Ругался матерно.
Игра была непонятная. И называлась непонятно: «бура».
Николаю Акимовичу стало скучно смотреть. Повернулся, чтобы идти спать, но Цыбулин окликнул его тихо:
– Товарищ! Посмотрите вещичку одну.
– Что такое? – обернулся к нему Николай Акимович.
Цыбулин протягивал ему что-то.
– Вот этот чума не верит, что настоящий брильянт! – кивнул он на своего партнера. – Вы, наверно, товарищ, понимаете! Скажите ему.
Николай Акимович смотрел на кольцо в руке Цыбулина и чувствовал, как холодно делается спине и дрожат ноги.
Цыбулинское кольцо было кольцом убитой жены Николая Акимовича.
– Это настоящие брильянты! – сказал слегка вздрогнувшим голосом Николай Акимович.
– Да вы возьмите в руки! – сказал Цыбулин. – Может, он не верит! Возьмите, посмотрите, как следует.
– Настоящие. Я знаю! – глухо сказал Николай Акимович.
Он отошел. Долго ходил по камере. В голове все мешалось: признание следователю, кольцо жены, Цыбулин.
Но как он может его уличить?
Кто может подтвердить? Женина сестра? Она кольца не видала – он только за неделю до смерти жены подарил ей кольцо.
«Теперь все поздно», – думал Николай Акимович.
И вдруг вспомнил о Битюге.
«Что-то надо, – так и подумалось, – что-то надо».
Битюг громко храпел на нарах.
Николай Акимович нагнулся под нары – давно, еще с вечера, видел там большой медный чайник.
Взял его.
– Куда понес? – крикнул кто-то сзади.
Николай Акимович не обернулся. Влез на нары с чайником в руках.
Видел, несмотря на тусклый свет угольной лампочки, лицо Евдошки.
Темное, широкое, с раздувающимися от дыхания ноздрями.
Поднялся на нарах, не спуская глаз с этого лица.
Сзади опять негромко крикнули:
– Куда чайник упер? Даешь сюда!
Николай Акимович поднял над головой тяжелый, почти полный воды, огромный чайник и с силою опустил его на голову Евдошки.
– А-а-а! – глухо, страшно сзади ли крикнули или Евдошка – не мог понять Николай Акимович.
Только видел, как черным чем-то залилось Евдошкино лицо. И еще остро помнил: «Надо углом – ребром дна».
Сзади крик:
– Братцы, убьет!
Быстро взмахнул руками.
Опять мелькнуло: «Ребром».
Кто-то хватал сзади, за плечи, но руки были свободны.
Быстро и сильно взмахивал чайником.
Лилось теплое за рукава.
Потом больно ударило сзади, по затылку. Дернули за руки.
Загремело, покатилось что-то.
Не рвался из схвативших многих рук Николай Акимович.
Слышал кругом шум и крики.
Не мог ничего разобрать.
Потом затихло, когда внезапно расслышал один голос:
– Чайником, значит… Вот смотрите – череп своротил… Какой тут доктор…
‹1925›
ПРО МИШУ РАССКАЗ
Куртка кожаная. Клеш – ступней не видать.
Фуражка кожаная тоже, с надломом над козырьком.
На висках – темно-русые прихотливые колечки.
Зорко смотрят серые, беззастенчивые глаза.
Звать – Миша. Года́ – семнадцать.
С малолетства – сирота. Родственников – никого.
У доброго человека жил. У сапожника Кузьмича.
Но надоело. Ушел.
Хорош был с ним Кузьмич. Не обижал. Работать не заставлял много.
Вроде отца Кузьмич ему.
А вот надоело же. Ушел.
Тайком. Без копейки. И в непогодь. Дождь. Ливень прямо.
На улице и жить стал.
С мальчишками сошелся бездомовыми. Вместе – уличным промыслом: бутылки, тряпье, хлам разный собирали, дрова «пикалили», воровством не гнушались подчас. Всего бывало.
Так незаметно до двенадцати лет, шутя, играя, на улице прожил.
Шутка ли? Четыре года на улице, шутя.
Будто не года, а часы: четыре.
Революция…
Ах, веселое для Миши настало времечко!
Фараоны-то с чердаков:
– Та-та-та-та-та-та-та!
А внизу волнами, морем в непогоду, жутко, радостно так:
– У-у-у! Ва-ва-ва! Ого-го-го-о-о!!
Веселое для Миши времечко!
Сроднился словно, уравнялся со всеми. И все точно с ним уравнялись. Поняли как бы, что не в домах-квартирах жизнь настоящая, а на площадях, на проспектах этих, переулках, где с чердаков – пули фараонские.
Веселые Мишины, великие дни!
Тюрьмы громили. Освобождали…
Плакали кандальники, вечники, видел это Миша.
И Миша тюрьмы громил, сыскное. Суд жег окружный.
Двенадцати лет был.
Да, да, да, да!..
Да и он ли один? Меньше его еще. Плашкеты прямо. Порты валятся, под носом мокро и:
– Отречемся от старого ми-и-ира!
Керенского свергли.
Зарвался, заимператорился.
Не по высоте – голова.
При Керенском тоже интересного много было.
Хвосты лавочные. Самосуды. Воров топили в Фонтанке, убивали на раз.
Черный, после, автомобиль.
Летит, стерва, без огней летит.
Охотились милиционеры на него.
– Стой!
И из винтовок.
Поймали, говорят, автомобиль-то этот.
Грозный восемнадцатый год. Великий.
Писатели о нем писали, поэты. И хорошо, и плохо.
Миша рассказывает о нем хорошо. И как господа «с голода дохли», и про налеты, расстрелы.
И про себя, как мешочничал, на крышах поездов – на Званку, в Оршу, в Торошино ездил.
Крепко рассказывает. Например, балда один встал на крыше. А поезд полным ходом. А тут мост железнодорожный. Трах – черепушкою об мост. Ваших – нет.
Ездил Миша много.
Сначала не мешочничества ради, а с машинистом познакомился. И поехал.
Все равно же, где быть.
В Питере, в другом ли каком месте.
В Америку – и то поехал бы, так, без всего, что на себе. Как тогда от Кузьмича восьмилетним – в дождь, в ливень.
Так бы и в Америку.
Белые как на Питер шли – добровольцем пошел в Красную Армию.
Много Мише работы с революцией.
Все нужно узнать: и в газетах что, и на улицах. И на фронт вот пошел, чтобы в курсе быть дела.
Сенька, его товарищ:
– Страшно, – говорит, – убьют еще…
А Миша:
– Ну и пусть.
И еще:
– В прошлом году шкет один на восьмерку залез, на колбасу. Сорвался, и зарезало прицепным. Вот тебе и без фронта без всякого, а без головы.
Сенька поскреб за ухом, помянул «мать» – и на фронт.
В живот в первом, под Гатчиной, бою осколок угадал.
Эвакуировался и умер, а Миша невредимым до реки Наровы дошел. Всю как есть кампанию.
– Черт их знает! Снаряды у белых не рвутся, – разочарованно говорил.
Хотелось быть раненым. Надо же все испытать.
У другого вон ран – пять. Ноги, живот шиты и перешиты, а его хоть бы царапнуло.
После, под Кронштадтом, – опять добровольно.
И опять уцелел.
Рядом убило красноармейца, а его только оглушил снаряд.
Суток двое в ушах перезвон, как у попов на пасхе.
И в голове потешно так: пустая будто голова.
Миша любил…
Из-за любви он и спекулировать стал. Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.
Снабжать нужно было девочку, Лидочку.
Не просила она.
И не из жиганства, не из хвастовства снабжал.
– Смотри, мол, какой я буржуй-спекулянт, ухарь-купец.
Другая была у Миши статья.
Видел: нуждается, голодает девочка, воблу, как севрюгу какую, уписывает; тянут с матерью унылый карточный хлеб – от выдачи до выдачи.
Кровь запеклась в Мишином сердце…
И в поездах, при обмене товаров, торговался-жилил, как последний маклак; шапку, как говорится, оземь бросал, что цыган на ярмарке.
Удивлял, сбивал с панталыку избалованных мешочниками крестьян.
– Ну, брат, видно, что спекулянт ты естественный! – крутили головами мужики.
– Этот, брат, далеко пойдет. Советский купец!
Гоготали. Но охотнее, чем кому другому, обменивали Мише.
Крестьянин деловитость любит.
Но не стало Лидочки.
Не умерла…
Просто – уехала, переехала – не знал Миша.
Из Красной Армии пришел – не было ее уже, и след ее всякий пропал.
Хочет Миша любви, тоскует по ней и без нее, слаб, неуверен без любви.
Смелый всегда, сероглазый взор – беспокоен, растерян.
Ищет этот взор. Впивается и откатывается – не находит.
И потому, возможно, не работает Миша нигде, а почти позорной профессией занят – торговлей уличной.
Потому что здесь, на улице, возможно, найдет потерянную, ту, любил которую, когда пятнадцать было.
Здесь же на углу – товарищи-компаньоны.
Так же, как Миша, – когда чем: папиросами, цветами – «нарцызами», «настоящим французским шоколадом».
У некоторых более солидная торговля: бумажный ранет, кандиль; «самые выдающие груши Вера и Александра».
И все – юнцы. И есть отроки даже.
Капли, отбрызнувшие от океанской волны, сохнущие на холоде камня, но еще горящие алмазами торжества.
Смелый, прямой когда-то, сероглазый взор – беспокоен, ищущ.
Пачками разных табактрестов, плитками «настоящего французского» нащупать точно хочет весенний свой, потерянный навсегда, может, путь.
– Миша? Вот встреча…
И было тогда Мише – семнадцать.
Не из жиганства, не из-за фасона: «Смотри, мол, вот как у нас. «Разграблю хоть сто городов», как в песне «Любовь разбойника» поется».
И не из преданной жалости, как раньше, когда четырнадцать было, а просто: «Что же я с тобой голодать буду? Нарцызами будешь кормить?»
Насмешливо: «ыз».
И еще: посмотрела, губку выпятив, на босые его ноги:
– Сапоги-то есть? Или… так?…
Сапог действительно не было.
Сандалии прошлогодние, не лезшие на разросшиеся за год ноги.
Много раз со стыдом рассматривал крупные свои, крутые в подъемах, загорелые ступни.
– Будто хулиган с Обводки, босяк.
На сапоги сколотился, да что сапоги?
Ведь она с крупье живет!
Однажды в особенно мучительную минуту, когда любви захотелось, как воздуха, подумалось: «А если… в налет?»
Не из жиганства, не из преданной жалости и не из конкуренции с крупье, с денежным любовником прежней своей возлюбленной, а от любви, которой хочется, как воздуха.
Ведь из-за любви в разбой пойдешь, не только что.
Выработал план. Дело на примете было: спекулянтша Соловейчикова.
В кафе с налетчиками-спецами познакомился.
Впрочем, и раньше знал. Папиросы у него постоянно покупали.
Стаська Валевский и Котик-Киля.
Через несколько дней, как задушена и ограблена была Соловейчикова (на двести червонцев дело одними наличными, не считая золотых вещей), Миша встретил Лидочку с мужем в ресторане.
Не стесняясь мужа, сам подошел.
И чего стесняться? Разве не он ее от голодной смерти когда-то спасал?
Да и вид у него теперь был приличный: не клеш, не кожанка, а костюмчик что надо, кепка английская и ботиночки новенькие – не хуже крупье Лидочкиного приодет.
Лидочка улыбнулась:
– Каким ты франтом стал!
Мужу сказала:
– Это мой знакомый, Миша Архипов!
Крупье вежливо раскланялся.
А Миша сел за Лидочкин столик и молчал. И стало грустно и неловко.
А в зале – шумно, пьяно. Плачут скрипки. Их сменяет певец. А потом веселый кто-то и разухабистый, с напудренным, как у проститутки, лицом, сипловато поет:
Червон-чики-чики,
Голуб-чики-чики.
Ему хлопают, гогоча, пьяные.
И сами у столов подпевают:
Червон-чики-чики…
И крупье хлопает ладонями, широкими и белыми, в перстнях на трех пальцах.
И лицо у крупье, как и руки, белое и широкое. И улыбается он только губами.
Лидочка пьяна.
Беспричинно беспрерывно смеется.
Лукаво смотрит на Мишу. Спрашивает:
– С чего ты разбогател?
И опять долго смеется и лукаво смотрит.
А Миша тихо, чтобы не слышал крупье, говорит:
– Налет сделал.
Лидочка не верит, смеется – громко, вздрагивают серьги в маленьких розовых ушах.
– Соловейчикову, что ли, убил?
Миша вздрагивает от неожиданного вопроса. Косится на крупье.
Но тот не слышит. Он пьян. Встает, идет к эстраде и заказывает что-то таперу.
Пользуясь его отсутствием, Миша наклоняется к уху Лидочки и говорит торопливым шепотом:
– Соловейчикову – да!.. Из-за тебя, Лидка! Будешь жить со мной, Лидка?..
У нее скучное, пьяно-усталое лицо. Даже зевнула. Посмотрела на него, как когда-то при встрече с ним на улице, «нарцызами» когда он торговал.
Миша чувствовал, как загорелись у него щеки и уши.
А Лидочка отвела глаза и лениво сказала:
– Глупости ты говоришь, Миша.
Подошел крупье. Уселся, не глядя на Мишу.
Мише стало почему-то неловко.
Отошел к сидящим в углу зала Стаське и Котику.
– Это что за баба? – спросил Стаська.
Миша ответил:
– Так, знакомая…
– С фраером?
– С мужем, – ответил Миша.
А музыка играла что-то тоскливое, тягучее.
Скрипач раскачивался во все стороны, низко нагибался, точно разглядывал что-то на полу.
Потом закидывал голову и смотрел в потолок молящими, скорбными глазами. И дрожали и смычок, и скрипка. И голова скрипача вздрагивала.
Миша сидел, угрюмо склонив пьяную голову на руку, и думал о Лидочке.
Мучила мысль, что она не поверила ему.
«Ну и пускай!» – утешал Миша себя, но мысль настойчиво сверлила: «Не верит. Трепачом считает. Смеется и рассказывает своему крупье…»
А Лидочка действительно смеялась чему-то. И широколицый, белый крупье улыбался одними губами и, как показалось Мише, смотрел на него.
Миша почувствовал, как сильно забилось сердце.
Встал, слегка покачнувшись, чуть не уронил бокал со стола.
Киля огрызнулся:
– Тише ты! Окосел!
Миша прошел через зал.
В ушах тонко скулила скрипка.
В конце зала – будка с телефоном.
Долго вызывал справочное.
Потом говорил с управлением раймилиции.
– Пошлите наряд в ресторан «Лузитания».
Недовольный глухой голос спрашивал:
– А кто говорит?
– А вам что? – отвечал Миша. – Говорю: налетчики, которые Соловейчикову… Ну да, трое, в углу, направо от музыки…
Скрипка играла веселое что-то.
Прыгали, кружились звуки, закручивались спиралью. Разрывались, опять закручивались.
Скрипач дрыгал головой, локтями, ноги не стояли, казалось, вот-вот пустится танцевать удалой свой танец.
Стаська рассказывал хохочущему Котьке похабный анекдот, рассказывал не торопясь, смачно, по-польски цинично.
А Миша смотрел вдоль зала по направлению к выходу.
Там беспрерывно, блестя стеклами, открывались и закрывались двери.
Люди входили и выходили.
Миша зорко смотрел серыми своими, когда-то смелыми, теперь потерянными, глазами…
И опять, блеснув стеклами, отразив огни, распахнулась дверь и долго оставалась распахнутой.
Три фигуры, одна в шляпе и две в кепках, торопливо и четко, не так, как ходят посетители ресторанов, шли через длинный зал к эстраде.
А за ними, также гуськом, много еще: в красных фуражках, с блестящими пуговицами на черных шинелях.
И где они проходили – затихали говор и шум.
И когда подошли к эстраде, смолкла, не допев, скрипка…
‹1925›







