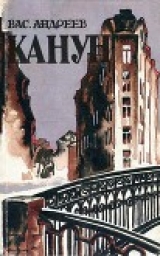
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 26 страниц)
Первый раз за много лет, а может быть и за всю жизнь, он не лгал, не хвастал, а, наоборот, не боясь насмешек, говорил, ничего не скрывая.
А мальчишка вставлял свои замечания серьезно и бесстрастно, как судья:
– Значит, держит тебя под каблуком? Понятно. Раз у ней сила – она над тобой и издевается. Что же ты можешь сделать, когда она большая и здоровенная? Тебе приходится ее слушаться. Правильно. Захочет – побьет, захочет – помилует. Такое дело.
– Вот в этом-то и суть, – оживлялся Сыроежкин. – Ты, сынок, с понятием. Может, и смешно, что я бабы боюсь и что она меня бьет. А ты видишь, что я за человек. Разве я могу совладать с такой бабищей? Силы у меня, дружок, что у мухи. Меня, веришь или нет, мальчишка один, Елисейка такой, татарин, – ему всего шестнадцать лет, а как сгребет, так я и под ним моментально. Сказать кому, так не поверят.
– Что же не верить? Ничего нет удивительного, – спокойно и бесстрастно сказал мальчишка. – Мне тоже шашнадцать, семнадцатый, а я старшего братишку как хочу побрасываю. А ему уж двадцать пять лет. А тоже маленький, все равно как ты. Ничего нет удивительного. Другой мальчишка – это медведь, а мужчина – никудышный.
– Вот видишь. Ты с понятием. Люди разные бывают. Ты, можно сказать, мальчишка, а больше меня. А ноги-то у тебя какие. Что у богатыря.
Мальчишка вытянул ногу, пошевелил черными от загара и грязи толстыми пальцами, сказал равнодушно:
– Ноги, верно, подходящие. Большие очень. Босиком много хожу, вот и большие оттого. Нога свободу любит, разрастается.
Сразу потемнело.
Подул сильный ветер. Зашелестели по панели бумажки. Закрутились в вихре. Одна понеслась высоко над улицей. Пошел дождь. Сперва редкий, пестрящий панель крапинками, потом хлынул потоком. Загрохотал гром.
Мальчишка торопливо накрыл корзину клеенкою. Побежал, шлепая по лужам, поскальзываясь на мокрых камнях.
Сыроежкин не отставал от него. Оба они спрятались от дождя в разрушенном доме.
Сидя на груде битых кирпичей и прислушиваясь к шуму дождя, Сыроежкин опять заговорил, вздыхая:
– Кабы выпивши, тогда шут с ней! Пошел бы домой. Драка так драка – наплевать. Пьяному все ладно.
Мальчишка вдруг перебил:
– Слушай, дядя! А я бы на твоем месте так сделал. Шапку у тебя украл тот-то парень? Ну вот. Я бы и толстовку загнал. Так мол и так. Напали грабители, с револьверами. В масках, сказал бы, чтобы скорее поверила.
– Не поверит, – уныло отмахнулся Сыроежкин. – Скажет – прогулял.
– Прогулял, – загорячился мальчишка. – Восемь рублей, да шапка, да толстовка! Разве ты мог бы столько пропить? Ты бы тогда и раком не пришел бы. Сам пойми, голова садовая!
Сыроежкин задумался.
А мальчишка шире развивал свой план. Он загорелся. Недавнего холодного равнодушия как не бывало.
– Я бы залил так, что кто хошь поверил бы. Не беспокойся. Морду бы себе поцарапал. Очень просто, для виду. Напали, мол, налетчики, и все. А тут и толстовку загнать можно. Особенно ежели за водку.
– Где загнать-то?
– А у вокзала. Тут завсегда шинкари, будь ласков.
При упоминании о водке Сыроежкину стала нравиться мальчишкина идея.
Действительно: шапка, толстовка да плюс восемь рублей. Разве он мог столько пропить? Тем более что вещей он с себя никогда не пропивал. Да разве у него хватило бы смелости это сделать – неужели она этого-то не может понять?
А выходной костюм есть. Да и старый пиджак еще хороший, так что без толстовки жить можно.
А мальчишка, словно читая его мысли, весело подмигивал черным плутовским глазом и смачно причмокивал:
– А у меня и закусочки сколько хошь, во! Полкорзины.
Откинул клеенку.
– С краковской есть. С чайной. С яичками.
Сыроежкин покосился на булочки, вспомнил о водке и стал нерешительно расстегивать пуговицы рубашки.
А мальчишка, захлебываясь, сыпал:
– Полтора целковых я тебе оставляю, чтобы ты не думал, что я смоюсь. И малинки никакой не бойся. Первый буду пить, сам посмотришь. И мятных лепешек достану, чтобы женка твоя не расчухала, когда станешь с ней балакать. Со мной, дядя, не пропадешь на свете. Будь ласков…
Дождь лил по-прежнему.
Сыроежкин с мальчишкой уже по нескольку раз потянули из горлышка бутылки.
Захмелевший Сыроежкин воспрянул духом.
От уныния не осталось и следа.
Он встряхивал головой, двигая косматыми бровями, часто вскакивал с груды кирпичей.
И, выставляя то одну, то другую ногу, уже сыпал рассказ за рассказом о своих маньчжурских подвигах.
А мальчишка, тоже опьяневший, раскрасневшийся сквозь грязь и загар, весело смеялся лукавыми черными глазами.
Потом Сыроежкин, старательно хрупая мятные лепешки, дышал в лицо мальчугану:
– Ну как, сынок? Не пахнет? Все в порядке?
– Все в порядке, – отвечал пьяный мальчишка. – Можешь… топать к бабе. Опре… деленно.
Дарья Егоровна обычно спала без снов.
Но в ночь под троицу перевидала их много.
То снился ей муж, раздавленный трамваем, и она плакала, глядя на его кровавые обрубки вместо ног. То била его туфлей за пропитые деньги, а он кричал, как всегда:
– Егоровна! Не бей! Бить-то ведь некого!
То дралась с накрашенной девкой, которая обнималась с мужем.
Слышала сквозь сон дребезжание звонка.
Но сон так долил, что не было мочи подняться.
Вот зашлепала по коридору квартирная хозяйка.
Заскрипела комнатная дверь.
Дарья Егоровна открыла глаза. Сон сразу слетел с нее.
Она поднялась с постели, но еще ничего не могла толком разобрать.
Муж стоял среди комнаты, переступая неверными ногами, стараясь удержать равновесие.
Он был без шапки, в нижней рубахе, грязной и мокрой. Брюки сползли.
Он громко икнул и, тараща посоловелые глаза, заговорил, еле-еле ворочая языком:
– Ты думаешь – я пьян?.. Ничего… подобного… Вот… дыхну и… и… и… ничем… не пахнет… Я – жертва… пппо… няла… Жертва… банди… тизма. В аккурат. Прра… вильно. Наганы… Ну, а мне жизнь… дороже. Вот… В масках… все честь честью. Как полагается… И восемь целковых и толс… товку – начисто… Все в порядке.
Дарья Егоровна вышла из оцепенения. Взвизгнула:
– Мерзавец! Ты – опять?..
Метнулась в угол, где стояла новая, еще не бывшая ни в каком употреблении швабра.
Симуляция вооруженного грабежа не удалась.
14
ЗЕРНА ГРАНАТА
Серый костюм, как когда-то в ранней юности рубашка с вышитым воротом, придал Роману Романычу решимость и непоколебимую веру в успех в любви.
И в троицу, то есть на другой день, как костюм был сшит, Роман Романыч отправился к Смириным.
Его уже не смущала история с тригонометрией.
Да и что – тригонометрия. Разве эта глупая труба на трех ножках могла стать помехою его счастью?
А Роман Романыч был счастлив, так как глубоко верил, что любовь его встретит взаимность.
«Моя безупречная красота победит – иначе и быть не может», – думал Роман Романыч, собираясь к Смириным.
Перед тем как выйти из дома, он проделал небольшую репетицию предстоящей встречи с девушкою.
«Сперва я, конечно, вхожу».
Роман Романыч легко, эластично, подражая походке того клиента, прошелся по комнате и остановился перед зеркалом. Снял шляпу и, улыбаясь, прошептал:
– Добрый день, Вера Валентиновна!
«Обворожительная улыбка», – с удовольствием подумал, любуясь на свое отражение.
«Предложила, понятно, сесть».
Роман Романыч галантно поклонился, сел, слегка поддернув на коленях брюки, прикоснулся лакированными ногтями к белому галстуку-бабочке.
– Ну-с, как течет ваша жизнь молодая? – прошептал, делая томные глаза.
Шепотом приходилось говорить потому, что за стеною, в кухне, находилась Таисия.
На вопрос о командировке, который Вера, безусловно, задаст, – опять улыбка, но уже с оттенком грустного сожаления, многозначительная игра глазами и ответ:
– К чему эти мелочи? Командировка, понимаете ли нет, деталь. Что она значит в сравнении с вечностью? Побеседуем лучше о более нежных вещах.
Окончив репетицию, Роман Романыч вышел из дома, приятно взволнованный.
На улице ему казалось, что встречные, особенно женщины, смотрят на него с необычайным интересом, даже как бы с изумлением.
Это доставляло большое удовольствие, и, чтобы продлить его, Роман Романыч не сел на трамвай, а отправился пешком.
Шел, часто переходя с панели на панель, в зависимости от того, где было больше прохожих.
И смотрел на мужчин с милостивой внимательностью, а на женщин и девушек – с горделивой нежностью.
Веру Роман Романыч застал одну.
– Володя скоро придет. Подождите. И мама должна сейчас быть, – сказала Вера.
Роман Романыч прошел следом за нею в комнаты.
Если раньше Роман Романыч испытывал в присутствии девушки неловкость и смущался, когда она обращалась к нему с каким-либо вопросом, то теперь, наоборот, он сам повел непринужденную беседу.
Первый его вопрос «Как течет ваша жизнь молодая?» сопровождался, как и на репетиции, томной игрою глаз, а следующая фраза: «Вы цветете, как чайная роза» – обворожительною улыбкою.
Вообще, он страшно кокетничал: щурился, встряхивал веселыми кудрями, изящно опахивался цветным шелковым платочком, распространявшим запах тройного одеколона.
Говорил нежно и томно:
– Не правда ли, Вера Валентиновна, очень превосходная погода стоит на дворе? Надо будет ее использовать. На острова, например, прокатиться. На лодочке – очень великолепно. Вы, понимаете ли нет, любительница кататься на лодке?
– Люблю, – ответила Вера.
– Я сам большой любитель. Давайте как-нибудь сорганизуемся компанией. А еще в Петергоф хорошо съездить на пароходе. Я ужасно люблю стоять на палубе и вдыхать полной грудью аромат моря. А тут, понимаете ли нет, волны колыхаются. Красота, честное слово. И чайки летают.
Тема о морской прогулке иссякла. Роман Романыч хотел перейти на разговор о кино. И уже начал:
– Видел нашумевший германский боевик…
Но пришла мать Веры.
Вера заторопилась идти к подруге.
Роман Романыч вышел вместе с нею, надеясь ее проводить, но подруга Веры жила напротив, через площадку лестницы.
В последующие посещения Смириных, по четвергам, Роман Романыч вел себя так же смело и непринужденно.
Стал общительным даже с гостями Смириных, которых раньше сторонился, считая своими соперниками.
Они ему уже были не страшны.
Он верил, что сердце любимой девушки будет принадлежать ему.
Победителем будет он.
Центральный ресторан, где раньше Роман Романыч беседовал с официантами и случайными соседями об инженерстве и Донецком бассейне, он посещал и теперь, когда заменил фуражку инженера фетровой шляпой кофейного цвета, а синий костюм – серым.
И вот как-то в августе он, идя от Смириных, зашел в ресторан.
Был уже поздний час.
В залах – людно и шумно.
Скрипки пели лихорадочно и резко, как всегда в ночное время.
Роман Романыч спустился в подвальный, наиболее уютный и тихий зал ресторана.
Спросил пива и бутерброд с сыром и в ожидании заказанного стал просматривать театральный журнал, заменяющий ему со времени приобретения серого костюма иностранную книгу.
Неподалеку от Романа Романыча сидела шумная пьяная компания.
Сначала он не обратил на нее внимания.
Но когда смолкла музыка, стало слышно, как один из компании говорил:
– Я льстить не умею, но прямо скажу: стоит тебе выйти на эстраду, и публика уже твоя. Что? Неверно?
В ответ что-то заговорили пьяные собеседники.
Тогда Роман Романыч посмотрел в ту сторону, откуда доносился разговор.
Сердце его забилось радостно и испуганно, как тогда, когда он после долгих томительных исканий встретил Веру.
Среди пьяной компании был тот клиент.
Он сидел, глубоко откинувшись на спинку стула.
Лицо его было бледно. Глаза смотрели неподвижно и, казалось, не видели ничего. Растрепанный чуб волос свесился над страдальчески сморщенным лбом.
Вдруг он выпрямился, подался вперед, вскинутая голова вспенила над белым лбом золотистые кудри; морщины исчезли – лицо стало юным.
Он встал, протянул вперед руку и, не опуская ее, заговорил как-то странно, нараспев.
Роман Романыч не мог уловить многих слов, они неслись и качались, как волны.
И казалось, их качала плавно махающая простертая рука.
Шум в зале смолк.
А голос становился громче, звончее. Слова уже не плыли, а рвались, как рыдания. Высоко простертая рука не плавала в воздухе, а металась, вздрагивала, словно раненая белая птица.
И слова – простые, обыкновенные – их уже ясно слышно – были в то же время необычайными в своем сплетении, в судорожном своем трепете.
Они, словно вопли раненого, сжимали сердце и вместе с тем чаровали, как прекрасная музыка.
Роман Романыч, затаив дыхание, не мигая, смотрел на необыкновенного человека в таком же, как у него, костюме. И от мысли, что этот, безусловно, знаменитый артист похож на него так, будто был его родным братом, от этой мысли горделивая ликующая радость охватывала Романа Романыча.
Взметнулся последний крик и замер. Опустилась измученная белая птица.
Отовсюду, из всех углов, от всех столиков, посыпались хлопки и долго дрожали под лепным потолком.
Пьяный голос прокричал несколько раз:
– Браво! Бис!
Но – взвизгнула скрипка, загудел контрабас, загрохотали аккорды рояля.
Над пьяными столиками, над отуманенными головами уже несся фокстрот, ломаясь, кривляясь, назойливо визжа и нагло хохоча в уши, жеманно замирая, вздыхая сладострастно.
Тот был пьян.
Вскакивал с места, натыкаясь на стулья, на столики, стремительно подходил к музыкантам, держа в одной руке бутылку, в другой – стакан.
Потом плакал. Целовался с толстым, бритоголовым (с ним вместе он был тогда в парикмахерской – Роман Романыч узнал толстого) и с другим: невысокого роста, черным, с лицом мальчика, но с глазами пожившего человека.
Толстого он называл дядей Сашей, черного мальчика – Вольфом.
Потом они стали подниматься из-за стола. Задвигались в узких проходах между столиками к выходу.
Тот пошел тоже, но вернулся к столу и снова сел.
Его товарищи, ожидая, остановились у выхода.
А он, наклонясь над столом, водил по нем полусогнутой рукою, точно широко и медленно выписывал что-то по всему столу.
А когда отошел от стола – Роман Романыч, сам не зная для чего, двинулся ему навстречу и пробормотал:
– Извиняюсь, гражданин!
На Романа Романыча в упор глянули синие холодные глаза, а над ними раскинулись, как крылья ласточки, сдвинутые, срастающиеся брови.
– Я, а не ты, – протянул пьяный, ломкий голос. – Понял? Только – я.
– Что-с? – прошептал, сильно смутившись, Роман Романыч.
Брови – ласточкины крылья – вздрогнули над ледяными глазами. Пышноволосая голова вскинулась гордо.
– До-рогу! – стеклом прозвенел голос.
Роман Романыч посторонился. Приподнял шляпу. Простоял, ошеломленный, несколько мгновений.
Затем шагнул к столу, за которым недавно сидел тот.
На столе лежал разрезанный гранат.
И на белой как снег скатерти крупно, почти во весь стол, – имя и фамилия из тщательно уложенных зерен граната, красных и мокрых, словно капли густой крови.
15
АРИЯ ЛЕНСКОГО
Что человек в сером костюме – знаменитый артист, и притом артист оперный, в этом Роман Романыч ничуть не сомневался.
Вспоминая случайную с ним встречу в ресторане, Роман Романыч думал: «Не пел, а вроде как напевал, и то всех прожег до основания. А исполнил бы арию, так на руках бы понесли, даром что в ресторане петь не разрешается».
Вспомнилась и фраза толстого дяди Саши, сказанная им в парикмахерской о своем приятеле: «Он – чистокровный русак, но такой, что отдай все, да и мало».
Словом, ясно – знаменитый артист.
Тенор, понятно. По голосу слышно.
И Роман Романыч аккуратно каждую неделю прочитывал театральный журнал, надеясь встретить в нем среди имен артистов имя человека в сером костюме.
Но имени его не встречалось.
Искал же Роман Романыч это имя для того, чтобы узнать, где тот поет, и пойти его послушать.
Хотелось сравнить его пение со своим.
Пьяные слова артиста в ресторане, когда Роман Романыч к нему подошел, слова: «Я, а не ты» и «Дорогу», сначала ошеломившие Романа Романыча, были им после долгого размышления истолкованы так: «Артист как чуткая нежная душа почувствовал, что перед ним тоже артист. Стало быть, соперник, конкурент».
Ну и, ясное дело – озлился.
«Я, мол, один только артист. Дай, мол, дорогу».
А на самом деле неизвестно, кто еще лучше споет.
Роман Романыч без всякого образования и без оперной практики, а так поет, что все люди поголовно в восторг приходят.
А если бы ему настоящую школу кончить, так он бы прогремел на весь мир, не иначе.
Словом, встреча со знаменитостью послужила Роману Романычу на пользу. В свой талант певца и свою обаятельность Роман Романыч стал верить больше, чем когда-либо.
И на четвергах у Смириных Роман Романыч, считая себя центром всеобщего внимания, наслаждался своим положением исключительного человека: был развязен, снисходителен, добродушно кокетлив.
С товарищами брата Веры сошелся на короткую ногу, хотя в душе считал себя неизмеримо выше их.
С подругами Веры был ласково-фамильярен, с самой же Верой – сдержан и нежно-учтив.
Любил ее по-прежнему, но от любви не страдал.
Чувствуя себя неотразимым – верил в свою конечную победу над сердцем девушки.
Но ни словом, ни намеком, ни взглядом не давал ей понять, что сознает силу своего обаяния.
Наоборот, когда однажды Вера попросила его написать ей что-нибудь в альбом – Роман Романыч написал так:
«Вы прекрасны, как Снегурочка, но для меня вы растаете, потому что я для вас ни больше ни меньше как нуль».
А подписываясь: «Известный вам Пластунов» и делая прихотливый росчерк (в царской армии он был писарем), самодовольно подумал: «Побольше бы, черт возьми, таких нулей».
Такую скрытую игру он вел по совету Иуды Кузьмича Моторина, специалиста по амурной части.
Рассказав Иуде Кузьмичу, что он любит очаровательную девушку и намерен на ней впоследствии жениться, Роман Романыч, лукавя, польстил приятелю:
– Вот ты, Кузьмич, в таких делах собаку съел. Как ты, понимаете ли нет, на женский пол действуешь? В чем тут секрет?
Иуда Кузьмич, сложив ладони рупором около рта, таинственно прошептал Роману Романычу на ухо:
– Ин-кру-стация.
Подмигнул:
– Понял, где собака зарыта?
Подавился смехом. Затем продолжал:
– Шутки в сторону, как говорят французы. Слушай да на ус мотай! Говоришь – любишь девочку и она соответствует, но пока что любви своей целиком и полностью не выявляет? Так-с. Это вполне сверхъестественно. Редкая баба сразу откроется. Надо ждать. Время – деньги, говорят американцы. И они совершенно правы. Выждешь время и выгадаешь. А поспешишь – людей насмешишь, как говорят буры. Так вот, Романыч, совет мой таков: пока девочка себя не обнаруживает, будь с нею ни холоден, ни горяч, а так – чуть тепленький. А как начнет намеки давать: «Дескать, какое вы обо мне составляете самомнение?» или в альбомчик попросит написать – известны ихние бабские подходы, – тут ты немножечко и выявись: «Я, мол, вами очень заинтересован. Вы, мол, очаровательны. Только все это, дескать, ни к чему, ибо я для вас вроде как пустая атмосфера». Такую линию и веди. Станет она больше выявляться, а ты все свое: «Оставьте, мол, достаточно! Пропал я на белом свете, лучше б мне не родиться, а обождать». И все в таком масштабе. Не выдержит. На шею начнет кидаться. А ты все свое. На что хочешь пойдет. Пятки будет лизать, ножки мыть да эту воду пить. Верно тебе говорю.
И еще дал Иуда Кузьмич совет:
– Никогда раньше времени не оказывай перед своим предметом того, что умеешь. Талантов не выявляй. Береги для последнего боя. «Сим победиши», – говорил Суворов. Скажу, например, о себе. Я, можно сказать, остряк в мировом масштабе, сам знаешь. Ну так вот. Ходил я в одно общество, подсыпался к хозяйской дочке. Так-с. А там тоже объявился остряк. Анекдотики разные, штуковинки забавные отмачивает. А я себя не оказываю. Все хохочут, а я больше всех. Вот хожу я к ним, хожу. И тот балагур ходит. Вижу, девица моя прямо глазами его жрет, а сама тает. «Ну, думаю, пора, Иуда Моторин, карты раскрывать». Начал я им загибать такого Петра Первого с бородой, что прямо очумели. А тот, мой соперник, тоже загибает. Пошел у нас с ним настоящий, можно сказать, шахматный турнир на первенство мира. У обоих чепухи – воз. Гнем и гнем. И вот сморозил он какую-то препотешную историю. А у меня нет ответа. Кончился временный запас. Но я не растерялся. «Ладно, думаю, не мытьем возьму, так катаньем». А дело было на масленой. Беру я, значит, блин, обмазал сметаной. А сам глаза скосил, вот так вот. И блином будто в рот никак не попаду. Мажу себе физию сметаной. Что тут было! Девчонкин отец пивом захлебнулся, матка блином подавилась, а гостья одна, здоровеннейшая, что тетка Таискина, пудов на девять без костей бабища, от смеха свет потеряла: села на старушонку, что рядом с нею на диване помещалась; та под нею чуть не кончается, а бабища от смеха ничего не соображает, давит, толстомясая, бедную старушку, с якоря сняться не может. Старушка, говорят, потом с месяц хворала – толстуха ей что-то повредила. А девица так в меня с того раза втюрилась, что после эссенцией травилась. Сам, поди, слыхал! Так вот что значит, вовремя себя оказать.
Затем Иуда Кузьмич осведомился:
– А ты уверен, что твоя девица реагирует?
Роман Романыч даже изумился.
– А как же! Вот чудак! Определенно реагирует. Обхождение, чарующие взоры, вздохи томления и вообще, понимаете ли нет, чувствуется влечение сердца. Слава богу, не первый день живем на свете. Кое-что в этом деле тоже понимаем.
Под конец Иуда Кузьмич полюбопытствовал – кто избранница Романа Романыча.
А тот, закатив глаза и прижав руки к сердцу, заговорил нежно и мечтательно:
– Ах, Иудушка, милый! Такой девицы ты, ручаюсь, даже и во сне не видал, даром что ты спец в указанной области. Это, понимаете ли нет, это… не девица, а… девиз красоты и небесной грациозности – вот что о ней можно сказать. И еще – плюс: из высшего света общества.
И Роман Романыч для большего эффекта тут же повысил в чинах покойного отца Веры, полковника Смирина:
– Отец ее был заслуженный боевой генерал… от кавалерии.
Но на Иуду Кузьмича это сообщение произвело обратное действие.
Он разочарованно вздохнул и махнул рукою.
– Знаем таких! Была у меня графская дочка. Ну и что же! Две недели с ней прожил – на два года намучился. Я ей про Фому, она про Ерему. Я – про Ерему, она, обратно, про Фому. Бился-бился, насилу отбился. Нет, брат, Романыч! Чем брать из прежних, лучше поискать из настоящих. Вот Таиска твоя, например. Что? По крайности девица с весом: в загривке пуда полтора, а мадам сижу – четыре. Идет – что трактор по синим волнам океана.
Роман Романыч не на шутку рассердился:
– Таиска! Да ты с ума спятил? Скажет же тоже, понимаете ли нет… Ему о божественной красоте, а он… о кобыле… Тьфу!
Роман Романыч ожесточенно плюнул.
А Иуда Кузьмич потрепал его по плечу и сказал наставительно и строго:
– Не плюй в колодец – атаманом будешь!
Кроме альбома, Вера Смирина никаких «намеков» больше не делала.
Роман Романыч снова советовался с Иудою Кузьмичом. Что предпринять? Не сделать ли самому осторожный подход?
Но специалист по сердечным делам замахал руками:
– Не дури! Чего спешишь? Действуй по-американски.
И Роман Романыч действовал: время шло, кончилась зима, прошла пасха.
Впрочем, Роман Романыч был пассивным не только из-за советов Иуды Кузьмича.
Главная причина того, что он не предпринимал решительных шагов на пути к завоеванию сердца девушки, – это его профессия.
Как ни сильна была уверенность в своей обаятельности, как ни надежна броня против неудач – серый костюм, но мысль о том, что в случае согласия Веры на брак – а в согласии ее Роман Романыч был уверен – придется открыть свою профессию, – эта мысль приводила Романа Романыча в смущение и уныние.
Правда, когда сама любовь заставит девушку броситься в объятия возлюбленного, тогда никакие профессии не будут иметь ни малейшего значения.
Известно – с милым рай и в шалаше.
Но кто может сказать, когда дело дойдет до шалаша. Да и дойдет ли?
Есть такие женщины – сто лет любить будет и не откроется. И умрет – не скажет.
Вот тут и жди шалаша.
Так, вполне логично, рассуждал Роман Романыч.
И каждый четверг, идя к Смириным, думал о том, что если подвернется удобный момент, то можно объясниться с Верой.
А четверги у Смириных стали более оживленными, чем раньше.
Кто-то, вернее всего писатель, безнадежно влюбленный в Веру, завел моду приносить с собою водку.
С его легкой руки и другие гости делали то же.
Происходили складчины, затем попойки.
Мешали водку со сладким вином и называли эту смесь непонятным словом «квик».
Трезвым писатель бывал тих и нерешителен, пьяный – преображался: становился надоедливо-болтливым, без конца читал на память стихотворения, плясал «Русскую», плакал, грубо ругался.
Гости фокстротировали. На пианино играл некто Николай Иваныч.
О нем говорили, что он сам сочиняет фокстроты и даже написал оперу.
Пели хором.
Роман Романыч в пении не участвовал. Следуя совету Иуды Кузьмича, он не обнаруживал пока что своего таланта.
К тому же из всех песен, что пелись у Смириных, он знал всего одну: «Вот на пути село большое». И то не всю.
Приятели брата Веры были с Романом Романычем, как и он с ними, ласково-фамильярны.
Называли его не по имени и отчеству, а просто инженер. При встречах спрашивали:
– Ну, инженер, как живем?
– Живем, понимаете ли нет, великолепно, – отвечал Роман Романыч.
– А в шахты скоро полезем?
Роман Романыч лукаво усмехался:
– Без нас, понимаете ли нет, дело обойдется.
Однажды во время подобного разговора Роман Романыч заметил, что Вера пристально на него смотрит.
Роман Романыч был слегка пьян. Улучив удобный момент, он подошел к Вере и заговорил:
– Все инженер да инженер. А в действительности никто не знает, кто я такой есть. А я, понимаете ли нет, вовсе и не инженер.
– Я в этом и не сомневаюсь, – спокойно сказала девушка.
И, насмешливо улыбаясь, спросила:
– Только для чего вы носили фуражку инженера? А визитная карточка?
Роман Романыч лукаво засмеялся.
– Это, понимаете ли нет, просто-напросто милая шутка. Скажу только вам, Вера Валентиновна, по секрету. У меня есть приятель. Тоже большой шутник. Он – горный инженер и тоже – Роман Романыч и, представьте, даже и фамилия Пластунов. Прямо, понимаете ли нет, удивительно. Одним словом, игра природы… Так вот, карточка-то визитная не моя, а евонная. Я у него ее взял. И фуражку. «Сыграем, говорю, тезка, веселую комедию. Я буду вроде инженер, а ты, наоборот, певец оперный».
– Почему певец? Разве вы артист оперы? – спросила Вера.
– К сожалению, да, – кокетливо улыбнулся Роман Романыч. – Я и не в Донбасс тогда ездил-то, помните? А в Москву, на гастроль. Пел в опере «Заря востока»… Персидского царя представлял…
Вера вздохнула:
– Вас не разберешь, кто вы такой. Самозванец какой-то!
Этот разговор слышала Тамара Чертенок. Она поспешила в соседнюю комнату, где уже разливали «квик», и зашептала:
– Слушайте, слушайте! Роман Романыч признался, что он не инженер.
– Это и без него всем известно, – перебил ее брат Веры.
– Нет, вы слушайте! Оказывается, он – оперный артист, – продолжала, смеясь, Тамара.
Но в комнату вошел Роман Романыч. Разговор прекратился.
– Уважаемые граждане и уважаемые гражданки! Внимание! В будущий четверг знаменитый первый тенор Пластунов, понимаете ли нет, в своем репертуаре. Просьба не опаздывать.
Несколько секунд длилось молчание. Затем брат Веры протянул Роману Романычу стакан:
– По этому случаю, инженер, надо квикнуть.
А в соседней комнате Вера и Чертенок затыкали рты платками. Плакали от смеха.
А на другой день Роман Романыч перебирал у Иуды Кузьмича граммофонные пластинки и укоризненно вздыхал:
– Эх, Кузьмич, Кузьмич! Любитель ты пения и поешь, можно сказать, все-таки прилично, а ничего серьезного не имеешь, все, понимаете ли нет, «Ванька Таньку полюбил» да «Голова ль ты моя удалая». Разве это репертуар?
– А я бы на твоем месте исполнил «Бубенчик» да «Турка», ну а если мало – еще что-нибудь, – заметил Иуда Кузьмич.
– Не понимаю, понимаете ли нет, – закричал Роман Романыч, чуть не плача, – как можно так легкомысленно относиться к серьезным вопросам! «Звени, бубенчик мой, звени» – моя коронная роль. Значит, ясно и понятно, что я исполняю ее на бис. А что для начала? «Турка»? Благодарю покорно. Там писатели, понимаете ли нет, музыканты, интеллигентные дамы и девицы, а я с «Туркой» выступлю. Я, понимаете ли нет, жизнь ставлю на карту и вдруг – какой-то «Турок». Тут арию нужно обязательно, а не ерунду.
– Ну успокойся, вот тебе ария, – сказал Иуда Кузьмич, разыскав пластинку, лежащую отдельно от прочих, – вот ария Ленского, мужичка смоленского, «Куда, куда вы удалились» – в пивнушку, что ли, закатились.
И он так затрясся от смеха, что чуть не уронил пластинку.
Роман Романыч испуганно выхватил ее из рук Иуды Кузьмича.
Шесть вечеров Роман Романыч разучивал с граммофона арию Ленского.
Мелодии он всегда улавливал быстро, но слова запоминал с трудом.
Из-за этого теперь волновался, нервничал. Ругал Иудин граммофон.
– Черт его знает, что за проклятый инструмент! Слова выражает неясно, хрипит. Переврешь еще из-за него.
– И переврешь, так не беда, – возражал Иуда Кузьмич. – Думаешь, артисты не врут? Еще, брат, как! Ведь артист, может, в ста операх выступает. Так неужели всех их и помнит? Ведь у него, слава богу, не дюжина голов.
Роман Романыч снова кипятился.
– Чудак же ты, Иуда, шут тебя знает! Театр и домашняя обстановка – две большие разницы. В театре, понимаете ли нет, первым долгом – суфлер. Чуть забыл – он напоминает. А партитура? Да и вообще, все там к твоим услугам. И рампа, и все. А тут все в голове держи. За все, понимаете ли нет, – отвечай.
Но в конце концов со своей задачей Роман Романыч справился блестяще.
Накануне выступления он устроил у Иуды Кузьмича репетицию.
На репетиции Роман Романыч перещеголял даже граммофон.
Пел с большим чувством и выражением.
Не только пел, но и играл.
Так, например, при словах: «В глубокой мгле таится он» Роман Романыч, хмуря брови и оскаливая зубы, отчего лицо принимало злое и коварное выражение, делал несколько хищных шагов, так что похоже было, что это крадется ночной злодей.
А когда пел: «Паду ли я, стрелой пронзенный», схватывался за грудь и шатался как раненый. И лицо выражало смертельную муку.
Иуда Кузьмич, изрядно подвыпивший, целовал приятеля, называя его талантом, светочем.
– Ромка, выпьем за твою победу! Завтра ты себя окажешь. Ока-жешь, верь моему слову. На свадьбу, смотри, позови.
Роман Романыч, плача от счастья, говорил, захлебываясь:
– Спасибо, друг Иудушка! Теперь я себя окажу. Чувствую, что окажу. Время настало. Только до ейного сердца добраться, а потом можно и всю правду выложить. Потом – не страшно. Верно, Кузьмич, дорогой?
– Правильно. Завтра окончательно пронзишь ейное сердце. «Сим победиши» – знаешь, по-суворовски. А уж там бери и веди хоть на Северный полюс, а не только в парикмахерскую.







