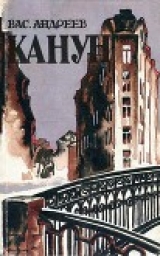
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)
Канун
«НЕУДОБНАЯ ПРОЗА» ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВА
Году чуть ли не в 1970-м попался мне старый, двадцатых годов, альманах «Ковш». Стал я его листать и наткнулся на повесть Василия Андреева «Волки». Имя это ничего мне не говорило, поэтому и листал повесть без особого интереса, но что-то в ней вдруг зацепило, что-то проглянуло, блеснуло. Короче говоря, я вернулся к началу и прочел ее залпом. Поразился, обрадовался замечательной, крепкой прозе, где и жизненный материал, и язык, и мысль авторская – все привлекало, ничего не устарело. Были еще живы в Ленинграде писатели, которые хорошо знали начало советской литературы, жизнь литературного Петрограда – М. Л. Слонимский, Г. С. Гор, В. Н. Орлов и другие «хранители огня». Они помнили Василия Андреева. О нем сохранилось несколько легенд. Полузабытые, смутные, потраченные временем, они рисовали образ человека неусмиренного, характером – самобытного, чудаковатого. Он появлялся в их рассказах то спившимся, то издевающимся – то ли над литературным этикетом, то ли над страхами перед талантом. Рассказывали такую историю. Был Андреев сослан в Туруханский край за участие в революционной деятельности. Там он познакомился со Сталиным. Было это не то в 1915, не то в 1916 году, и тогда Андреев, перед отправкой Сталина по этапу в Красноярск, одолжил ему свою шубу.
Перед Великой Отечественной войной, бедствуя, – а надо заметить, что после 1937 года почему-то книги его перестали издаваться, – так вот, будучи совсем без средств, решил он напомнить Сталину про свой «заячий тулупчик» и попросил помощи. Написал. Как говорят, получил ответ. Тут сведения расходятся: ответ строгий, ответ холодный, ответ, советующий умолкнуть… Во всяком случае, должник не обрадовался появлению своего старого приятеля. А в 1941 году, через несколько месяцев после начала войны, В. Андреев исчез. Вышел из дому и исчез. Более о нем ничего не известно. Опять же вспоминали какие-то странные слухи о самолете, на котором его вывезли или увезли…
В биографии В. Андреева много невнятного, упущенного, никто ею не занимался, и когда займутся, а займутся обязательно, ибо фигура эта незаурядная, то восстановить факты будет уже трудно. Произошло это потому, что литература двадцатых-тридцатых годов стала литературой упрятанной, представленной куцым списком дозволенных имен.
В 1986—1988 годах читателю открылись целые пласты не известной ему ранее первоклассной литературы. Однако многие явления советской литературы 20—30-х годов еще ждут своего часа. Огромный ее слой оказался изъятым из обращения, даже из истории. Не переиздавались с тех роковых 1937—1938 годов книги Пантелеймона Романова, Михаила Кузмина, Константина Вагинова, Леонида Добычина, Николая Баршева, затерялся в книгохранилищах роман Бориса Житкова «Виктор Вавич». Нормальная жизнь литературы сама производит отбор, что-то выходит из моды, что-то возвращается из забвения. Тут же естественное движение было прервано, искажено, восстанавливать его непросто.
Одним из таких утаенных писателей оказался Василий Андреев. Литературное наследство его еще не приведено в порядок. При его жизни всего было издано примерно двенадцать книг повестей и рассказов. Первая книга рассказов «Канун» вышла в Ленинграде в 1924 году, а последняя – «Комроты шестнадцать» – в 1937-м.
При всей их неравноценности есть в них прочность, которая отличает настоящий талант. Жизнь городских низов, воровской мир, кабаки и пивные, питерские окраины тех лет – судя по всему, писатель превосходно знал эту среду, сочный ее, своеобразный язык, ее обычаи, ее мораль. С проникновенным пониманием он писал о детях («Славнов двор»); их скрытая от взрослых жизнь хорошо ведома ему. Кстати сказать, как правило, именно на этом проверяется писатель – на умении писать для детей, о детях.
Героев В. Андреева можно считать типичными обывателями, петербургскими мещанами, которых растревожила революция, его герои хотят чем-то стать, найти себя или по крайней мере свою мечту, свой идеал в этом внезапно перемешанном распорядке, среди разрухи чувств, традиций, прежних ценностей.
Предлагаемая книга повестей и рассказов Василия Андреева, по сути, заново открывает нашему читателю интереснейшего писателя. Написанное им не только устояло под напором лет (и каких!), но обрело еще дополнительную привлекательность выдержанной временем литературы.
В зеркалах прошлого то и дело мелькает облик сегодняшнего дня. Повесть «Волки», лучшие рассказы создают эффект актуальности не случайно; раздумья и боли, созревшие спустя десять лет после революции, вдруг смыкаются с нашими тревогами о нравственных основах нынешнего общества.
Мы мало знаем о жизни Василия Михайловича Андреева. Известно, что в ссылке он находился с 1912 года за убийство жандарма. Кажется, на этом его участие в революционном движении кончилось. В ссылке он познакомился с известным большевиком И. Ф. Дубровинским. О нем, спустя двадцать лет, он написал книгу «Товарищ Иннокентий» (Л., 1934). Написал он перед войной воспоминания о ссылке, пьесу о Сталине, но все это, кажется, не сохранилось. После революции он жил и работал в Ленинграде. Здесь выходили его книги; одну из них, «Преступления Аквилонова», выпустило в Берлине в 1927 году издательство «Петрополис». В середине двадцатых годов успешно была поставлена на сцене пьеса «Фокстрот». Судя по всему, В. М. Андреев стоял в стороне от литературной борьбы тех лет. Леонид Радищев писал о нем: «Его не включали ни в одну из существовавших обойм. Он не состоял в группировках. Не участвовал в склоках. Не ходил на заседания. Не был аргументом в критических битвах. Не состоял членом редколлегий. Не сообщал, «над чем я работаю»… и так далее». Андреева, разумеется, ругали за интерес к «никчемным людишкам», «ненужным, убитым революцией». Его замалчивали. Поощрительно похлопывали по плечу за переход, от «уголовно-люмпенских тем» к широкому социальному охвату. Не желая при этом видеть, что социальный этот охват получается у него хуже, мельче, чем мир деклассированного человека с его удалью, философией, жестокостью и тягой к иной жизни.
Нет сомнения, что один за другим будут возвращаться, становиться в строй писатели, несправедливо забытые, припрятанные. В них было слишком много неудобной правды, они не укладывались в каноны, предназначенные для «правильной» советской литературы. Такой неудобной была и проза Василия Андреева, одно из счастливых открытий, которое обретает наш читатель.
Даниил Гранин
БОЕЦКИЙ ПУТЬ
Повесть
1
Васьки-Пловца, сапожника Соболева сына, родина – дом Городулина.
Дом этот известен всем: на канал Екатерининский и на Садовую – проходной. Слава о нем – как о «Васиной деревне», что на острову.
Впрочем, были и еще знаменитые в Питере дома: лавры Вяземская и Пироговская, Порт-Артур, Зурова и Сакулина дома на Фонтанке – мало ли!
Только в них ворье больше, а в лаврах даже сплошь; в Городулином же один вор всего – Ванька-Чухна, да и то – какой он вор?
Звание воровское только пачкает.
Когда у городулинцев что пропадает, всегда – к Чухне, и всегда находят.
В Городулином – все рабочие. Мастеровые с Франко-Русского (бывшего Берда), с Бекмана, из порта, с Балтийского, с островка Галерного, а также ремесленники: столяры, картузники, портные и сапожники, конечно.
Интеллигентов, как и воров, один всего – Иван Иваныч, адвокат.
Иван Иваныч – деляга, законник, опустившийся, правда, донельзя, пьет ежедневно, а временами сверх того – запоем; но все у него по статьям закона, даже рюмка водки.
По специальности и работает: за шкалик прошения пишет, за сороковку – любое судебное дело ведет, а если вина, закуски, пива – вообще угостить честь честью – самое безнадежное дело выиграет.
Законник!
Зато к нему и с уважением все, даже фараоны.
На что племянник Софрона Карпыча Конягина, владельца «Белых Лебедей», трактира «с крепкими», Митька-Коняга, дерзкий на руку парень, а вот Ивана Иваныча за воротник никогда не брал. А ведь Коняга спуску – никому, особенно благородным пьяницам как элементу случайному в «Лебедях» и навязчивому, нетерпимому никакой компании. Все у них, у благородных этих, с точки зрения да с амбицией, а какая тут амбиция да особенная точка, если до точки допился?
Коняга для интеллигенции – бич. Раз он даже попа, до положения риз допившегося, со всех шестнадцати («Лебеди» во втором этаже) – спустил.
Тогда Софрон Карпыч, на что человек, что шар бильярдный – нечувствительный, и то не одобрил.
– Ты, – говорит, – Митька, это зря. Священное лицо – по шее. Конфузно, брат, это.
А Коняга:
– Мне все единственно, хуть кто, ежели в собачьем виде. Я и митрополиту Антонию откупорю со всем удовольствием.
Коняга, это верно, вышибал с удовольствием.
А вот Ивана Иваныча – ни-ни и даже с уважением.
И сотку иной раз от Карпыча тайно ставил.
Васька Соболев кличку Пловец заслужил за плавание изумительное. Мальчишкой еще сопливым, порты подпоясывать не умел, а в Ворониных банях, в бассейне, или на Бабьей речке, на Гутуевском, куда городулинцы шатией за кокосом ходили, а также на «Балтинке», на четвертой от Питера версте, на водопаде – даже матросов удивлял: рыба, а не плашкет. Вода для него – что квартира со всеми удобствами: спать, вероятно, мог в воде… не только что. Спиной становясь к воде – нырял. И ничего.
Городулинские ребятишки каждый чем-нибудь выделялся: Васька, вот, плаванием, Мишка-Левый, братишка его, – в драке бесподобен (бил с левши), Колька-Меднолобый – музыкантом роскошным стал впоследствии.
На афишах его портреты печатали. Что шафер на афишах: во фраке, в «гаврилке», прическа – «бабочкой». Будто и не городулинский вовсе. Павлушка-Пестик – революционер, эксист, «максималист» по-газетному, у Фонарного, в шестом году, застрелился.
Городулинские все – с талантами.
На что Афонька дворников, Говядина по кличке, деревня: только и есть в нем – мясо да жир. И тот отличился: вора на чердаке изловил и единолично в участок доставил.
Здоров, толстомясый! Одного вора ему, пожалуй, мало.
Городулинская плашкетня – талантливая.
В игру всякую – мастера, в драке – не качают, языком – любому трепачу сорок очков. И правильные. Фальши – никакой.
Воровства или чего такого – ни-ни!
Народ крепкий телесно и духовно, да иначе и нельзя: жизнь по головке не гладит.
Хочешь не хочешь – крепись.
Жизнь такая – ничего не попишешь!
Голод, холод, труд с малолетства. Большинство – по отцовской линии: на завод, в мастерскую, на липку сапожную или на верстак портновский.
Васька жил не унывая, несмотря на то, что жизнь сложилась неказистая: отец – пьяница, бил его и брата Мишку смертным боем. Когда Ваське минуло двенадцать, братишка ушел от отца. Жил с Марусею-Цыганкой, черненькая девочка, глаза – что вишни в дождь. Славненькая!
Мать умерла давно, от побоев мужа, наверное. Отец на одном Ваське душу и отводил. Но потом заболел. Пьяный, в покров, проспал на земле, схватил крупозное. Скрючило, хотя и вынес. Васька же к тому времени выровнялся: ростом чуть не с отца, а в плечах шире. Перестал отца бояться. А когда тот, пьяный, как-то стал фасон показывать – тарелки бить, Васька за Дворниковым Афонькою слетал. Вдвоем связали, бросили на кровать, а сами пошли играть в пристенок.
С тех пор отец притих. Иной раз зашебаршит по старой памяти, а Васька:
– Ложись добром. А то Афоньку позову. Он те угомонит в два счета.
Васька смышленый, грамотный. Читать любил, но книг не было. Кое-что у мальчишек доставал: «Итальянского разбойника Картуша», «Пещеру Лейхтвейса», «Магдебургского палача», «Пинкертонов» разных.
Книги эти занятные, завлекательные. Особенно про разбойников которые. Сердце от них растет и дух крепнет. Хорошие книги!
Так, без школы, без учебников, наглядно учился, а без этого тоже можно учиться: глаза, уши есть, вот и учись.
А школа – улица. Учитель – улица. За все она отвечает. Одна она – и мать, и наставник, и профессор.
Вольный и смелый, как городулинские, как питерские мальчишки, понял Васька, что жизнь заключается в том, чтобы человек права свои отстоять мог. А для этого надо быть сильным, бесстрашным. Иначе всякий обидит, с дороги столкнет, и будешь у людей в хвосте, в загоне. Бороться нужно. Но так как бороться одному часто не под силу, то нужна артель, шатия.
Везде так.
Вот у Покрова, в Коломне, покровская шатия. На Пряжке – пряжинская, затем – петергофцы, семенцы, песковцы. А самые знатные, первоначальные, – «Зеленая Роща» и «Гайда».
Создал и Васька городулинскую партию. Надумал, предложил парнишкам. Те, понятно, – с восторгом.
За атаманом дело. Ваське напрашиваться нельзя, должность атамана – выборная.
Ребятишки-то за Ваську:
– Пловец, ты атамань! Ладно, Пловец, а?
Но Филька столяров – злой, завистливый – запротестовал:
– Кто всех сильнее, тот и атаман.
Пришлось сходиться трем кандидатам: Ваське, Фильке и Афоньке. Остальные – мелочь.
С ними – нечего.
Говядина Фильке чуть ребро не высадил кулачищем.
И Васька Фильке влил.
Потом с Афонькою у них – боевая. Васька по драке – академик, но Афонька – силен. Техникой Васька только и взял…
2
Стали городулинцы набеги делать. На серебряковцев (соседний дом Серебрякова) и карповцев (по другую сторону городулинского – Карпова дом).
Мальчишки в этих домах – плохие, из интеллигентской мелочи: чиновников, учителей разных дети.
Через неделю по всей улице городулинцы прославились. Через двор чужие мальчишки проходить перестали. А мимо ворот, по другой стороне улицы – стрелой.
Городулинцы до вечера во дворе, а попозже в Покровский сквер, на партию покровскую смотреть ходили.
А у покровских в то время атаманил Валька-Баянист, высшей марки музыкант, в Народном выступал и других театрах.
За гармонную игру жетоны имел.
Парень Валька шикарный!
Поддевка темно-синяя поверх рубахи голубой, широченные, на голенищах лакирошей приспущенные, шаровары, московка широкополая – птичкою на золотистых кудрях.
А хлещется!
Красота! Глаз не отвести! Очарование!
Ураганом на середину улицы, светлыми сверкая голенищами, в толпу пряжинцев, петергофцев ли врежется – ровно литовкой пройдет: сразу полукруг свободный перед ним. А там: один, другой – кувыркаются, с булыжниками мостовой христосуются.
Хлестал толково!
А поддевка полами парусит, кисти пояса вихрятся, только нет-нет московку приминает.
Верткий, волчок. Не моргает. Раз – и в дамки! Человек такой!
И командует своим – четко, быстро, дельно:
– Бей, братцы! Не качай, мать вашу…
– Баламут, пятнай, сука! Огурец, крой слева! Э-эх!..
А неустойка если – встанет как вкопанный. Пальцы в рот – свист властный и грозный; потом – быстро руки в карманы и выбрасывает их уже охваченными железом кастетов.
Тут уже парнишки отовсюду что воронье. Тревога: «Пряжка напирает! Валька подмоги просит!»
Площадь застонет, от топота ног, пыль метелью запляшет.
И несмолкаемое гудящее «Понес!» – клич борьбы, геройства и обреченности – юности голос, сама юность – аккордно музыке битвы вторит.
И тревожно и настойчиво, клич этот заслыша, фараонов свист – стальными по улице горошинами.
И только конные когда покажутся, четкая Валькина команда «Зекс! Хряй!» – кладет конец битве.
Атаман отступает последним.
Валька погиб.
Страшной и памятной всем смертью.
Летом, в день воскресный, черносотенцы убили.
Каждое воскресенье собрание у них, у черносотенцев, в квартире казачьего есаула Дерзина.
Гульба, пляска, пение «Боже царя» – в рабочем-то квартале после пятого года!
Много сердец горело, много точилось зубов.
И Валька – не вынес.
Сердце у него открытое было, без остатка все целиком принимало.
Без рассуждений, без обходов – все!
Какие же рассуждения, когда сердце вот – как ворота в жизнь, как взор солнечный, – какие обходы?
Как услыхал вызывающее, из окон дерзинских несущееся: «на страх врагам», не выдержал.
За вызов принял черносотенное царского гимна пение Валька – рабочий Бердовского, Франко-Русского тож, завода.
Вызов. А раз вызов, надо принять.
Правда, хмелен был, но не в хмелю дело, а в сердце.
Сердце – ворота в жизнь. Солнечное сердце.
Решил: «Набегом. Волынку затеять. Пришить кого ни попало…»
А слово – дело.
Нужно бы артелью, скопом, но парней – никого; своих, покровских, – никого.
«Эх, была не была!» – птичку-московку примял, вихрем – по парадной, поддевкою паруся, блестя лакирошами, – в есаулову, в дерзинскую квартиру, и прежде чем застрелили – четверых пером перепятнал…
Один из раненых умер скоро, троих – в Обуховскую. Но и Валька погиб.
Под глазом вошла, из затылка вышла пуля.
Одной убили, а выстрелов пять-шесть дали. С испуга, от неожиданности – в комнате в упор мазали, промахивались…
Вальку хоронили трогательно и шикарно.
Гроб на руках всю дорогу, а за гробом шестеро баянистов – похоронные марши и Вальки, покойничка, песни любимые: «Ах, зачем эта ночь!» и «Молдаванский вальс».
Шестеро баянистов и седьмой – плясун, Гаврик Златоцветов, за гробом.
Парни на подбор – что надо!
Шурка-Заграничный – жетоны у него, как и у Вальки, за игру гармонную.
Мишка-Пищик – человек, знающий гармонь лучше, чем любой поп «Отче наш». Сам мог гармонь сделать, если ему подходящий инструмент и материал дать.
Петька-Японец «Коробушку», «Выйду ль я на реченьку» играл так, что за оперу принять можно. А «Барыню» Петькину даже городовые играть ему на улице не запрещали.
Втулка-Серега – шестнадцать часов, на спор, на свадьбе у вора-домушника Кольки-Ершика гармонь из рук не выпускал. Выпьет. Закусит. Играет. Кругом – шестнадцать.
Мишка-Утопленник из-за гармони чуть не утонул. На Лахте. Лодку в драке опрокинули. Мишка сапоги сбросил, а гармонь не отпускает.
Тонет, а гармонь в руках.
Спирька-Омский из Питера до Омска и обратно пешком прошел, по городам и деревням на гармозе играя!
Пьяный играл – как никто. А в дым когда пьян, спит когда на гармозе – еще лучше. Сердцем играл, кровью.
Плясун Гаврик Златоцветов – красавец – поискать!
И плясун редкий.
Девочка из-за него отравилась. Катя, лафермовская.
Знаменитые похороны Вальки.
Гроб весь в венках, бердовцы на похороны сбор сделали. Гроб и венки – что надо.
А маркер Долголев из «России», трактира, приятель Валькин задушевный, накануне похорон купчика обыграл на полтыщи, и все деньги – Валькиной матке.
Сороковку из выигрышных только взял, а остальные все старухе – полтыщи без двадцати копеек.
Маркер, а сердце поимел – это понимать надо!
Знаменитые Вальки-Баяниста похороны. Шестеро баянистов – в поддевках выходных, в черных и синих, в рубахах шелковых и лаковых сапогах.
Заграничный – при жетонах.
А плясун красавец Златоцветов – в бархатной безрукавке поверх малиновой рубахи, с крепом на малиновом рукаве.
Не мог в другом костюме быть: как под игру Валькину в театрах выступал, так и за гробом шел.
При всей форме, значит.
Правильно это. Так надо.
Семеро за гробом: шестеро баянистов и плясун.
А сзади – футляры гармонные и московки игрунов девочки несли.
У каждого своя. Только Гаврика-красавца сестра, красавица Тася, братнину шапку плясунскую, ямщицкую, с павлиньими перьями шапку, – сестра несла.
После трагической Катиной смерти Гаврик девочек не заводил. Не имел.
Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.
Печально прекрасное отпевание – печальный «Молдаванский вальс».
И а такт задушевным молдаванского вальса звукам, стелющимся как пышные ковры, словно по ним, ласковым, мягким звукам-коврам, ступая, шел за гробом товарища Гаврик, не похожий на всех, тут же идущих, не похожий ничем: ни походкой, почти воздушной, плясунской, и костюмом ямщицким, в каком по городу не ходят, и лицом не городским: кровь с молоком, губы – цветик ал, глаза – звезды в лучах ресниц стрельчатых, волосы – льна чуть темнее, шелковые волосы в кружок.
И даже тем не похожий, что при ходьбе не махал, как все, руками, а, откинув атласом голубым подшитые полы безрукавки, заложил за серебряный поясок позументный белые руки свои, как у девушки нежные. На тут же идущих всем этим не похожий, от всего и всех – отменный, – Гаврик, редкий красавец, словно пришедший из древней, в веках затерявшейся сказки, древнерусский молодец-краса.
И символом сказочной этой красивости – траурная на малиновом рукаве повязка…
Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.
Ткутся шелком пестрым мягкие ковры, расшиваются золотом радости, серебром печали, устилают ковры всецветные атамана печальный путь.
Звуки, звуки – нити золотые, серебряные, всецветные нити. Сплетаются венками, падают венками, в скате раскатываются расписного ковра. И по ласково-бархатно звучащему пути верный погибшему другу-атаману древнесказочный друг идет.
И много-много сзади молодых, все молодых. Весною, молодостью, солнцем венчанных, жизнью возлюбленных молодцов и молодиц.
И чудится: жребий скорбный молодого атамана не мрачен вовсе, не печален, не страшен.
Жребий – смерть его, полного сил удалецких.
Жребий – смерть его – не врата ли, внезапно распахнувшиеся широко в расписными коврами устланный путь ворота?
Как и сердце его при жизни – солнечный взор – отверстые врата.
Много сзади парней и девушек. Много бердовцев, провожающих не покровского атамана, а бердовца – товарища своего, умершего смертью не последней.
И вели под руки не отнимавшую от глаз платка Веру, Валькину любу – девочку от Жорж Бормана, с шоколадной.
Нежно плачут, тоскуют, вздыхают голоса шести баянов.
То взмывают заревым весельем, то ночной припадают печалью, то крылами рыдания бьются, то в тоске замирают, стынут молдаванского вальса звуки.
А по краям пути расписного, в такт раскатам ковров всецветных, мерно качаясь в седлах, маячат черные конники – злые стражи.
И зорко смотрят, чтобы не слишком широко расстилались ковры; ковры, легшие на манящие пути заветные, пути, влекущие в дали дальние, где жар-птицы солнечными реют крылами, где в камнях самоцветных – радостные дворцы, где все красоты и силы-сильные, солнце где, злую ночь пугающее солнце; по краям пути черные конники – злые стражи мерно покачивались в седлах.
И хмуры, и затаенно-тревожны, и злы затаенно черные конники – злые стражи.
Смолкает. Замирает. Смолк. Замер… «Молдаванский вальс»…
3
Городулинским простора мало. Драться не с кем. Мелкоту интеллигентскую из соседних дворов бить скучно.
Развлекались французской борьбой. В моду входила тогда.
На песке, на Екатериновке – против ворот городулинских летом всегда горами песок, – на песке борьба.
Филька целыми днями – под Говядиной. Иной раз и бороться не хочет, а Афонька его знай заламывает. На удивление мальчишкам и на потеху себе, по пятнадцати и больше раз укладывает на лопатки подряд.
Злой Филька ругается, плачет, зеленеет от злости и усталости, а Афонька, красный что свекла, ржет жеребенком и такими макаронами кормит Фильку, что у бедняги шея трещит.
Потом перед ребятами резонится.
– Я его легонько борю, а если б заправду – задавил бы. Чижелый я. Мы, деревенские, на борьбу здоровые.
Мальчишки не спорят. Деревенские, известно, всегда городского сомнут, а Афонька такой вполне Фильку может задавить.
Вот он как в борьбе навалится на Фильку, того совсем и не видно, только ножки дрыгают по песку.
Ваське скучно без дела – волыниться не с кем. Борьба надоела. Да и опасался столкновения с Говядиной: на борьбу Говядина – первый.
Надумал наконец к покровским поступить, но городулинцам заслабило.
– Куда нам? Там – большие. Нас и не примут.
Зиму много работы было у сапожника Соболева, и пил он почему-то мало – раз только Васька с Афонькою его связывали.
Всю зиму пришлось Ваське отцу помогать, но мысль о присоединении к «покрошам» покоя не давала. Часто во сне дрался с пряжинцами или петергофцами.
К следующему лету решил окончательно.
Предложил и Афоньке, но тот отказался.
Ленивый да и трусоват, даром что бык такой.
К Покрову пошел Пловец в праздник, после обедни.
«Атамана увижу и попрошусь в партию», – думал радостно и тревожно.
Атаманил после Вальки Гришка-Христос, еврей, сын торговца из Александровского. Лет двадцати с лишком. Бородка небольшая, раздвоенная, и длинные волосы делали его похожим на Христа. Только глаза близорукие, насмешливые.
На вид невзрачный, Гришка между тем обладал большой силою.
Конкурентов в драке не имел…
Когда Васька пришел к Покрову, вдоль церковной ограды сидело несколько парней с Христом в центре.
Смелый мальчуган, победив минутное смущение, подошел к сидящим и подал Гришке руку:
– Здорово, атаман.
Гришка прищурился, засмеялся громко, сверкнув большими лошадиными зубами.
– Здорово, есаул, здорово!
Парни засмеялись. Васька слегка обиделся.
– Я не есаул, а атаман… городулинский.
Хохот усилился.
Васька продолжал, не смущаясь:
– Я хочу к вам в партию.
– А батька с маткою не выдерут? – насмешливо улыбнулся Христос.
– Матки у меня нет, а батьки я не боюсь, – спокойно ответил мальчишка.
– Молодец, – сказал Гришка серьезно, – крой его, старого черта, и в хвост и в гриву.
Обернулся к товарищам:
– Я пьяный и волынюсь же с батькою, ай-яй-яй!..
Приложил руку к щеке и покачал головой.
– Третьего дня буфер ему подставил.
Парни прыснули. Гришка обернулся к Ваське.
– Ты, плашкет, вот что… Деньги у тебя есть?
– Есть.
Васька радостно извлек два гривенника. Копил эти деньги. Готовясь поступить в партию, знал, что потребуется подмазка.
Гришка повертел в руках гривенники.
– Разве это деньги? Это – злыдня. Я думал, ты выпить поднесешь.
– Можно сороковку взять, – сказал Васька.
– Сороковку на такую шатию? – кивнул Гришка на товарищей. – Слетай за папиросами. «Бижу» возьми!
Васька мигом сбегал. Закурив, стали расспрашивать, кто он, кто его родные.
– Мишка-Левый – твой братишка? – спросил один белокурый в веснушках.
– Да.
– Какой это Левый? – прищурился Христос.
– А это бекманский, с Манькой-Цыганкою живет. В семенцах он сейчас.
– Знаю, – кивнул Гришка, – хлещется Левый дельно. Знаю. В «Коломне», в бильярдной, помню, с гужбанами. Пьяный Левый – в доску. Гужбаны прут на него, а он: «Тебе что, а?» Раз с левши – с катушек гужбан. Он – другому: «Тебе что, а?» Раз опять с левши – с катушек. Четверых, кажется, подряд. А коблы варюжки разинули – ждут очереди. Смех!.. Молодец, Левый, ей-ей!
– Неужели четверых всех? – спросил парень, круглолицый, полный, голубоглазый. – Что же гужбаны, газеты читали?
– Не газеты, а ждали очереди, – спокойно ответил Христос, – когда я коблов бью – они тоже дожидаются.
– До-ля-фа! – раздался чей-то тонкий голос, потом – пение: – Ты не ври, не ври, добрый молодец…
– Брось, Козел, – оборвал поющего Христос, – ты лучше выпить достань. Ведь получку вчера получил?
– Получил.
– Почему не пропил?
– Батька, сволочь, все забрал до копейки.
– Батька? Эх ты! Вот, смотри: плашкет и то батьки не боится, а ты… А еще парнишка покровский…
Он защипал бородку и, прищурясь, посмотрел на кончик лакированного сапога. Потом быстро – к парню:
– Лети к батьке! Затей с ним бузу! Вырви из глотки на две бутылки! Слышишь?
Развел руками:
– Черт знает что! Парень с получки сотки не выпил, а батька теперь хлещет за него.
Парень нерешительно почесал за ухом:
– Попробовать, что ли?
– Бери за горло прямо стервеца! Понял? «Гони, старый хрен, монеты! Какого ты, мол, кляпа?» А зашебаршит – в морду его, сволочь такую.
Гришка, волнуясь, поднялся:
– Вот не люблю старых чертей! Батьку своего я когда-нибудь пришью, чтоб я был подлец!
– Не заливай, Гришка, Фонтанка еще не горит! – засмеялся круглолицый, голубоглазый.
– Будь я проклят, если не пришью, – сказал Гришка убежденно, – ведь это такая стерва! За копейку – удавится, за пятак – штаны спустит…
Замолчал и, тихо посвистывая, прищурясь, смотрел на голубоглазого.
– Ты чего, Гришка, смотришь? – усмехнулся тот.
– Хорошенький ты, Павлик, будто шмарочка. Люблю я тебя, честное слово!
– Тьфу, черт, а еще Христос! – плюнул, смеясь, Павлик.
Гришка не спускал с него насмешливо-ласковых глаз, а в них в упор глядели бесстыдно-ясные, веселые Павликовы глаза, красивые и глуповатые немного, как глаза кукол, и немигающие веки узором длинных ресниц бросали легкую тень на нежно-розовые, как персики, щеки, изредка слегка вздрагивающие от затаенного смеха.
Гришка отвел глаза и вздохнул:
– Стыда в тебе, Павлушка, ни на копейку.
– А на кой он нужен? Пропадешь с ним.
Гришка отвел глаза и опять вздохнул.
– Случается – без него пропадают. И часто.
В это время подошел новый парень, торопливо засовал руку.
– Пряжка катит.
– Врешь? – вскочил Христос.
– Чего – врешь? Скоро будут.
– Много?
– Хватит.
– Ты, плашкетик, – обернулся Гришка к Ваське, – хряй сейчас на Канонерскую, шесть. Окно с сапогом внизу увидишь – скажешь прямо в окно: «Пряжка идет, Христос у Покрова». Лети!
Ветром долетел Васька, бормоча всю дорогу условленные слова, и, добежав до окна с сапогом, выпалил всю фразу в лицо сидящему у окна парню в лиловой рубахе.
Парень высунулся:
– Христос послал?
– Да.
Дал Ваське нож, финку.
– Передай Гришке, скажи: «Перо мореное». Стой! Еще скажешь: «Придут Волк, Пепелов и Сахарный-Женя с перьями». А еще: «Пряжинский Фарватер хочет его, Христа, значит, запятнать».
Когда Васька прибежал к церкви, там уже шли сигнальные пересвистывания.
Радостно и жутко забилось Васькино сердечко от этих свистков.
Кучка покрошей, с Христом во главе, стояла в неподвижном возбуждении, а на другой стороне площади цепью растянулись пряжинские, подвигавшиеся неторопливо.
Только впереди цепи быстро, точно катясь, шли плашкеты – «задевалы», часто останавливаясь, и, засунув в рот пальцы, пронзительно свистели.
Васька вручил атаману нож и передал все, что велел парень с Канонерской.
Гришка хлопнул его по плечу, сказав:
– Молодчик!
Обратился к Павлику:
– Фарватер-Федька хочет меня запятнать, сука!
Потом быстро спросил:
– Самсончик здесь?
– Здесь! – полоснул голосок, и выскочил из кучки парней мальчуган, лет четырнадцати, плотный и загорелый, в тельной полосатой рубашке, босой, чернокудрый и черноглазый, как цыганенок.
– Самсончик и ты, как тебя? – кивнул Гришка Ваське.
– Пловец! – гордо вспыхнул тот.
– И Пловец, примите пряжинских плашкетов. Сколько их? – деловито осведомился он у Павлика.
– Трое.
– Сыпь, хлопцы!
Самсончик примял кепку и пошел, не торопясь. Шел, раскачиваясь, припадая на ноги, подражая походке заправских бойцов.
Васька догнал. Захлебнулся:
– Примем?
– При-мем, – спокойно протянул Самсончик и вдруг скомандовал:
– Стой! Остановились.
Шагах в двадцати – пряжинские задевалы: двое босоногих, как и покровские, один даже без шапки, и третий – в лакировках, пиджаке и московке, как большой.
Скидывая с плеч пиджак, оставшись в одной розовой с синим поясом рубахе, нарядный мальчуган закричал нестерпимо звонким, как разбиваемые вдребезги стекла, голосом:
– Пок-ро-о-в! Выхо-ди-и-и! Пряж-ка приш-ла-а-а-а!









