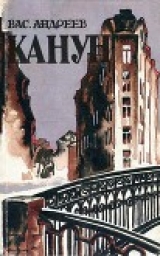
Текст книги "Канун"
Автор книги: Василий Андреев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
7
ВЕЛИКОЕ И СМЕШНОЕ
Один европейский монарх, как повествует история, увидя Наполеона Бонапарта и удивившись, что стяжавший всемирную славу завоеватель ростом двух аршин с небольшим, воскликнул с разочарованием, а возможно, и с насмешкой:
– Такой великий человек и такой маленький!
А если уж, по мнению европейского монарха, великий человек должен отличаться и высоким ростом, то нет ничего удивительного, что жители заставской Бутугиной улицы решительно не признавали героем русско-японской кампании маленького тщедушного портного Сыроежкина.
И как бы он горячо ни рассказывал о том, как «брал Путиловскую сопку» и «загонял япошек в реку Шахэ», которую он, кстати сказать, иногда переименовывал в озеро Ялу, и как бы Сыроежкин при этом ни двигал косматыми бровями, – одни из слушателей недоверчиво и презрительно усмехались, другие же, оскорбленно хохоча прямо в глаза Сыроежкину, подтрунивали:
– А как ты, герой, с бабой со своей воюешь, а?
– Повоюй с Елисейкой! Сейчас его позовем.
Насмешки попадали в цель: жена Сыроежкина, значительно превосходящая мужа в росте, весе и силе, держала его в страхе и трепете и била по всякому поводу, а также и без повода; Елисейка же, шестнадцатилетний татарчонок из конской мясной Сулейманова, здоровый жирный мальчишка, большой любитель бороться, особенно с теми, кто послабее, неоднократно схватывался с пьяным Сыроежкиным и неизменно подминал худосочного героя под свой плотно упитанный кониной живот.
Напоминания о жене и Елисейке вызывали со стороны Сыроежкина целый поток изощренных ругательств.
Ругаться Сыроежкин вообще любил и ругался со смаком и даже с какой-то торжественностью.
– Ловко, – восторгался кто-нибудь из любителей сквернословия. – А ну-ка еще, дядя Николай, по-геройски, а! Как ты этак можешь, специально?
Сыроежкин презрительно сплевывал в сторону и, глядя на спрашивающего, глубоко вздыхал:
– Эх, товарищ дорогой! Тебе эта музыка в новинку, а я уже ее забывать стал. Ты бы послушал, как я раньше крыл… Я, милуша, на весь наш восемьдесят девятый Беломорский полк единственный был спец, ей-богу. Бывало, ротный, поручик Агапеев, красавец-мужчина, призовет меня в канцелярию: «Демонстрируй», – говорит. То есть, значит, крой. Я и загну от всего сердца. А он вынет золотые часы: «А ну-ка, говорит, по часам. На три минуты». Я дую, дую… «Стой, говорит. Правильно – три. Молодец Сыроежкин». – «Рад стараться». – «А теперь, говорит, заведи на пять минут. Промочи сперва глотку». Водчонки нальет. Тяпну. И понесу. А он командует: «Вали в рифму». Это значит – стихами. Я и стихами режу, для меня все равно… А один раз пьяный был ротный здорово – я изобразил что-то этакое особенное, единственное в своем роде, он ну меня целовать, а сам плачет. «Прямо, говорит, ты меня воскресил, жизни мне надбавил, ты, говорит, Сыроежкин, феномен». То есть, значит, спец. И рубль дал, честное слово.
– Тебе, поди, и Георгия-то за матюги дали, – смеялся какой-нибудь балагур, а Сыроежкин на это отвечал витиеватым матом.
Если кто постепеннее укоризненно замечал:
– Не стыдно тебе, Николай? Пожилой ведь ты человек. Тут дети вертятся, а ты – мать да мать!
Сыроежкин, насмешливо присвистнув, вскидывал задорно головою.
– Фью-ю! Сказал: дети. А дети-то, по-твоему, не от матери родятся, что ли? Вот чудак.
– Не от такой матери родятся, – возражал степенный человек.
– В аккурат от этой, брат, от самой, – сплевывал Сыроежкин и лихо сдвигал кепку набекрень.
– Правильно, – ржали «любители». – Молодец, Сыроежкин! Крой!
А Сыроежкин продолжал, обращаясь к степенному собеседнику:
– Ты, чудак-человек, «матушки» не бойся. С ней мы всю жизнь существуем. Горе ли, веселье – все «мать». С матерщинкою и помирать веселее. Я как смерть зачую, так обязательно буду крыть до самого последнего воздыхания. Ей-ей! Приходите слушать – вход свободный. А матерщинка, браток, с сотворения мира в полном ходу, все равно как и солнце. И все святые крыли почем зря. Не читал? То-то и оно. А как мой тезка, Никола-угодник, одному какому-то в церкви по моське съездил! Так что же, по-твоему, молча? Как бы не так! Спервоначалу обложил по существу, а уж опосля – в рыло. Ясное дело.
Был у Сыроежкина когда-нибудь Георгиевский крест или его вовсе не было – все равно, крест этот, действительный или воображаемый, оказался для него очень тяжелым.
Где бы ни появлялся Сыроежкин, все, и взрослые, и дети, называли его «героем», но это величественное слово, сказанное по отношению к Сыроежкину, принимало такой же обидный смысл, как по отношению к карлику слово «великан».
– Герою – почтение!
– Как, герой, живешь? – приветствовали Сыроежкина знакомые.
– Герой идет. Герой!
– Герой, поборись с Елисейкой! – кричали ребятишки, гурьбою двигаясь за пьяным Сыроежкиным.
– Пошли, черти! Хулиганье! – оборачивался Сыроежкин.
Мальчишки, смеясь, отбегали, а кто-нибудь из них, побольше и посмелее, отступал всего на шаг и вызывающе кричал:
– Чего надо? Скажу вот Елисейке, он тебя сомнет в два счета.
Если поблизости оказывался Елисейка, мальчишки звали его, и он появлялся перед Сыроежкиным и, раскинув грязные, в конской крови руки, говорил горячо и торопливо:
– Ну, герой, боремся! Ну?
Сыроежкин отступал, испуганно бормоча:
– Не трожь, голубчик, не надо!
А Елисейка, тараща черные раскосые глаза и раздувая широкие ноздри, свирепо торопил:
– Боремся, живо. Ну? Цычас давлю. Пузом давлю.
И напирал на Сыроежкина широкой грудью и тугим животом, топоча от нетерпения дюжими ногами.
Если Сыроежкин бывал не слишком пьян, то старался избежать схватки с крепкотелым татарчонком, откупаясь папиросами или деньгами; в сильном же опьянении, когда притуплены чувства стыда и боязни, вступал с толстяком Елисейкой в борьбу и неизбежно следуемое за ней свое поражение объяснял тем, что «пьяного любой каждый сомнет очень свободно», на что победитель важно и строго возражал:
– Пианый нэ пианый, все равно мну. У мине жиру много, сила много, у тебе – кожа и кость. Ты – слабый-сильный. Нэ вэрно, ну?
Сыроежкин, несколько отрезвевший от борьбы и опасавшийся, что Елисейка, подуськиваемый мальчишками, станет снова проявлять на нем свою силу, говорил покорно и заискивающе:
– Сила у тебя большая, ничего, брат, не скажу. Вона ты какой здоровяк!
И получал в ответ оскорбительное:
– А ты – клоп.
Если бы Сыроежкин не величал себя героем и не претендовал так упорно на это звание, то вряд ли какой-то Елисейка решился бы попробовать на нем свою силу, а также и жена Сыроежкина, Дарья Егоровна, не так широко пользовалась бы своим физическим превосходством над мужем.
Дарья Егоровна верила или, во всяком случае хотела верить, что муж ее действительно отличился на войне и был награжден крестом, и ей доставляло особенное удовольствие властвовать над героем, над Георгиевским кавалером.
– Будь хоть герой-разгерой, а меня слушайся, – неоднократно говорила Дарья Егоровна, сидя у ворот с соседками и лузгая семечки. – Чтобы я сморчку покорялася – упаси меня, господи! Он у меня пикнуть не смеет.
– Боится? – спрашивали соседки.
– Ужасно как боится, – самодовольно отвечала толстуха, стряхивая с высокой груди шелуху подсолнухов. – Прикрикну – так весь и затрепещется, а ножищей топну – прямо, милые, обмирает, ей-богу! И смешно, и жалко на него, на козявку, глядючи.
– Больно ты с ним строгая, Егоровна.
– А иначе, милые, и нельзя. Строгостью только и беру. Такого человека надо завсегда держать под пятой. А дай ему волю, так он и себя, и меня пропьет. Да и очень уже большое понятие о себе имеет. Даже противно. «Я, мол, мастер на все на восемь ремеслов, я, мол, герой». А я иной раз и посмеюся: «Сморчок ты, говорю, а не герой. Карлик». Озлится, милые, даже с лица сменится, а я потешаюся: «Не злись, не то до основания иссохнешь, а я и так, мол, толстущая, а еще более растолстею от твоей от злости». Так, милые, и закипит весь, а ничего не смеет. Только одно твердит: «Ладно, толстей. Обрастай мясами».
– Чистое у вас кино, – смеялись соседки. – И бедовая же ты, Егоровна. Нынче и нам-то, женщинам, полные права дадены, а ты мужика правов решила.
– Правов от него никто не отымал. Пользовайся, чем полагается. А только из-под начала моего не выходи. А не нравится, ступай на все четыре стороны. Только ему не уйти. И машинка, и вся принадлежность, и мебель – все мое. Евонной и иголки-то и той нету.
Так, лишенный физической силы и имущественных прав, смирялся перед суровой женой Сыроежкин и боялся открыто роптать.
Только один раз, доведенный насмешками приятелей до белого каления, Сыроежкин решил объясниться с женой серьезно, несмотря ни на какие последствия, но пока шел от пивной до дома, решимость его угасла, уступив место обычной робости перед женой.
И объяснения были похожи на мольбу.
– Дарья Егоровна, видишь ли… Ты только не сердись, ради бога… А все-таки, того… обидно, знаешь! Люди в глаза тычут: «Женка, говорят, забрала тебя под пятку и не дает тебе никакого дыхания».
Сыроежкин сам испугался своей смелости и с замирающим сердцем приготовился ко всему, но Дарья Егоровна не закричала и не затопала ногами, а, поставив на стол чашку, из которой только что пила с наслаждением чай, отерла рукавом лицо, напоминающее арбуз в разрезе, и широко улыбнулась:
– Чего же ты, клоп, расстраиваешься? Под моей пяткой – благодать. Места много, тепло и не дует.
И, довольная своим остроумием, толстуха принялась так хохотать, что на кофте ее от волнения могучей груди оторвались пуговицы.
Сыроежкин заплакал от обиды, но Дарья Егоровна не смутилась, так как была уверена, что «это вино плачет», и строго приказала мужу ложиться спать, что тот и исполнил немедленно.
Свою горькую долю непризнанного героя и раба жены Сыроежкин старался утопить в вине.
Выбрав в пивной незнакомого, одиноко сидящего человека, Сыроежкин присаживался к нему и, обменявшись несколькими незначительными фразами, переводил разговор на любимую тему.
– Нынче, товарищ, люди разве что понимают? Тьфу! – презрительно сплевывал Сыроежкин. – Я вот, можно сказать, старый рубака, непосредственный герой японской кампании. Награжден Георгием четвертой степени. Вот… За смелую и бесстрашную разведку… А теперь разве понимают?.. Я, товарищ, и под Шахэ был и Путиловскую сопку брал. То-то и оно… Я восемьдесят девятого пехотного Беломорского полка. А наш Беломорский полк покрыл себя несмертной славой. Вот, товарищ. А они что видели? Тьфу!
Сыроежкин постепенно входил в роль, грозно двигая нависающими бровями, восторженно взвизгивал:
– Ночь. Темь. Метель – с того света. А они прут на нас. Чертова гибель. В три раза больше, чем нас. Понятно: «Банзай!» А мы держим ответный тост. Ура!.. А тут пулеметы, орудия, земля дрожит. Лед на реке, на Шахэ, весь разбит снарядами. А мы без внимания. «Ура» – и никаких данных. А их в пять раз больше. А наш полковой командир, красавец-мужчина, полковник Мансветов Родион Антоныч… Ух, герой был. Единственный, можно сказать, в своем роде. «Братцы, говорит, орлы-беломорцы! Ежели на то пошло, заройте меня в могилу». Ну, мы тут и двинули… Мать честная! Сам Мансветов на белой лошади командует: «В штыки! Вперед, орлы-беломорцы!» Мы – раз! Всех этих самых япошек – в реку, в Шахэ. Всех начисто. Штыковой атакой. Понял, товарищ?
Грозные брови Сыроежкина шевелились над слезящимися, жалостными, как у щенка, глазами, а руки свирепо кололи воображаемым штыком:
– Всех начисто. Раз-з!
Затем боевые эпизоды шли один за другим, повторялись, варьировались.
Река Шахэ превращалась в озеро Ялу, лошадь Мансветова меняла масть, становилась вороной или в яблоках, а сам герой-полковник то поздравлял «орлов-беломорцев» с лихой победой, то, раненный шрапнелью, падал на руки рассказчика, который и выносил его под убийственным огнем неприятеля; а в конце концов уже сам рассказчик вел в атаку славный Беломорский полк, так как полковник Мансветов оказывался убитым наповал пятью разрывными пулями.
Закончив цикл боевых воспоминаний, Сыроежкин упоминал о том, что его «на руках принесли из Маньчжурии», и выходил из пивной, пошатываясь на кривых портновских ногах, а выйдя на Бутугину улицу, начинал петь тонким детским голосом:
Куропаткин генерал,
Предводитель всем войскам.
Он свободно службу знает,
Сидит браво на коне,
Сидит браво, смотрит прямо,
Шашку держит хорошо.
Он вскричал: «Здорово, братцы,
Беломорские орлы!»
– Герой идет, герой! – кричали мальчишки, маршируя за Сыроежкиным.
– Эй, клоп, иди бороться! – звал татарчонок Елисейка, высунув из дверей сулеймановской лавки широкоскулое, мясистое лицо.
– Смотри, орел, женка из тебя цыпленка сделает, – хохотал подмастерье из парикмахерской Пластунова.
А Сыроежкин, тряся головой, словно отгоняя эти крики или тяжелые мысли, запевал пьяным дискантом, вздрагивающим от затаенного страха:
Наши… жены —
Пушки заряжены,
Вот где наши… жены.
8
ВЕРА
Любовь чаще всего является внезапно, как счастье и беда.
Внезапно полюбил и Роман Романыч.
Знакомство с девушкою, для которой открылось его сердце, а также и обстоятельства, при каких это знакомство произошло, были необычными.
Так было. Как-то на пасхе Роман Романыч возвращался домой от Иуды Кузьмича.
Временем, проведенным в гостях, он был чрезвычайно доволен: гости Иуды Кузьмича восторженно принимали пение Романа Романыча, а песню о шуте «Звени, бубенчик мой, звени» он даже был принужден спеть несколько раз, «на бис», и все наперебой советовали ему не зарывать таланта и серьезно заняться пением.
А Иуда Кузьмич так прямо говорил:
– Ты, Ромка, простокваша, а не человек! Я бы на твоем месте давно заимел оперную квалификацию. Прямо бы заявил, куда следует: «Даешь, мол, бенефис, а нет – так гастроль». И баста.
Растроганно добавлял:
– Ты себе цену снижаешь. Ты думаешь – ты парикмахер и все? Брось! Ты – талант. Ты – светоч. Понял? Све-точ!
Роман Романыч жал руку пьяному приятелю и с удовольствием думал: «Когда и ерунду говорит, а иной раз очень даже дельно рассуждает».
Итак, опьяненный успехом и похвалами, Роман Романыч покинул гостеприимный кров Иуды Кузьмича.
Роман Романыч был не прочь посидеть еще, но начались танцы, а он не умел танцевать и стыдился в этом признаваться, а кроме того, ему, мечтательно настроенному, изрядно-таки надоел сильно подвыпивший Иуда Кузьмич, певший одно и то же:
Не пиши, милый, записки,
Не пиши печальных слов,
Не трать денег на бумагу —
У нас покончена любовь.
Улица, на которой Роман Романыч очутился, выйдя от Иуды Кузьмича, была глухая, скудно освещенная; с одной стороны – неогороженная узкая прямая канавка, с другой – пустырь.
Обыкновенно Роман Романыч побаивался ходить в поздние часы по пустынным улицам, но теперь, возбужденный вином, успехом и похвалами, шел весело и бодро, мысленно напевая «Звени, бубенчик». Иногда любимую песню сменял вдруг возникавший в памяти мотив надоевшей за вечер песни Иуды Кузьмича. Тогда Роман Романыч встряхивал головой и ускорял шаг.
Впрочем, шаги его ускорялись еще и по другой причине: впереди шла женщина: торопливый стук каблучков, отдававшийся в ушах Романа Романыча, и заставлял его идти быстрее.
«Вероятно, хорошенькая», – думал об идущей впереди женщине Роман Романыч.
На тот случай, если бы женщина оказалась молодой и хорошенькой, Роман Романыч уже составил план знакомства: первым долгом он извинится за фамильярность и спросит женщину, не страшно ли ей ходить в одиночестве по кошмарным районам; затем отрекомендуется горным инженером и скажет несколько слов о Донбассе; далее заговорит о погоде, например: несмотря, мол, что пасха ранняя, а атмосфера абсолютно майская.
Вообще, только бы клюнуло, а уж он за словом в карман не полезет.
Но вот тут-то и произошло то, что в дальнейшем повело к целому ряду событий, направивших жизнь Романа Романыча на новые пути.
Когда Роман Романыч был уже шагах в двадцати от женщины, с нею поравнялась шедшая навстречу темная мужская фигура.
Мужчина, преградив женщине дорогу, вдруг запел так громко и дико, что женщина, вскрикнув, шарахнулась с панели, а Роман Романыч вздрогнул и остановился как вкопанный, но в следующее же мгновение, видя, что человек снова двинулся к женщине, продолжавшей испуганно кричать, Роман Романыч поспешно достал из кармана свисток, который он постоянно носил на всякий случай, и стал свистать.
Человек, спотыкаясь и шатаясь, побежал через пустырь, а Роман Романыч, еще держа в руке свисток, подошел к женщине и, приподняв шапку, произнес давно заготовленную фразу:
– Извиняюсь, мадам! Как это вы рискуете ходить в полном одиночестве по таким мрачным и кошмарным районам?
Сказано это было с исключительной нежностью, на какую вообще был способен Роман Романыч, когда приходилось разговаривать с женщинами.
Женщина подняла на Романа Романыча совсем юное лицо и вздрагивающим от недавнего испуга голосом пробормотала что-то о хулиганах, а Роман Романыч, довольный удачным началом, продолжал:
– Очень, очень рискованно молоденьким барышням прогуливаться в этих Палестинах. Разная тут публика шляется: хулиганы, налетчики, а то, понимаете ли нет, и гнусные насильники. Я уже на что человек бывалый, одно слово – горный инженер, приходилось обретаться и на Урале, и в Донбассе, всякого народу перевидал на своем веку и в каких только переделках не бывал, а все-таки, понимаете ли нет, принимаю меры предосторожности: свисток, как видите, постоянно имею при себе, а иной раз и револьвер, и форму не надеваю, а так, по-простецки, в кепочке.
И хотя было очевидно, что пристававший к девушке прохожий – просто-напросто пьяный безобразник, Роман Романыч между тем развивал мысль, что спас девушку от рук грабителя.
– Хорошо, понимаете ли нет, – говорил Роман Романыч, идя рядом с девушкою, – что я тут на счастье подвернулся, а то вы, определенно, оказались бы жертвою бандитизма. Они, налетчики-то, постоянно так: прикинется, понимаете ли нет, чудачком, пьянчужкою, горланит: «Не пиши, мол, записок, на бумагу не траться», да вдруг: «Здрасте, пожалуйста! Руки вверх, кошелек или жизнь». А то и без предупреждения – бах из нагана, и вся недолга. Слава те господи, мне благодаря своей инженерской профессии со всяким народом случалось сталкиваться и попадать, понимаете ли нет, в самые непромокаемые переплеты. Даже самому дивно, как цел остался, ей-богу!
Девушку Роман Романыч проводил до дома, настойчиво вручил ей визитную карточку и узнал имя девушки. Звали ее Верой.
Домой Роман Романыч вернулся в радостно-возбужденном состоянии.
Курильщик, лишенный табака, или чистоплотный человек, почему-либо с утра не умывшийся, чувствуют, что чего-то недостает, что-то важное не сделано.
И это ощущение портит настроение, мешает работать, сосредоточиться.
Подобное же ощущение досадливой неловкости, неудовлетворенности стал испытывать Роман Романыч со следующего же дня после случайного знакомства с девушкою.
А от этого ощущения и работа не клеилась: Роман Романыч то забывал предложить «освежить», «положить пудры», то вовсе не правил бритву или, наоборот, принимался править два раза подряд, а один раз даже порезал клиента, и когда тот слегка упрекнул его в неосторожной работе, Роман Романыч не извинился, а, ткнув пальцем в темный, с серебряной надписью плакат, сказал довольно резко:
– Тут, понимаете ли нет, черным по белому объявлено, как надо реагировать. Вот и реагируйте!
– Я понимаю и реагирую, а вы нервничаете, – резонно возразил клиент, но Роман Романыч, не слушая его, раздражительно продолжал:
– Удивительная публика! Черным по белому сказано как и что, а они не понимают.
Чувства досады и неудовлетворенности не покидали Романа Романыча все время и нередко переходили в сильное, как голод и жажда, желание увидеть девушку, встреченную вечером на пасхе.
Мысли о ней не давали Роману Романычу покоя. И он ежедневно по вечерам отправлялся гулять около дома, где жила девушка, в надежде встретить ее.
Чуть не каждую женщину он издалека принимал за Веру и тогда, замирая от радостного испуга, чувствуя, как кровь заливает лицо, торопливо шел навстречу идущей. Когда же уверялся, что это не та, кого он искал, то сразу начинал чувствовать усталость и даже озлобленность.
А однажды так обознался, что подошел к какой-то девушке, ожидавшей трамвая, и, приподняв инженерскую фуражку, произнес радостно и развязно:
– Наконец-то повстречались! Сколько лет, сколько зим!
– Что такое? – испугалась девушка и попятилась от него.
– Извиняюсь, я, понимаете ли нет, ошибся, – смутился Роман Романыч. – Очень ваша личность схожая с одной знакомой девицей.
После неудачных поисков Веры Роман Романыч приходил домой совершенно разбитый и упавший духом, но на следующий день снова радостно и бодро шел искать и возвращался опять разочарованный.
Роман Романыч не мог ясно представить лицо и фигуру Веры. Тогда, при скудном свете фонарей, он различил только, что девушка роста среднего, стройная; лицо у нее очень молодое, белое, с темными тонкими бровями.
Думая теперь о ней, он находил, что она похожа на ту виденную им в детстве красавицу Снегурочку, а временами ему даже казалось, что Вера и есть та самая Снегурочка.
И хотя сознавал, что этого никак не может быть, радовался, что как бы нашел ту, которую искал.
Веру ему напоминало все: улицы, люди, блеск солнца в стеклах витрин, свет фонарей, разноголосые шумы и гулы города и случайные звуки откуда-то прилетевшей музыки.
Еще: первая встреча с Верой напоминала то, когда он впервые услыхал «Звени, бубенчик» в исполнении известного эстрадного певца.
Тогда, силясь припомнить мотив песни и то находя его, то снова теряя, он испытывал то радость и наслаждение, то страдание и тоску.
Может быть, было так оттого, что музыка, мелодии имеют нечто общее с чувством любви, с влюбленностью.
Когда долго ищешь что-нибудь и никак не можешь найти, то лучше всего на время прекратить поиски, а потом снова начать искать, не думая, что найдешь, так, не волнуясь, не спеша, как бы нехотя. И найдешь.
И большей частью там, где раньше особенно тщательно искал.
Так вышло и у Романа Романыча: он уже потерял всякую надежду встретить девушку, не дежурил у дома, где она жила, а случайно, проходя мимо дома, встретил ее, направляющуюся в сопровождении молодого человека к воротам дома.
Роман Романыч страшно смутился и хотел отвернуться, но, заметив, что девушка пристально на него смотрит, раскланялся с нею.
Она улыбнулась и остановилась, остановился и ее спутник. Оба глядели на Романа Романыча.
Роман Романыч не знал, что дальше делать. Уже хотел пройти мимо, но вернулся и, подойдя к девушке, вторично приподнял фуражку.
– Извиняюсь. Вы меня признаете?
– Как же! – улыбнулась девушка. И обратилась к молодому человеку. – Это, Володя, и есть инженер Пластунов. Знакомьтесь. Это мой брат, Владимир. Лучше зовите Вовка, – улыбнулась она.
Роман Романыч вежливо и солидно раскланялся с молодым человеком.
Ему особенно понравилось, что девушка многозначительно подчеркнула слово «инженер».
– Зайдите к нам! – предложил брат Веры.
– Что вы! Зачем же? – опять смутился Роман Романыч.
Девушка весело рассмеялась:
– Боитесь? Разве мы такие страшные?
– Что вы! Наоборот, – пробормотал Роман Романыч.
Он зашел к ним. Просидел весь вечер.
Вера и ее брат разговаривали с Романом Романычем, как со старым знакомым, так что под конец вечера он перестал смущаться и чувствовал себя как дома.
Говорили о театре, о кино, о последнем боевом фильме, о певцах.
– Я, понимаете ли нет, – говорил Роман Романыч, слегка кокетничая, – ужасно обожаю театр. Особенно оперу. Меня, что называется, хлебом не корми, а дай послушать какую-нибудь вещицу. Вот, например, «Звени, бубенчик мой, звени» очень, понимаете ли нет, превосходная оперная ария. Я ее сам прекрасно исполняю.
Упомянул вскользь и о Донбассе, и об инженерстве. По обыкновению, пожаловался на труд инженера.
– Заработок, слов нет, великолепный, а вот работа беспокойная. Разъезжай то туда, то сюда. Нервы издергивает здорово. И ответственность большая. Чуть что не сообразил, не взвесил, как следует быть – ну, понимаете ли нет, – и пропало дело.
Уже поздно вечером Роман Романыч собрался домой.
Брат Веры просил его заходить по четвергам с восьми часов.
Мать, пожилая женщина с приветливым лицом, тоже сказала:
– Заходите, Роман Романыч!
Прощаясь, Роман Романыч с чувством поцеловал руку Веры.
Подойдя к ее матери, подумал: «Старым целовать не принято».
И крепко пожал старушкину руку.
9
ТРИГОНОМЕТРИЯ
Каждый четверг, ровно в восемь часов вечера, Роман Романыч дергал медную ручку звонка у двери, на которой белела приколотая кнопками самодельная визитная карточка: «Владимир Валентинович Смирин».
Дверь отворяла мать Смириных, Любовь Васильевна.
Кутаясь в пуховую косынку, она говорила, приветливо улыбаясь:
– Здравствуйте, Роман Романыч!
Роман Романыч почтительно пожимал ей руку.
– Проходите! Володя дома, – приглашала Любовь Васильевна.
Роман Романыч вежливо отвечал: «Очень приятно» и проходил по темноватым комнатам в самую заднюю, большую и тоже полутемную комнату, где, кроме брата и сестры Смириных, всегда находился кто-нибудь из молодых людей – приятели Владимира или подруги Веры.
Знакомя Романа Романыча с гостями, Владимир и Вера постоянно к его имени, отчеству и фамилии прибавляли – «инженер», что отчасти смущало Романа Романыча, но в то же время и весьма льстило его самолюбию.
Комната, где собирались гости, была обставлена хорошо: кожаные кресла и стулья, большой, с высокой спинкой, кожаный диван, массивный письменный стол, на стенах несколько картин непонятного содержания, оленьи головы, портреты Владимира, Веры и их покойного отца, гвардейского полковника с пушистыми усами. А над письменным столом – портрет длинноволосого худого человека, устремившего куда-то вдаль безумные глаза.
За несколько четвергов Роман Романыч поближе познакомился с гостями Смириных.
Почти все очень молодые люди.
Роман Романыч считал их учащимися. Большинство из них приносило с собою солидные портфели. После и Роман Романыч стал приходить с портфелем. В портфеле лежала вечерняя газета и иностранная книга, с которой Роман Романыч раньше сиживал в скверах.
Гости Смириных разговаривали большей частью о книгах, о стихах, спорили; иногда говорили о кино.
Тогда Роман Романыч поддерживал разговор: хвалил или ругал, как и все, какой-нибудь последний фильм.
Впрочем, гости Смириных Романа Романыча не интересовали.
Интересовала его только Вера.
Вера действительно была очень недурна.
Прелестные светло-серые с каким-то особенным, словно внутренним блеском глаза; стрельчатые шелковистые ресницы; тонкие правильные дуги темных бровей красиво выделялись на лице изумительной белизны и свежести, и, что редко бывает у женщин, – красивые ноги: полные, но очень стройные, точеные, с небольшими, плотными ступнями. Обтянутые белыми чулками ноги Веры напоминали ноги мраморных статуй.
Не портила девушку и некоторая полнота.
Но особенно в ней привлекало сочетание чего-то нежно-детского с величественно-женственным.
Из подруг Веры были еще две недурненьких: Тамара – черненькая, бойкая, прозванная Чертенком, и Любочка Волкова.
Но у Тамары был некрасивый подбородок, острый и великоватый, и узкая втянутая спина, а Любочка Волкова, хорошенькая лицом, имела такие короткие ноги, что, когда она стояла, было похоже, что сидит.
Любочку всегда сопровождал, не отходя от нее ни на шаг, единственный пожилой гость Смириных, очень болтливый и всегда нетрезвый человек, до смешного гордящийся тем, что носит фамилию последнего министра последнего царя.
Любочка в болтовне не уступала старику с фамилией министра, но его болтовня была язвительна и желчна, а Любочкина – вздорна и всегда неуместна.
Любочка все время смеялась, даже тогда, когда ела и пила.
Она была здорова, как рыба, и, как рыба, – глупа.
Самые глупые шутки она принимала всерьез и задавала такие нелепые вопросы, до каких не додумывался даже Иуда Кузьмич Моторин.
Так, Любочка Волкова вполне серьезно могла спросить:
– Почему летом жарко, а зимою холодно?
Или:
– Что было бы, если бы люди не умирали?
Роман Романыч мысленно называл Любочку дурочкой. На Веру же смотрел со скрытым восторгом, ловил каждое ее движение, жесты. И был убежден, что вся молодежь ходит к Владимиру исключительно из-за Веры и что все безумно в нее влюблены. И поэтому всех их Роман Романыч считал своими соперниками, не сближался с ними и втайне гордился своей красивой наружностью, обеспечивающей, по его мнению, победу над сердцем красавицы Веры.
Верой Роман Романыч тоже гордился. Особенно после такого случая. К Смириным ходил известный, выпустивший в свет несколько книг писатель. Однажды он пришел пьяный, стал перед Верою на колени и просил, чтобы она позволила поцеловать ее ногу. Получив отказ, он стал просить разрешения поцеловать ее туфельку, а когда ему и в этом было отказано, пытался выброситься за окно.
Тогда Вера, уйдя за ширму, выбросила оттуда туфельку, которую сумасбродный писатель принялся страстно целовать.
Вспоминая об этом случае, Роман Романыч думал:
«Писатель не писатель, а ничего, брат, не попишешь: туфель поцелуй и считай за счастье неземное. Ловко!»
А спустя несколько времени, встретив писателя уже значительно пьяного, пригласил его в ресторан и там осторожно заговорил о Вере Смириной.
Писатель уставился на него мутными, пьяными, измученными глазами и заговорил, морщась как от боли:
– Я горд, самолюбив. Я невозможен: дик, необуздан в страстях. Я – пьяница, развратник, дебошир. О моих скандалах в газетах писали. Но сердце у меня детское: дикое и чистое, как у Дмитрия Карамазова. И о ней, о Вере, скажу словами Мити Карамазова: «Царица души моей».
И, криво усмехнувшись, добавил:
– Все под Достоевским ходим, верно?
Роман Романыч не понял, о каком Карамазове говорит пьяный собеседник, и еще более было неясно, почему все должны ходить под каким-то Достоевским, но утвердительно кивнул головою.
А писатель продолжал тихо и раздумчиво:
– Первый раз я увидел ее, когда ей было лет двенадцать, не больше. Да, лет двенадцать. Она и тогда была красива и стройна. Я сразу ополоумел. Понимаете… Я ночи не спал, стал писать стихи. Чуть не ежедневно ездил к ним. Просиживал часами с Владимиром и его матушкой. А Верочка играла в соседней комнате с подругою. Вот с этой же, с Чертенком. А я сидел как дурак. Чтобы только слышать ее детский смех, почувствовать в своей руке ее ручку при встрече и при прощании. Дома я негодовал на себя, презирал. Но я ее чисто любил. Мне только хотелось смотреть и смотреть на нее. Я стихи тогда писал. Дурацкие, как гимназист. А был женат уже, имел ребенка.
Писатель засмеялся горько и зло:
– Слушай, какие я писал стихи. Постой… Как это? Да:







